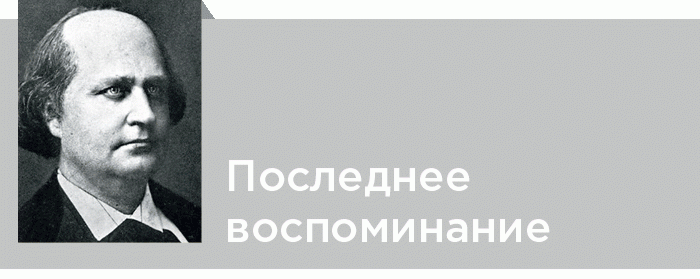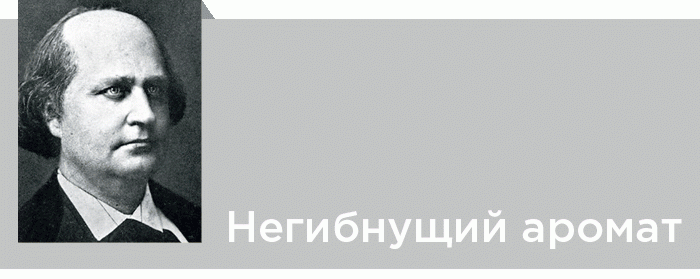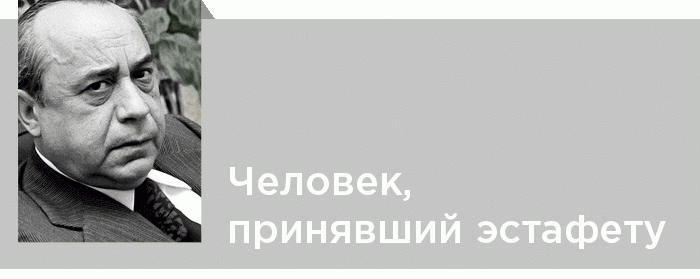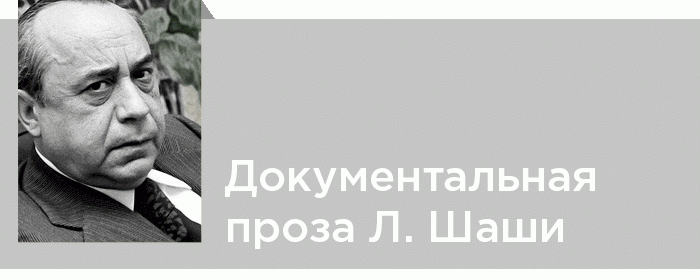Леонардо Шаша. Американская тётушка
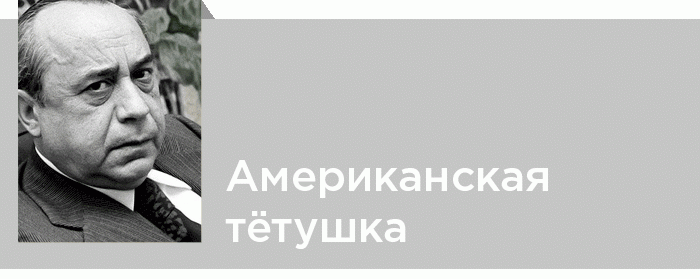
(Отрывок)
В три часа дня на улице свистнул Филиппо. Я выглянул в окно.
— Они уже на подходе, — выпалил Филиппо.
Я бросился вниз по лестнице, мать что-то крикнула мне вдогонку.
На улице, залитой слепящим солнцем, не было ни одной живой души. Филиппо стоял в дверях дома напротив. Он рассказал мне, что видел на площади мэра, каноника и фельдфебеля, они ждут американцев, какой-то крестьянин принес известие, что американцы вот-вот появятся — они уже у моста через Каналотто.
Ничего подобного — на площади торчали два немца; они расстелили на земле карту, и один из них отметил на ней карандашом какую-то дорогу, произнес какое-то название и поднял глаза на фельдфебеля, тот сказал:
— Да, верно.
Потом немцы сложили карту, направились к церкви, под портиком стояла машина, покрытая ветками миндального дерева. Они вытащили из нее каравай хлеба, ветчину. Спросили вина. Фельдфебель послал карабинера за фьяской в дом каноника. Наши были как на иголках из-за этих двух немцев, которые преспокойно закусывали, в наших сидели страх и нетерпение, потому-то каноник недолго думая решил расстаться с фьяской вина. Немцы поели, осушили фьяску, закурили сигары. Уехали они, даже не кивнув на прощанье. Тут фельдфебель заметил нас с Филиппо, заорал, чтобы мы убирались, а не то получим по хорошему пинку.
В общем, никаких американцев. Мы видели немцев, а американцы неизвестно когда еще появятся. С горя мы отправились на кладбище, оно находится на холме, оттуда было видно, как самолеты с двумя хвостами пикировали на дорогу, ведущую в Монтедоро, как они снова взмывали в небо, а над дорогой наливались черные тучи, потом мы слышали звук лопающихся бутылок. На дороге оставались черные грузовики, снова наступала тишина, но двухвостые самолеты возвращались, терзая ее новыми выстрелами. Здорово было глядеть, как они бросались на дорогу и тут же опять оказывались высоко в небе. Иногда они пролетали низко над нами, и мы махали руками американскому летчику, который, мы думали, смотрит на нас. Но вечером в город привезли возчика с развороченным животом и парнишку, раненного в ногу: они тоже махали руками, и двухвостый ударил по ним очередью. Двухвостые упражнялись в стрельбе по цели, они палили даже по скирдам, по волам, которые паслись на жнивье. Назавтра мы с Филиппо устроили вылазку за город, туда, где шарахнуло возчика, вокруг валялись гильзы, крупные, как двенадцатикалиберные от отцовского ружья. Мы набили ими карманы. Все поле было в нашем распоряжении, безмолвное и залитое солнцем. Крестьяне не могли выйти из города, милиция блокировала дороги, мы же выбирались по козьей тропе, она выводила нас к каменному карьеру и потом в открытое поле. Мы рвали миндаль с зеленой и терпкой кожей, внутри белый, как молоко, и майские сливы, которые вызывали оскомину, зеленые и кислые. Мы рвали столько, сколько могли унести, мы потом продавали это добро солдатам, вернее, меняли на «Милит». С «Милитом» мы здорово придумали, благодаря этим сигаретам мы целый год жили припеваючи. В то время мужчины курили все что попало; мой дядя перепробовал виноградные листья, спрыснутые вином и засушенные в духовке, листья баклажанов, сдобренные медом и вином и затем высушенные на солнце, корни артишоков, вымоченные в вине и побывавшие в духовке; поэтому за одну сигарету «Милит» он платил иногда и по пол-лиры. Сначала я называл цену, брал деньги вперед; затем извлекал на свет две-три сигареты — дневную норму. Вечером взрослые пытались прибрать мой заработок к рукам, а может, еще сигареты искали: я притворялся спящим и видел, как они перетряхивали мою одежду, рылись в карманах. Они никогда ничего не находили, я заботился о том, чтобы потратить все до последнего, прежде чем вернусь домой, а если у меня оставались сигареты, я прятал их, придя домой, в подставку для зонтов. Никому не хотелось портить со мной отношений из-за сигарет, которые я добывал для дяди; когда отец злился, что я занимаюсь ростовщичеством, дядя успокаивал его, опасаясь, что этой торговле придет конец. Дядя кружил по дому, все время повторяя: «Без курева мне смерть», он глядел на меня с ненавистью и потом сладким голосом спрашивал, нет ли у меня сигаретки. Как-то один солдат из Дзары за два яйца, которые я стащил дома, дал мне пачку «Серальи», двадцать штук, дядя выложил мне за нее двенадцать лир. К вечеру у меня ни осталось ни гроша, отец готов был убить меня, но на мою защиту встал дядя, испугавшись, что на следующий день у него не будет сигареты, чтобы закурить после ячменного кофе, когда ему курить хотелось — хоть вешайся. С того дня, когда неожиданно загудели колокола и с улицы крикнули, что американцы уже в Джеле, дядя сделался как сумасшедший, и я поднял цену за штуку «Милита» до одной лиры. На третий день после начала заварухи школьный сторож, проходя мимо нашего дома, крикнул дяде, стоявшему у окна: «Мы их отогнали, у Фаваротты немцы атаковали, ну и бойня была!» — и дядя завопил, повернувшись к нам:
— Мы утопим их в песках и в море, как говорил дуче, в песках и в море! — Затем он заявил, что не станет платить впредь больше, чем пол-лиры за сигарету. Сообщение сторожа оказалось ложным, и вечером цена в одну лиру была восстановлена.
Филиппо загонял сигареты брату и еще официанту из благородного собрания, который после перепродавал их кому-нибудь из членов клуба, зарабатывая на этом. На вырученные деньги мы играли в пристеночку или в орла и решку с другими ребятами, покупали приторные тянучки из плодов рожкового дерева и каждый вечер смотрели кино. Филиппо обладал исключительной способностью попадать плевком в двухсольдовую монетку на расстоянии десяти шагов, в морду нежащегося на солнышке кота, в трубки стариков, которые чесали языки, сидя перед клубом страховой кассы. Я мазал, ошибался на добрую пядь, но в кино сходило и так, там-то нельзя было промахнуться. Это был старый театр, и мы всегда забирались на галерку. Сверху, в темноте, мы два часа кряду плевали в партер, с перерывами в несколько минут от одного воздушного налета до другого. Голоса пострадавших неистово поднимались в тишине: «Мать вашу так!» Снова тишина, звук открываемых бутылок газировки и потом опять: «Так вашу...» — и еще голос блюстителя порядка, обращенный наверх: «Если я поднимусь, я вас там четвертую, как бог свят!» — но мы-то были уверены, что он нипочем не решится подняться. Как только дело доходило до любовных сцен, мы принимались громко дышать, как бы во власти неукротимого желания, или со свистом втягивали в рот воображаемых устриц, издавая звуки, похожие на поцелуи; на галерке то же самое проделывали и взрослые. Против этого партер тоже возражал, правда, более снисходительно и сочувственно: «Что они там, помирают, что ли? Подумаешь, баб никогда не видели, сукины дети!» — не подозревая, что основная доля звуков исходила от нас двоих, черпавших в любовных историях фильмов вдохновение для того, чтобы плевать на этих разомлевших идиотов.
Но в дни заварухи кино не работало. На улице нельзя было показаться без письменного разрешения фельдфебеля, у моего отца оно было, чтобы ходить в контору, лишь карабинеры и милиция разгуливали по пустынным улицам. В школе голодные солдаты валялись на раскладушках, играли в мору, чертыхались. Майор с белой эспаньолкой, их командир, куда-то исчез, капитан и лейтенант тоже. Остался старший сержант, который, чтобы не помереть от скуки, играл на корнете как проклятый. Когда крутили фильмы, ни у кого из солдат не было охоты смотреть их, звуковое кино до нас еще не дошло, а немое они считали ерундой. Теперь не было даже кино, на рассвете десятого июля загудели колокола, и город опустел, будто раковина; и у жизни было глухое и непонятное звучание, как у морской раковины, точь-в-точь как у раковины, когда ее поднесешь к уху; люди сидят по домам; лавки заперты, как при приближении похоронной процессии; и шепот ожидания, нетерпения; мы жались к стенам, ныряли в парадные, избегая встреч с карабинерами. До чего же хорош был город в те дни, пустынный и полный солнца! Никогда пение воды из колонок не было прежде таким свежим и нежным; и блестящие самолеты метались в небе, которое тоже представлялось нам более пустынным и далеким, чем обычно. Нам казалось, что американцы не хотят приходить в этот тихий вымерший городишко, что они собираются обойти его с двух сторон и так и оставить в ожидании: с них хватало того, что они смотрели на него сверху — белый и безмолвный, как кладбище.
Отец Филиппо был столяром. Когда-то он ходил в социалистах, его частенько вызывали в казарму и держали там по нескольку дней. При виде чернорубашечников Филиппо всегда бормотал: «Рогоносцы» — и, когда мог, припечатывал им плевок на спину. Он потому и ждал американцев, что его отец собирался задать перцу всем этим рогоносцам, таскавшим его в казарму. Хотя мой отец никогда не ругал фашистов, я был на стороне Филиппо и его отца, у которого в мастерской приятно пахло тесом и краской, а за дверью над огнем дымился котелок с клеем, от этого дыма во рту оставался сладкий вкус. Я тоже ждал американцев. Мать рассказывала мне про Америку, где у нее была богатая сестра, владелица большого магазина, у нее четверо детей, один сын был уже взрослый, он мог находиться среди тех солдат, которых мы ждали. И Америка рисовалась мне огромным стором моей тети, огромным, как площадь Кастелло, заваленная всяким добром — одеждой, кофе, мясом, а сын тети, солдат, был, конечно, великим мастером по части файтов — у него с собой полно добра, он расскажет про американский магазин и устроит веселую жизнь рогоносцам, всем, кого покажет ему отец Филиппо.
Но американцы не приходили. Может, они остановились в соседнем городишке и валялись на раскладушках, играли, как здесь наши солдаты, которые выкрикивали цифры и выбрасывали пальцы из сжатого кулака, чертыхались, уверенные, что им не миновать плена. Однажды наши солдаты попросили у нас старую одежду, они хотели переодеться в штатское, чтобы не попасть в плен. Я поговорил с матерью, и она дала мне отцовские и дядины обноски, кое-что притащил и Филиппо. Солдаты обрадовались, а те, кому ничего не досталось, сами отправились на поиски. Это было хорошо — значит, американцы и в самом деле придут.
В тот день, когда я узнал, что американцы на подходе, а вместо них через город проехали два немца, слух про американцев таинственным образом разнесся по всему городу, и отец с дядей принялись сжигать членские билеты фашистской партии, портреты Муссолини, брошюры о Средиземноморье и империи; значки и прочие железные побрякушки они закинули на крышу дома напротив. Но назавтра столь же таинственно распространился слух, будто немцы, на этот раз всерьез, сбрасывают американцев в море между Джелой и Ликатой.
Секретарь фашистской партии, вот уже несколько дней из осторожности отсиживавшийся дома, снова стал появляться на улице. Он метал вокруг взгляды, которые, как мерещилось моему отцу, останавливались на петлицах, где обычно красовался паук, и, если паука не оказывалось на месте, глаза секретаря леденели, в них были упрек и презрение, словно он хотел сказать, что непременно запомнит всех этих трусов, позакидывавших значки на крыши. Мой отец не верил, что немцам и впрямь удастся сбросить американцев в море, но взгляды секретаря действовали ему на нервы. Он предложил нам с Филиппо поискать значки на крыше дома напротив, пообещав в награду две лиры. Дело было плевое, но моя мать чего-то испугалась, она принялась поносить фашизм и эти значки. Она не имела ничего против того, чтобы на крышу лез Филиппо, по ее словам, более сильный и ловкий, чем я, только бы этого не делал ее неуклюжий сын с тонкими, как спички, ногами, который, чего доброго, еще свалится оттуда. Филиппо чувствовал себя польщенным, но без меня взбираться на крышу побаивался. А я не боялся. Я потребовал деньги вперед, отец, ругаясь, раскошелился. Мы взяли приставную лестницу и полезли наверх. С балкона нашего дома отец корректировал поиски:
— Вы что, ослепли? Да вон они блестят, да нет, правее, сзади, а теперь под носом у вас, нет, левее.
Мы босиком ходили по крыше, мы не слезли даже после того, как нашли значки.
Отец выбросил две лиры на ветер: в это самое время в город входили американцы, и ему пришлось снова избавляться от значков, но тут уж он спрятал их поближе — в горшке с петрушкой.
Разгуливая по крыше, мы вдруг услышали многоголосый рев, как будто где-то включили радио во время репортажа о футбольном матче и как раз там кто-то забивает гол. Удивленные этим шумом, неожиданным в безмолвном городе, мы на мгновение остолбенели, но тотчас сообразили, в чем дело, скатились по лестнице, сунули ноги в ботинки, которые оставили внизу, и, потопав, чтобы пятки ушли в башмаки — вечно нам доставалась тесная обувь, — помчались по улице; моя мать, надрываясь, кричала, чтобы мы вернулись, что может подняться стрельба, что нас увезут — там негры, бог знает, на что они способны.
На площади собралась огромная толпа, она орала и хлопала в ладоши, но среди всех голосов выделялся голос адвоката Даньино, здоровенного верзилы, меня восхищало в нем то, как он кричал «эйя», а сейчас он вопил: «Да здравствует звездная республика!» — и хлопал в ладоши. Оплетенные бутылки с вином, переходившие из рук в руки, плыли над толпой; проследив путь бутылок, мы пробрались туда, где стояли американцы — пятеро в темных очках и с длинными винтовками. Священник из прихода Сан Рокко, в брюках и без воротничка, разговаривал с ними, бледный и вспотевший, то и дело произнося: «Плиз, плиз», но американцы не слушали его, казалось, что они пьяные, они поглядывали по сторонам и курили нервными затяжками. Стаканы наполнялись красным вином, их с вежливой настойчивостью предлагали американцам, но те отказывались пить. Адвокат Даньино стоял на принесенном из клуба стуле, он все время гремел: «Да здравствует звездная республика!»; отец Филиппо нашел нас в толпе и увел со словами: «Идите домой, хватит вам слушать этого рогоносца, все сволочи повсплывали». А вот мне нравилось, что даже адвокат Даньино радостно кричал: «Да здравствует звездная республика!» — это у него получалось не хуже, чем в тот раз, когда он надрывался с вокзального балкона: «Дуче, жизнь за тебя!» Что ни праздник, адвокат Даньино всегда кричал; я не мог понять, почему отцу Филиппо, который так ждал американцев, этот день не казался праздником, и он уводил нас, и у него было бледное и хмурое лицо, и я чувствовал, как его рука дрожала на моем плече.
Когда мы подошли к мастерской, я сказал: «Я домой», — и убежал. Мне не хотелось пропускать ни одной подробности праздника. На площади я увидел, что американцам удалось немного оттеснить толпу, они держали винтовки наперевес, как мой отец, когда он в поле подстерегал жаворонков; народ столпился под вывесками дома фашио, люди пытались сбить их жердями, но вывески были прикреплены к решетке балкона, какого-то человека подсадили, и, как только он оказался на балконе, ему зааплодировали. Вывески с грохотом рухнули, их начали топтать, потащили по площади. Американцы смотрели на все это, о чем-то переговаривались между собой и не обращали внимания на священника, твердившего «Плиз, плиз», и на адвоката Даньино, который больше не кричал, а подошел к американцам и что-то нашептывал на ухо одному из них, с черными нашивками на рукаве, может, это был капрал. Потом откуда-то вынырнул бригадир с четырьмя карабинерами, солдаты направили на них винтовки; когда карабинеры приблизились, один из американцев подошел к ним со спины и проворно снял с них кобуры с пистолетами. Снова взрыв аплодисментов.
— Да здравствует свобода! — заорал адвокат Даньино.
Неожиданно над толпой взвился американский флаг, его крепко держал сторож из начальной школы, человек, каждую субботу разгуливавший по городку в черном мундире и носивший красную повязку сквадриста; когда сторож злился, он бил ребят в вестибюле школы, и директор объяснял родителям, приходившим жаловаться: «Что вы хотите, с этим несчастным человеком нет сладу, иной раз он пускает руки в ход даже против меня; но ничего не поделаешь, он участвовал в походе на Рим, дуче премировал его радиоприемником». Теперь сторож держал американский флаг и вопил:
— Да здравствует Америка!
Но американцы не обращали внимания на людей, протискивавшихся поближе к флагу. Они сказали что-то священнику, и священник объяснил бригадиру:
— Они хотят, чтобы вы пошли с ними.
Бригадир согласился и ушел с американцами. Если бы Филиппо был рядом, мы бы отправились за ними, а одному мне не хотелось. Я остался рядом с четырьмя обезоруженными карабинерами, которые не решались поднять глаза на людей и стояли как побитые собаки.
Потом со всех сторон стали съезжаться бронемашины и грузовики. Толпа, аплодируя, расступилась, солдаты бросали в нее сигареты, поднималась свалка, и некоторые из американцев щелкали фотоаппаратами.
Не знаю почему, но неожиданно я почувствовал, как к горлу у меня подступают слезы; может, тут были виноваты карабинеры, может, этот флаг над толпой, может, я подумал о Филиппо и его отце, которые остались одни в мастерской, может, о матери. Мне вдруг страшно захотелось домой, как будто я боялся, что найду его не таким, каким оставил; бегом я поднялся по улице, где звучали теперь праздничные голоса, и, когда я закрыл за собой дверь, мне показалось, что все это сон, который снится кому-то другому, снится, как я устало взбираюсь по лестнице и вот-вот разревусь.
Отец говорил о Бадольо. Дядя, подавленный, похожий на мешок с опилками, оживился при виде меня: он извлек из кармана пачку сигарет «Raleigh» с портретом какого-то бородача на ней и притворно нежным голосом спросил:
— Интересно, сколько ты мне заплатишь за эту пачку?
Я разрыдался.
— Плачь, плачь, — продолжал дядя, — кончилась для тебя лафа; даже если твоего дядю приговорят к расстрелу, ему хоть накуриться дадут перед смертью.
— Оставь его в покое, — сказала мать.
На площади понавешали объявлений. Одно начиналось так: «I, Harold Alexander...» — и отец объяснил, что американцы требуют сдачи ружей, пистолетов, даже сабель. В другом объявлении говорилось, что солдатам запрещено находиться в городе; но ясно, что солдаты плевали на это запрещение, вечером маленькая площадь так и кишела джипами, солдаты искали женщин, тащили их в кафе и пили; они вытаскивали из карманов брюк горсти денег, бросали их на стол и пили из горлышка. Усаживали женщин к себе на колени и пили. Женщины были непристойные и грязные, жутко уродливые; одну из них в городе называли «велосипедом», она ходила так, как будто ехала на велосипеде в гору, по-моему, она смахивала на краба; американцы сажали ее на колени, она переходила от одного солдата к другому, ей совали в рот бутылку, и она качалась, пьяная вдрызг, и мычала похабные слова. Солдаты смеялись, потом, как мешок, бросали ее в джип, увозили с собой. Многие солдаты говорили на сицилийском диалекте; в первые дни наши считали, что они не понимают ни слова на диалекте, может, первые американцы, которые прошли через город — их дивизия называлась «Техас», — и правда не понимали, но потом в одном кафе какой-то американец спросил бутылку, показал ее на полке, собрался платить, а бывший в кафе парень возьми и скажи хозяину:
— Сдери с него десять долларов.
Американец обернулся злой-презлой и выдал на диалекте:
— Пусть сдерет их с твоего рогатого отца.
Доллары с желтым штампом и амлиры стимулировали сводничество, и оно процветало вовсю. Кто-то устраивал солдатам свидания с затворницами из затворниц, с женщинами, которые никогда бы не переступили порога кафе и которые боялись людских глаз, и особенно осуждающих взглядов свекровей, с женщинами, чьих мужей не было в городе. К этим женщинам американцы приходили поздно вечером, и, чтобы очистить улицы, дабы люди не узнали, что в некоторых домах в эту пору принимают гостей, солдаты поднимали на площади непрерывную стрельбу; это была идея, подсказанная посредниками, настолько удачная, что впоследствии ею пользовались ловкачи с черного рынка, чтобы нагружать и разгружать машины без свидетелей. Когда начиналась пальба, все запирались по домам, даже на балконы не выходили подышать свежим воздухом. Однажды у моего дяди, который не хотел уходить с балкона, по-моему, из-за любопытства, хотя он и утверждал, будто умирает от духоты, над самым ухом просвистела пуля, и он влетел в комнату, разразясь ругательствами. Но эта забота американцев о чести затворниц мало что меняла: все равно люди знали, кто из женщин открывал ночью дверь, — достаточно было ссоры у колонки, одной из тех ссор, когда пришедшие за водой начинают бурно спорить, кто за кем, чтобы всему городу стали известны подробности — день, час и имя посредника. Мы, конечно, были в курсе дела: Филиппо знал, что творилось в его квартале, я — что творилось в моем. А вот то, что делали эти женщины с американцами, то, что мужчина мог делать с женщиной, оставалось для нас окутанным туманом неизвестности. Женщины раздевались — это наверняка; мы часто ходили в Матуццо, где был большой колодец, чтобы полюбоваться, спрятавшись, ногами прачек; заметив Филиппо и меня, они нас прогоняли, крича, чтобы мы убирались домой и пялили там глаза на своих матерей и сестер; может быть, американцы платили за то, чтобы их не прогоняли, и они могли смотреть на женщин и, как в кино, целовать их. Руссо сказал бы, что мы пребывали в том возрасте, когда в голове больше слов, чем вещей; и слова у нас действительно были, даже для вещей, которых мы не знали и которых не могли себе представить, слова самые грязные и жестокие. Мальчика нашего возраста, приносившего нам коробки с «пайком К» — там были конфеты и кубики сахара, розовый сыр и печенье, — мы в конце концов доводили до слез, повторяя одно и то же: «Интересно знать, кто тебе все это дает. Американец твоей мамаши — вот кто! А ты, случайно, не видел, что делает твоя мать с американцем?» Причем мы подбирали для воображаемых поступков его матери самые непотребные слова. Мальчик говорил, что это неправда, что американец их родственник, что его мать ничего такого не делает; потом он давал волю слезам, и мы от него отставали; но на следующий день он снова находил нас, приносил «паек К» и объяснял: «Американец — мой дядя, вы не должны говорить такие вещи», и все равно под конец повторялась вчерашняя история.
Итак, американцы потребовали ружья, говорили, что потом вернут их. Мой отец вырезал на прикладе своего ружья фамилию, это было хорошее бельгийское ружье, отец говорил, что в городе не найти лучшего, он верил, что ему его вернут, и для этого вырезал на прикладе фамилию. Затем он вытащил откуда-то два пистолета, которых я никогда не видел, и один из них был величиной с руку и заряжался с дула, и саблю, покрытую ржавчиной и с обломанным кончиком, но кто знает, может, нам и не поздоровилось бы, если бы американцы нашли ее у нас дома. В день сдачи оружия я пошел с отцом; принимали оружие американский солдат и бригадир карабинеров, бригадир записал в книгу: «Одно ружье, два пистолета, одна сабля»; отец потребовал, чтобы записали также номера и марку; бригадир рассердился, ему жилось теперь лучше, чем прежде, он таскался с американцами к женщинам, и говорили, комната у него была завалена пачками и блоками сигарет.
— Твое дело сдать все, остальное — моя забота, — зло сказал он.
Там уже громоздилась целая куча оружия, отец осторожно положил в нее ружье. Думаю, в эту минуту он понял, что не получит его обратно, психовал потом весь день, и назавтра — тоже, и всякий раз, когда речь заходила о ружьях. Через какое-то время ему вернули ружье, два пистолета и саблю, но приличной оказалась лишь сабля, а ружье и пистолеты годились только для того, чтобы продать их как железный лом.
Филиппо уже давно торчал во дворе казармы, наблюдая за сдачей оружия. Мой отец ушел, а я тоже остался поглядеть. Зрелище напоминало процессию; сдав оружие, крестьяне сразу же уходили, ругаясь. «У воров теперь автоматы, а у честных людей даже допотопного дробовика нет», — ворчали они, и это была правда, в городе орудовали воры, двоих в масках и с винтовками поймали, их по-отечески принял американский майор, весь беленький и осанистый, говорили, у себя на родине он преподавал философию, может, так говорили потому, что здесь все, кажущееся странным, связывают с философией. Майор отпустил обоих воров с миром, посоветовал им жить честно и тихо, работать; на лице переводчика, когда он объяснил, что сказал майор, было написано: «Ни черта не понимаю, сами видите, какие они идиоты, эти американцы», а защитник, которому не удалось вставить ни словечка, потом поносил Колумба, поскольку при таком повороте дела бедняге защитнику трудно было рассчитывать на несколько сот лир гонорара. А вот нам американский майор нравился, мы ходили за ним по пятам по лестницам муниципалитета, и ни разу он нас не прогнал, время от времени он на нас поглядывал и с трудом выговаривал:
— Маленькие сицилийцы.
Похоже, он был добрым, наверно, дома, в Америке, у него остались дети. И у солдата, следившего за приемом оружия, тоже было доброе лицо, он жевал резинку и улыбался, перекидывался несколькими словами с бригадиром и снова умолкал, улыбаясь и жуя резинку. Может, он думал о доме, об Америке, где сплошь огромные домища и автомобили, и о своей матери, которая смотрела в окно с верхотуры. Казалось, он не замечал нас; когда он повернулся, собираясь угостить нас пластинками жевательной резинки, мы подумали, что он решил прогнать нас, но он дал нам резинку и сказал:
— Резинка хорошая, не ментоловая.
Ясно, что ментоловая ему не нравилась, мне она самому не нравилась. Я поблагодарил, Филиппо — тоже, с незнакомыми людьми нам удавалось сходить за воспитанных деток, мы даже под ангелочков умели работать, но это мы оставляли для занятий катехизисом в церкви. Американец смотрел на нас улыбаясь. Тогда я сказал:
— У меня тетя в Америке. — Мне казалось, что нужно во что бы то ни стало подружиться с ним.
— О, в Америке, — произнес американец.
— Да, в Бруклине.
— Я тоже живу в Бруклине, — сказал американец, — и Бруклин большой.
— Какой? — спросил я. — Как этот город?
Я хорошо знал, что он такой большой, как наш город, Каникатти и Джирдженти, вместе взятые, и что это всего лишь один из районов Нью-Йорка, но мне не хотелось, чтобы разговор иссяк.
— Больше, больше, — ответил американец.
— Он величиной с Палермо, — сказал Филиппо, — я знаю. Мой отец был в Америке.
— Да, пожалуй, как Палермо, — согласился солдат.
— В Палермо, — сказал я, — есть море, и в Порто Эмпедокле море есть; я был до войны в Порто Эмпедокле, но ничего, кроме лодок, не помню. А в Бруклине есть море?
— Нет, но оно близко, — ответил солдат, — мы ездим к морю на машинах.
— А Бруклин красивый? — спросил Филиппо; мне же хотелось продолжить разговор о машинах.
— Нет, — признался американец, — здесь красивей.
— А как война? — спросил я. — Тебе нравится на войне?
Солдат улыбнулся, потом сказал:
— Война — паршивая штука, из-за нее умирают даже такие малыши, как вы. А здесь красиво.
Небо над двором было как вода, когда в ней растворяют синьку, облака заменяли пену, построенная из песчаника колокольня церкви св. Иосифа казалась золотой.
— Пойдешь со мной? — предложил бригадир.
Солдат ушел, не попрощавшись с нами.
Назавтра мы снова были во дворе казармы. Солдат сидел на прежнем месте, читал книгу и жевал резинку. Увидев нас, он сказал: «Алло», — и продолжал читать. Немного погодя он закрыл книгу, вынул пакетик резинки и протянул нам по одной.
— Чунга, — объяснил он, — это называется чунга.
— А как называются конфеты? — спросил Филиппо.
— Кенди, — ответил солдат, — в Америке любые кенди есть.
— А здесь нет кенди, — сказал я.
— И картошки нет, — прибавил Филиппо, — я уже забыл, какой у нее вкус, у картошки, когда я был маленький, мы всегда ели картошку.
— Картошку, — сказал я, — втихую продает у нас один муниципальный стражник, дорого продает, мой отец говорит, что выгоднее покупать мясо.
— Тоже скажешь, — запротестовал Филиппо, — мясо, тут хлеба нет, а ты захотел мясо найти.
— Почему вы не привозите нам пшеницу? — спросил я американца. — Отец говорит, что вы выбрасываете ее в море, пшеницу.
— Неправда, в море мы ее не выбрасываем, — ответил он. — У нас нет кораблей, чтобы возить пшеницу, вот кончится война, тогда и привезем.
— А скоро война-то кончится? — спросил я. — После войны моя тетя приедет.
— Правильно, приедет твоя тетя из Бруклина. Но война — долгая штука, кто знает, когда она кончится.
— У моей тети магазин в Бруклине, — объявил я, — большой магазин: до войны она присылала нам посылки и вкладывала доллары в письма, а на рождество даже мне прислала целый доллар.
— У него тетя богатая, — сказал Филиппо солдату.
— У нее две машины, — объяснил я, — и одна большая и вся блестит, я видел на фотокарточке.
— Кончится война, и твоя тетя приедет на большой красивой машине, — сказал солдат. — Я тоже приеду на машине. Здесь красиво.
— А у тебя есть машина? — спросил я. — Какая?
— В Америке у нас у всех машины. Вот моя, — и он вынул из кармана бумажник, а из бумажника фотографию. На ней была длинная сверкающая машина, рядом стоял он, положив руку на дверцу, толстая женщина в цветастом платье и двое детей в свитерах; сзади были деревья.
— Твоего отца тут нет, — сказал я.
— Нет, мой отец умер.
— Я один раз видел мертвого, — сказал Филиппо, — это был немец, его вытащили мертвым из самолета, который близко от города упал. А потом ночью он мне приснился, мне казалось, что он живой, больше я не хожу смотреть на мертвых.
— А что тебе сделают мертвые? — спросил я. Сам я никогда не видел их, да и не жалел об этом. — Когда люди умирают, их больше нет. Я бы хотел посмотреть на мертвого немца. А ты видел мертвых немцев? — спросил я солдата.
— Да, — ответил он, — много видел, и американцев мертвых видел, и англичан, и французов, и австралийцев.
— Да, но немцы ведь плохие, — сказал Филиппо, — лучше, чтобы умирали немцы.
— Сейчас война, поэтому лучше, чтобы они умирали, — сказал солдат. — Чем больше немцев умрет, тем скорее мы победим.
— Россия тоже победит, — сказал Филиппо.
— О, Россия! — сказал солдат.
— Россия не такая, как Америка, — заметил я.
— Да, — согласился солдат, — Россия совсем другое дело.
Дядя сидел дома и с утра до ночи слушал радио.
— Сукины дети, — ругался он, — кто знает, куда они его дели.
— Да заткнись ты, — иногда взрывался отец. — Тебе все еще охота наряжаться клоуном, мало тебе того, что он натворил.
— А что он такого натворил? — спрашивал дядя. — Италию уважали, перед ней трепетали. Жизнь была хорошая. Порядок был. Ты ведь и сам клоуном наряжался и утверждал, что он был великим человеком. Чем же он тебе насолил вдруг, ну чем?
— По-твоему, война, которую он развязал, пустяки? — отвечал отец. — Конечно, для тебя это пустяки, ты прав, на войне другие маются, а тебе от нее ни холодно, ни жарко...
Как-то вечером по радио выступил Орландо, он сказал, что снаряды, летевшие из Сицилии в Калабрию, служили связующим звеном между Сицилией и Италией, этот образ остался у меня в памяти.
Отец говорил:
— Орландо великий человек.
Дядя не соглашался:
— Как же, как же, он спасет Италию, этот старик, впавший в детство, держи карман шире.
— Да, — настаивал отец. — У этого старика голова на плечах, а вот дуче твой псих, в сумасшедшем доме ему место, так даже Боккини считал, он однажды по секрету сказал это Чиччо Карделле, который большая шишка в министерстве.
— Ишь ты, — не сдавался дядя, — он мне говорит о Боккини. Сплошные предатели, вот кто они все.
— Все его предавали, — возвышал голос отец, — ты один не предавал. Да и как ты мог предавать его, прилипнув задницей к этому креслу и вопя что ни праздник: «Дуче! Дуче!»?
— Да не ори ты, — просил дядя, — а то услышат на улице. При той должности, какую я занимал, меня заберут и увезут прямо в Орано, неизвестно еще, довезут ли, ведь им ничего не стоит сбросить меня в море по дороге.
Дядя прямо заболел от страха, я пользовался этим его состоянием, чтобы немного позабавиться. Я принимался петь: «Дуче, дуче, погибнем за тебя!» — и дядя лез на чердак, где я горланил, и говорил:
— Паршивец, неужели ты не понимаешь, что подводишь меня? Ведь меня в Орано увезут!
Я начинал хохотать, и тогда он напускал на себя торжественность:
— Италия плачет, а ты ржешь. Да пойми же ты, у нас враг в доме...
Американского солдата звали Тони, он родился в Калабрии, а в Америку его увезли, когда ему был год, теперь он ждал отпуска, чтобы съездить в Калабрию, там в небольшом городишке у него жили родственники. Американцы уже были в Калабрии, «связующее звено» сыграло свою роль.
Я спрашивал, любит ли он своих калабрийских родственников, я хотел узнать, могли ли моя тетя и ее дети любить меня и мою мать. Тони ответил:
— Они бедные.
Я спросил:
— Какие бедные? Мы, по-твоему, бедные?
— Они беднее вас, — ответил Тони, — они спят в одной комнате с овцами, дети ходят босиком.
— А ты посылал бы им деньги из Америки, — посоветовал Филиппо, — и они покупали бы ботинки.
— Я несколько раз посылал, — ответил Тони.
— Теперь вот война кончится, — сказал я дипломатично, как будто все зависело от Тони, — и американцы привезут ботинки для всех, ботинки и хлеб, целые пароходы придут.
— Американцы работают, — сказал Тони, — они работают, и у них есть ботинки, есть красивая одежда, хорошие дома и машины, а итальянцы не хотят работать.
— Я хочу работать, — заметил Филиппо, — и мой отец работает. Отец говорит, что это богатые отнимают у нас хлеб.
— Вот ты и должен работать, чтобы стать богатым, — заявил Тони, — в Америке все работают и становятся богатыми.
— У моего отца есть дядя, — сказал я, — который не работает и все равно богатый.
— Здесь никто не работает, — сказал американец, — ни богатые, ни бедные. Для богатых тут благодать, лучше даже, чем в Америке.
— Я бы хотел поехать в Америку, — признался я. — Заработал бы денег и потом вернулся бы, купил бы себе хорошую машину и вернулся бы.
— А я бы не поехал, — заявил Филиппо. — После войны не будет больше богатых.
— Будет еще больше, чем раньше, — сказал Тони, — причем те, кто были богатыми, сделаются еще богаче, и никто по-прежнему не захочет работать.
— Но разве вы не прогоните фашистов? — удивился Филиппо. — Если вы их прогоните, наступит социализм.
— Мы воюй, а вы потом социализм устроите, — сказал Тони. — Нечего сказать, в хорошем мы выигрыше будем. На этот счет я бы кое с кем потолковал.
— Это с кем же? — поинтересовался я.
— С одним человеком в Америке, — ответил он.
Вечером зазвонили колокола; моя мать подумала, что где-то пожар или еще какое несчастье, но с улицы крикнули, что заключено перемирие, мать начала молиться, благодаря бога за то, что многие дети останутся в живых. Дядя нервно расхаживал по комнате, приговаривая:
— И что они себе думают, эти немцы, хотел бы я знать. Этого нам только недоставало! Если же немцы считают так же, как я, тогда я хотел бы поглядеть на этого хрена Бадольо и заодно на другого — на шибздика, этого предателя.
Мой отец говорил:
— А ты где был? Взял бы да и пошел продолжать войну, то-то кукольный театр был бы! Честь, союз, дружба... Прихвати с собой сабельку и наведи там порядок.
Воспользовавшись тем, что спор становился все оживленнее, я выскользнул из дому. На площади толпился народ — перед церковью св. Анны, единственной церковью, которая не участвовала в хоре колоколов, люди требовали, чтобы священник велел звонить, а тот, высунувшись из окна, кричал:
— По-вашему, это праздник, да? Неужели вам не ясно, что мы проиграли? Поимели бы совесть!
В конце концов у кого-то лопнуло терпение, и он выстрелил в колокол, на что священник завопил: «Разбойники!» — и поспешил захлопнуть окно.
Дядя заявил потом, что в нашем городе всего двое мужчин — он и священник из церкви св. Анны.
Тони был высоким блондином, моему отцу не верилось, что его родители— калабрийцы, все калабрийцы, которых знал отец, были малорослыми и черноволосыми, а по дядиным словам выходило, что все калабрийцы— тупицы, что Италия огромная страна, но калабрийцы — тупицы, сардинцы — продажные шкуры, римляне — плохо воспитаны, неаполитанцы — побирушки...
По воскресеньям Тони ходил к мессе, и, когда все вставали, видно было, что в нашем городе нет ни одного человека такого высокого роста, как он. После мессы, где он принимал причастие, мы шли с ним в кафе. Мы спрашивали, есть ли церкви в Америке. Тони говорил, что церкви есть и что люди в Америке религиозней, чем у нас. Еще мы спрашивали, что делается в Америке по воскресеньям. Слова Тони рисовали перед нами грустную воскресную картину: для нас воскресенье — это площадь, забитая народом, лотки и голоса продавцов, а американцы искали уединения и тишины — на охоте или на рыбалке.
— А ребята чем занимаются? — интересовались мы.
— Играют в разные игры.
— Моя тетя, — сказал я, — однажды прислала мне роликовые коньки. А на что они мне? Когда я захотел покататься на них, я чуть башку не разбил.
— Здесь коньки ни к чему, — согласился Тони. — Не те дороги.
— А в Америке какие дороги?
— Широкие и ровные, — ответил он. — По ним не меньше десяти машин в ряд едут, и пыли нет.
— В Америке, — сказал Филиппо, — поезда даже под землей ходят и даже по воздуху. Вот бы прокатиться на таком, только не под землей, а по воздуху.
— А ты, часом, не спутал поезд с самолетом? — спросил я. — В жизни не слыхал, чтобы поезда летали.
— Да нет же, они не летают, — объяснил Тони. — Для них построены высокие железные мосты, и поезда идут по этим мостам. Мосты высокие, и поезд идет над городом.
— Прямо над домами? — поразился я. — А что, если он упадет?
— Как же он упадет? — спросил Филиппо. — Мост-то железный. Спорить готов, ты бы испугался сесть в такой поезд.
— Я за дома боюсь, которые внизу. Вот уж чего бы я не хотел, так это жить в доме под таким мостом.
— А я ничего не боюсь, — расхвастался Филиппо.
— Неправда, ты мертвых боишься, — уличил я его. — Увидишь мертвого, а потом всю ночь дрейфишь.
— Мертвые тут ни при чем. Правда, ведь мертвые ни при чем? — спросил Филиппо у Тони.
— Нет, при чем, — ответил Тони. — Человек боится мертвых потому, что сам не хочет умереть.
— Я не хочу умереть, — сказал я.
— Значит, ты боишься мертвых, — обрадовался Филиппо. — Никому не хочется умирать, и все мы боимся мертвых.
— Солдаты хотят умирать, — сказал я.
— Солдаты должны прогнать фашистов и ради этого готовы умереть, — заявил Филиппо. — Мой отец готов был сесть в тюрьму, а солдаты готовы умереть. Это разные вещи.
— А что делали фашисты? — спросил Тони.
— Ничего не делали, — ответил я. — Мой дядя был фашистом и ничего не делал, он никогда ничего не делал!
— Может, и ничего не делали, — согласился Филиппо. — А мой отец хотел в тюрьму сесть, так мать говорит.
Италии оказался мой двоюродный брат, он воевал здесь, но из его письма мы не смогли понять, где именно: он писал, что, если ему дадут отпуск, он нас навестит. К его письму было приложено письмо от моей тети и пять или шесть бумажек по тысяче лир.
«Дорогая сестра, — писала тетя, — может быть, мой сын попадет в Италию, и поэтому я тебе пишу это письмо в надежде, что оно найдет вас в добром здоровье, в каком мы, спасибо Господу, пребываем. У меня сердце болит за моего сына Чарли, который уезжает на войну, но я надеюсь, что Пресвятая Дева защитит его. Дела у нас идут хорошо, моя дочь Грейс вышла замуж за одного еврея, но парень он неплохой и работящий, и у него парикмахерская рядом с нашим магазином, правда, сейчас он тоже в армии, да защитит его Пресвятая Дева. Эта война нам ни к чему, но Господь не допустит, чтобы в мой дом пришло несчастье, я пообещала Мадонне — покровительнице нашего города — кольцо, которое ношу на пальце, когда война кончится, я его привезу сама, война должна бы скоро кончиться, Америка сильная и победит...»
Мать плакала от радости, читая письмо, самые важные новости она повторяла отцу:
— Грация вышла замуж, моя сестра пообещала кольцо Мадонне дель Прато...
И когда дядя услышал о силе Америки и о том, что она победит, он начал урчать, как кошка, жующая требуху:
— Америка победит, да? Сволочи, все забыли, забыли, как их уважали, ведь раньше-то на итальянцев плевали, это фашизм заставил уважать их за границей! А теперь все снова на нас плевать будут, вот уж я посмеюсь, когда вся эта хреновина кончится! — Он не кричал, чтобы не вывести из себя мою мать, да и время для этого было неподходящее; он именно скалился и урчал, как кошка над требухой.
Я рассказал Тони:
— Тетя письмо прислала, она считает, что Америка победит.
— Победит фашистов, — поправил меня Филиппо, у которого на этот счет был заскок. — Фашистов и немцев.
— Мы победим в войне, — сказал Тони. — Мы выиграем войну, и я вернусь в Америку.
— В Бруклин, — уточнил я. — А потом сядешь в машину и опять приедешь сюда.
— Да, — согласился он, — приеду. Как надоест работать, так и приеду. Здесь здорово, если не работаешь.
Тони уехал в октябре, за ним пришел джип, я чуть не плакал. Он подарил нам пакетики чунги и кенди в трубочках, уже из машины помахал нам рукой и сказал:
— Гуд бай.
Остаток дня показался нам длинным и пустым, мы провели его в самых неистовых играх.
В школу мы ходили неохотно, Филиппо плохая учеба сходила с рук, потому что его отец сидел в Комитете освобождения, а наш учитель был раньше командиром фашистской манипулы; мне же не везло, учитель вызывал моего отца и говорил ему, что заниматься со мной — все равно что толочь воду в ступе, отец заставлял меня сидеть дома и готовить уроки, а матери велел никуда меня не пускать. Но я знал, что все останется по-прежнему: едва отец заводил речь о воспитании, как его перебивал дядя:
— Что посеешь, то и пожнешь. Раньше было воспитание, так вам оно не по нраву пришлось, и теперь дети ослами должны расти! — И этого было достаточно, чтобы разговор перешел на другую тему и вспыхнул один из обычных споров.
Фашисты создали на севере республику, дядю невозможно стало оторвать от приемника, он и ночью таскал его за собой, потирал руки и все время повторял слова Гитлера, которые звучали примерно так:
«В двенадцать они решат, что победили, а в пять минут первого победа будет за нами». У меня Гитлер ассоциировался с деревянной головой в балагане, в которую нужно было попасть мячом — пять бросков стоили одну лиру. Когда дядя упоминал Гитлера, я тут же вставлял:
— Деревянная башка. — А если он начинал злиться, я продолжал: — Америка его проглотит, враз проглотит деревянную башку, все равно как кошка — мышь. — Я старался до тех пор, пока глаза у дяди не наливались кровью, и тогда я бросался вниз по лестнице. С лестницы я повторял свою песенку в последний раз, с тем чтобы у меня было потом оправдание — мол, дядя гнался за мной до самой двери, и отец прощал мне бегство, и я даже выглядел до некоторой степени жертвой.
За городом каждый день грабили и убивали, кого-то даже похитили; говоря об этом, отец в чем-то соглашался с дядей.
— А кто сказал, что он ничего хорошего не сделал? Подобных случаев больше не было, факт. Но увидишь, все опять наладится.
— Это при демократии-то? — спрашивал дядя. — Тут сильная власть нужна, а у демократии твоей кишка тонка.
Оттого, что она была не по вкусу дяде, мне демократия начинала нравиться. Разумеется, я не рисковал выходить из города, мне казалось, что живые изгороди, как муравейники, кишели вооруженными людьми в масках; однажды ночью мне приснилось, будто меня похищают, а чтобы я не кричал, в рот мне затолкали целый пакет ваты, я поднял крик, ко мне подошла мать и сказала, что еще ночь. Филиппо говорил:
— Меня не похитят. Меня могут хоть целый год держать, им же хуже, кормить-то меня надо, а выкупа за меня они ни гроша не получат. — Но и он боялся. Гуляли мы уже не за городом, где шуршали желтые листья, а в церковном саду: теперь каноник более настойчиво зазывал нас на уроки катехизиса, угощал нас сушеным инжиром и жареным миндалем.
В городе возобновилась политическая жизнь: на двух зданиях появились эмблемы партий — на одной было написано «Социальное движение» и желтел пучок колосьев, на другой, в центре колеса, образованного тремя согнутыми в коленях ногами, красовалась голова и над нею надпись: «Движение за независимую Сицилию». Члены «движения» и были теми самыми сепаратистами, о которых столько говорили, они хотели отделения Сицилии от Италии; мой отец считал, что они правы, ведь Сицилия, кроме пинков, от Италии ничего никогда не видала.
— Бедная Италия, — причитал дядя. — «Италия моя, я вижу стены...» Они даже стен не оставляют, эти бандиты, им бомбы швырять все равно, что верующему молиться. А теперь еще этот объявился, которому понадобилась независимая Сицилия, и сам — шут гороховый, и те, кто за ним идут, такие же шуты.
Я вертелся среди сепаратистов, носил на рукаве нашивки — одну желтую, другую цвета свернувшейся крови. «Выродок!» — ругался дядя, косясь на мои нашивки. Для меня это было развлечением. По вечерам, запасясь котелком с краской, мы присоединялись к молодым сепаратистам, которые ходили по городу и писали на стенах: «Да здравствует Финоккьяро Априле!», «Да здравствует независимая Сицилия!», «Долой врагов Сицилии!», «Сицилии — свою промышленность!» Парням быстро надоедало малевать одно и то же, и тогда они писали: «Долой тех, кто морит народ голодом! Смерть тем, кто продает пшеницу по 2500 лир!» Это был как бы конкурс на самый удачный лозунг, и назавтра крупные, величиной с ладонь, красные буквы извещали жителей города, что дон Луиджи Ла Веккья — вор, а дон Пьетро Скардия — не только вор, но еще и рогоносец. Нам нравилась эта игра, а когда я видел, как под кистью рождались слова: «Да здравствует Америка! Да здравствует сорок девятая звезда!» — мои сепаратистские взгляды становились взглядами фанатика: я знал, что сорок девятая звезда — это Сицилия, ведь на американском флаге сорок восемь звезд, значит, вместе с Сицилией будет сорок девять, и тогда мы станем американцами.
Критика