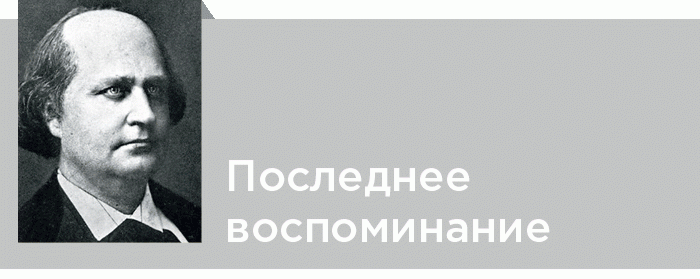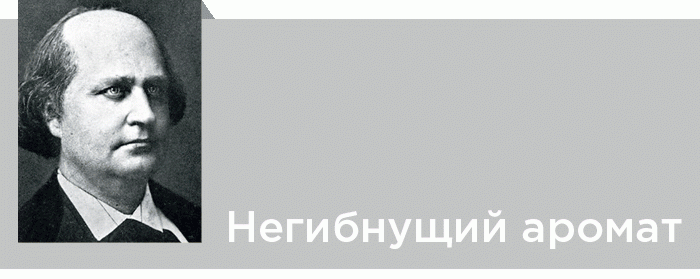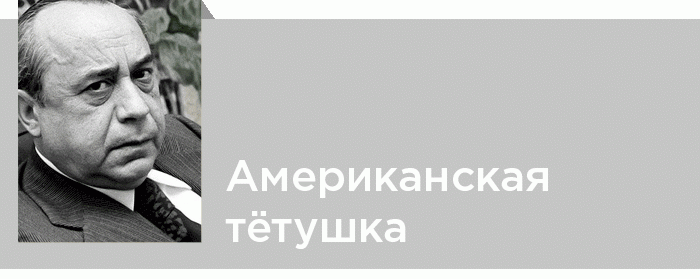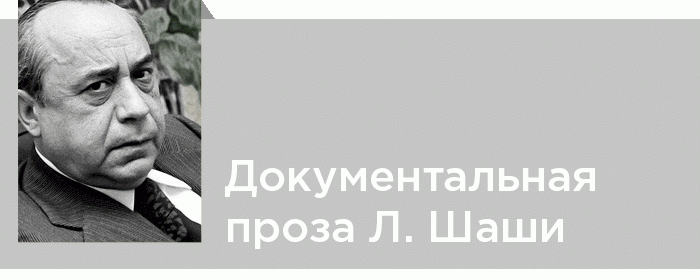Человек, принявший эстафету (Творчество Леонардо Шаши в контексте политики)
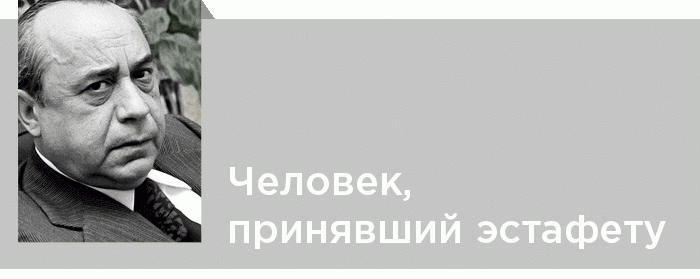
Ц. И. Кин
Тема «культура и политика» существовала, как известно, со времен античности, но мы не станем обращаться к древней истории. Трагическая история нашего столетия началась, пожалуй, с великой Французской революции и с противостоявших ее идеалам консервативных мыслителей, постепенно наращивавших свое влияние на европейскую мысль. Я имею в виду Ницше, Шпенглера, идеологов французской контрреволюционной мысли — де Местра и де Бональда. Мировоззрение этих людей и их единомышленников основывалось прежде всего на отрицании «бессмертных принципов» триады: свобода, равенство, братство. И, конечно, стоит напомнить о графе Гобино, опубликовавшем четырехтомный труд «0 неравенстве человеческих рас». Гобино заслуженно считается классиком расизма. Еще более популярным был Хьюстон-Стюарт Чемберлен; Гитлер писал о нем в своей программной книге «Майн кампф» и пришел от него в восторг при личном знакомстве в 1923 г. А после прихода Гитлера к власти Чемберлен почти обязательно упоминался в печати как «духовный отец национал-социализма».
По убеждению Бенедетто Кроче, моральное сознание Европы к началу XX века было больным: вначале рухнула вера в религию, затем в рационализм и либерализм. Кроче считал естественной реакцию против позитивизма, но писал о смутном духовном состоянии людей, «живущих вне того центра, которым является религиозное и этическое сознание». Кроче осуждал также многие течения мысли, ставшие модными перед первой мировой войной: «Философии такого рода следовали одна за другой, и сближались, и смешивались: интуитивизм, прагматизм, мистицизм, теософизм, магизм и так далее, включая «футуризм», который также был концепцией или интерпретацией жизни».
Общеизвестно увлечение Гитлера оккультными науками. В позиции интеллигенции, в частности, гуманитарной, по отношению к режимам Муссолини и Гитлера существовали и сходство и значительные различия. Также известно, что крайний национализм был направлен против свободы, равенства, братства и рационализма французских философов. Крайний национализм является непременной составной частью фашистской идеологии. Муссолини демагогически пытался вести генеалогию чернорубашечников и от Мадзини и от Гарибальди с его «красными рубашками». У Гитлера таких предшественников не было и для германского национализма были традиционными идеи «Великой Германии» и «фюрера» (военного и политического вождя).
Политические и философские идеи Освальда Шпенглера хорошо известны. Известна его знаменитая книга «Закат Европы». Шпенглер, убежденный милитарист и апологет войны, настаивал на том, что будущим миром суждено править «цезарям», но он не считал Гитлера способным стать Цезарем. Зато ему очень импонировал Муссолини и «цезаризмом будущего» представлялись итальянский фашизм и французские монархисты (организация «Камло дю руа»). Как и Шпенглер, писатель и публицист Артур Меллер ван ден Брук был поклонником Муссолини, но довольно скептически относился к Гитлеру. Его главная книга «Третий рейх» написана в 1923 году, а через два года он покончил с собой. Придя к власти, нацисты объявили Меллера одним из своих предтеч и приняли для своего государства название «Третий рейх».
Меллеру принадлежит термин «консервативная революция», и многие его единомышленники называли себя «революционными консерваторами» или «консервативными революционерами». Они мечтали «уничтожить даже следы духовного и политического наследия 1789 года». Равенство отвергалось, провозглашалась иерархия; вместо всеобщих выборов «органическое развитие» должно было определяться фюрером. В очень важном вопросе о «бессмертных принципах» разногласий не существовало. Один итальянский журнал сообщил: «Однажды кто-то попросил Гитлера изложить в двух словах основной смысл «Майн кампф». Гитлер на мгновение задумался, а потом ответил без колебаний: «Вычеркнуть из истории 1789 год».
Эта статья посвящена человеку, для которого идеи просветителей и 1789 г. были основой всего его мировоззрения. Более того: всех его поступков.
Он был кавалером множества орденов (дорожил, кажется, больше всего орденом Почетного легиона), его книги в Италии выходили в серии «Классики», но сам он небрежно говорил: «этикетка». Шаша писал книги, переводившиеся — порою синхронно — во Франции, Испании, Португалии, Бельгии, Швейцарии, Германии, Великобритании, в странах Латинской Америки, в США, в Китае и в СССР. Он был почетным гражданином многих городов, почетным членом многих академий, в разных странах существуют «Фондационе Шаша».
Да, мировое признание, но в то же время на родине, в глазах многих Шаша был символом ереси. Самым главным нравственным законом для него была справедливость. В 1985 г. он дал интервью французскому итальянисту Пифано. Оно было напечатано под заголовком: «Леонардо Шаша. Дух XVII века в теле XX века». Шаша заявил, что он не мятежник, а консерватор: «Я консерватор в том смысле, что хочу сохранить все лучшее, что заключается в бессмертных принципах 1789 г. А вот те, кто говорит об этих принципах иронически и не любит их, — те реакционеры».
Наиболее проницательные исследователи единодушно называют Шашу продолжателем философских и литературных идей Просвещения. В рабочем кабинете — несколько портретов Вольтера. Любимые собеседники — Паскаль, Монтескье, Стендаль. И Лев Толстой. Каждый год Шаша перечитывал «Смерть Ивана Ильича». Шаша интеллектуально формировался на французской философской и общественной мысли, на французской и русской классике. Он четко знал, что — самое важное и, не колеблясь, шел против течения. Шаша — сицилианец, но долго жил во Франции. Одна из его программных книг называется «Сицилия как метафора». Дадим минимальную информацию о Шаше, понимая, что на самом деле о нем надо писать монографию.
Леонардо Шадиа родился 8 января 1921 г. в Ракальмуто (провинция Агридженто, Западная Сицилия). Закончив педагогический институт, он имел право преподавать только в начальной школе. В школу приходили босые, оборванные дети: «Дети крестьян, рабочих и шахтеров в полдень ели хлеб с селедкой, а вечером макароны или суп. Говорить голодным ребятам о Мадзини, о Гарибальди, о Ренессансе было просто мучительно». Так родилась книга «Церковные приходы Регальпетры» — Шаша переименовал Ракальмуто в несуществующую вообще Регальпетру, а позднее стали продавать изысканное красное вино марки «Регальпетра». Забавная издержка славы.
Однако эта первая книга (1956) не имела никакого успеха, ее восприняли как «еще одно социологическое исследование». Никто не угадал будущего Шаши. Между тем он еще раньше много размышлял о природе тоталитаризма и через пять месяцев после XX съезда был напечатан его рассказ «Смерть Сталина»: история итальянского коммуниста, хорошего, неглупого, но очень наивного человека, для которого «смерть бога» превратилась в личную трагедию. Насколько известно, только один раз Шаша активно хотел и просил, чтобы этот рассказ был переведен на русский язык. Он считал это принципиально важным. Перевели в середине 80-х гг., послали Шаше журнал, и он был удовлетворен.
Шаша вошел в большую литературу зрелым человеком. Он дал себе самому слово «говорить только правду, какой бы горькой она ни была». В 1964 г. вышел горький, блистательный роман Шаши — «Смерть инквизитора». Первая половина XVII в. — время испанского владычества, вице-королей и инквизиции, интриг, заговоров, коварства, неустанной «охоты за ведьмами», поисков лютеранских ересей, кровь и грязь. На Сицилии действительно были группы людей, находившихся под влиянием лютеранства. 15 марта 1622 г. в Ракальмуто родился мальчик Диего, сын таких-то, крещен таким-то священником. Шаша проделал колоссальную работу в архивах Ракальмуто, Агридженто и Палермо.
Диего Ла Матина существовал как реальный человек и как миф. Нельзя сказать уверенно, что он стал еретиком в религиозном смысле. Очень молодым он ушел в монастырь и стал дьяконом. Согласно легенде, передававшейся из поколения в поколение, фра Диего ушел из монастыря и убил аристократа, державшего в заточении красивую девушку, кажется, двоюродную сестру фра Диего. Он был арестован не как еретик, а как мститель, нечто вроде «доброго разбойника». Фра Диего постепенно пришел к убеждению, что народ Сицилии должен бороться против инквизиции и против испанского владычества вообще.
Заключенный в тюрьму инквизиции фра Диего, человек огромной физической и моральной силы, при помощи своих железных наручников убил посетившего ею в камере инквизитора. Тот был главным лицом в сицилианской иерархии инквизиции. В испанской капелле церкви святой Марии от Ангелов в Палермо могила. На мраморной доске выгравировано: «Здесь покоится лиценциат дон Хуан Лопес де Сиснерос, уроженец Кастроманча в Старой Кастилии, эконом и главный викарий епископства Оренса, воспитанник знаменитой школы Сан Идельфансо, университета Алькала-де-Энарес, основанного его родственником, фискал и апостольский инквизитор в сем королевстве Сицилии. Скончался в оной должности инквизитора апреля 4 дня 1657 г., имея от роду 71 год. Основал постоянное капелланство в этой капелле, коей патронами являются инквизиторы». В этой церкви мне довелось быть, впечатление большое.
По официальным версиям того времени, которые приводит Шаша, монсиньор де Сиснерос был святым человеком. Агония длилась несколько дней. Де Сиснерос простил своего убийцу. Но инквизиция простить не могла. Фра Диего был приговорен к сожжению на костре. От него хотели добиться формального покаяния перед смертью. Девять богословов должны были силой своей логики и аргументов принудить еретика и убийцу к раскаянию. Шаша писал, что это было одной из самых страшных сцен в истории человеческого бесчестия.
На 2 марта 1658 г. была назначена казнь. Решили устроить грандиозное зрелище: должны были казнить тридцать двух еретиков. Все, кроме самого главного преступника и злодея Диего Ла Матина, были предварительно повешены, и в огонь бросили их бренные останки. Но фра Диего на такое снисхождение не мог рассчитывать. В последний момент, когда костер запылал, фра Диего крикнул, что Бог несправедлив. В книге приведен документ 1724 г., в котором имя Ла Матина поставлено рядом с именами Жана Кальвина и Мартина Лютера. Понятно, что масштабы несопоставимы, но факт интересен. Интересно и пристальное внимание, с которым Шаша изучал янсенизм.
Шаша говорил, что «Смерть инквизитора» — самая любимая его книга, единственная, из-за которой он волнуется, которую перечитывает и все надеется найти еще какой-нибудь документ о фра Диего. В конце книги Шаша пишет, что не только в XVII и XVIII вв. инквизиция хотела уничтожить свободную человеческую мысль, что такие вещи случались и в гораздо более близкие к нам времена. И цитирует, выделив курсивом, знаменитую фразу, произнесенную фашистским прокурором во время суда над Грамши: «Мы должны на двадцать лет помешать этому мозгу работать».
Чтобы понимать этическую и эстетическую концепции Шаши, надо иметь в виду его страсть к документу, к архивной работе, к факту. Идея инквизиции диалектически начала сливаться с идеей тоталитарной власти. «Смерть инквизитора» была раздраженно воспринята некоторыми католическими интеллектуалами. Обиделась и пресса Христианско-демократической партии (ХДП). Но нейтральная критика и читатели хорошо приняли книгу. А когда через 11 лет были переизданы под одной обложкой «Церковные приходы...» и «Смерть инквизитора» Шаша написал короткое предисловие: инквизиция продолжается, хоть и в новых формах. Он, Шаша, будет выступать против нее всегда. И привел пример: злобная критика, которой подвергался на родине Станислав Лем. Позиция Шаши представляется ясной и резкой.
Мировая слава пришла к нему в 1961 году с первым романом о мафии, невероятно быстро переведенным на множество языков. В Москве вышло два разных перевода: «День совы» и «Сова прилетает днем». Когда через пят лет вышел второй роман Шаши о мафии — «Каждому свое» — это считалось уже классикой. Шаша, не терпевший упрощений, рассматривал мафию в ее историческом развитии. Были разные периоды, у «исторической мафии» был свой строго соблюдавшийся кодекс чести: убивали, когда это считалось необходимым, но никогда не убивали женщин и детей. Когда появился наркобизнес, изменилось все: структура, психология, идеология мафии.
Шаша всегда чувствовал себя гражданином и сыном своего времени. Политику он воспринимал как нечто, касающееся всех, в том числе и его самого. Но он был максималистом и главное, решающее значение придавал этике. Отсюда и его сотрудничество сначала в одной, потом в другой из самых старых и влиятельных газет: «Коррьере делла сера» и «Стампа». Газета давала большие возможности отстаивать свое мнение. Шаша просто не понимал, что такое пресловутая башня из слоновой кости. Концепция инквизиции-тоталитаризма насилия-фанатизма становится все более отчетливой и продуманной.
Шаша писал и пьесы. Мне они кажутся не всегда удачными, но вот одна очень важная. Она названа несколько стилизованно: «Художественное исполнение липарианской контроверсы. Посвящается А.Д.». Действие происходит в начале XVIII в. Сюжет построен на отчаянной борьбе за власть между вице-королем Сицилии и Викарием. Разыгрывается сложный юридический, теологический, политико-дипломатический конфликт, приводящий страну на край пропасти. Слово липарианский идет от Дипари: один из островов, куда при фашизме высылали врагов режима. Самое важное — посвящение. А.Д. — это Александр Дубчек.
Шаша никогда не претендовал на то, что владеет истиной в последней инстанции. Он собирал и документы, выдвигал гипотезы, которые не обязательно были самыми верными. Но он никого не призывал соглашаться. Мало того, — уже сказано, — он отстаивал право противоречить всем и самому себе. Он рисковал, угадывал, эпатировал читателя, иногда терял надежду, следовал своей редкостной интуиции, говорил — мы знаем — самую горькую правду. Угадывал он слишком часто.
Попытаемся объяснить один из самых любимых жанров, в котором работал Шаша. Слово giallo (джалло) значит по-итальянски желтый. Издательство Мондадори, десятилетиями выпускающее в день по детективу, выбрало для всех детективных книг желтую обложку. Когда итальянские критики буквально изнывали, стараясь определить манеру, в которой часто писал Шаша, кто-то придумал giallo filosofico, giallo politico. Шаша с этим определением согласился.
В январе-феврале 1971 г. один палермский журнал напечатал отрывок из романа «Контекст», который автор назвал пародией. В неназванной стране (ясно, что на Сицилии) происходят загадочные убийства высокопоставленных деятелей судебного ведомства. Через несколько месяцев после публикации отрывка из «Контекста» в Палермо был убит прокурор Республики по Палермо Пьетро Скальоне. Убила мафия, но обстоятельства смутные: то ли Скальоне был связан с мафиози, но изменил, то ли он с мафией боролся. Казалось, будто сама реальность решила подтвердить точность и силу предвидения писателя, который всегда утверждал, что настоящая литература опережает действительность. После убийства Скальоне Шашу стали называть Кассандрой, а вскоре вышел целиком роман.
Жанр философского и политического детектива многогранен: это пародия, памфлет, инвектива, гротеск, ювелирно-точное расследование, шарж, драма. «Контекст» читается с напряженным интересом, он написан в лучшей шашинской манере: жестко и тонко. Министерство Национальной Безопасности поручает вести следствие по всем убийствам инспектору Рогасу. Обычно Шаша скептически относился к полиции. Но Рогас — аналитик, умный и смелый человек, не признающий штампов. Не станем говорить о разных поворотах сюжета, развивающегося динамично и неожиданно. Выберем только одну, совершенно необходимую линию.
Рогас в ходе расследования наталкивается на факты, поразившие его самого. Слово мафия не произносится ни разу, но Рогас понял, что вся система, включая самые внешне респектабельные ее звенья, мафиозна. Утвердившись в этом, он приходит к убеждению, что в стране существует заговор. Одна их ключевых сцен романа — встреча Рогаса с министром внутренних дел. Министр произносит монолог: элегантный, иронический, но циничный до предела. Министр прекрасно знает, что его партию, находящуюся у власти несколько десятилетий после краха энного режима, презирает и ненавидит вся страна, но он плевать на это хотел. Рогасу он говорит, что было бы неплохо привлечь к сотрудничеству оппозиционную партию. Эта Интернациональная революционная партия еще не успела себя скомпрометировать. Если бы она вошла в правительство, то разделила бы часть политической ответственности. Но лидер этой партии, синьор Амар, слишком умен: он ни за что не согласится, с ним и разговаривать об этом бесполезно.
Но и Рогас слишком умен и проницателен. Значит, небезопасен. Короче говоря, за ним устанавливают слежку. Он продолжает работать, но... Другая очень важная сиена — разговор Рогаса с президентом Верховного суда. Это человек высокой культуры, но не верит ни во что. Он католик, но не признает христианских ценностей. Его не интересуют ни конкретные факты, ни признание обвиняемого. Он говорит о Вольтере, о Честертоне. Все и всегда условно — повторяет он. И излагает свою философскую концепцию, говорит о вине вообще, о самом понятии вины, о том, имеют ли одни люди нравственное право судить других людей. Все всегда виноваты, все относительно и все возможно. Сложная смесь философского релятивизма, метафизики, оборачивающейся разными гранями теории относительности, бескрайнего пессимизма.
Рогас говорит президенту Верховного суда о заговоре. Он боится, он почти уверен, что и президенту грозит прямая опасность, но тот настроен фаталистически. Конечно, это проблематика Паскаля, Вольтера, Достоевского, экзистенциалистов. Но и проблематика Леонардо Шаши, стремящегося — вопреки всему — к справедливости.
Одержимый идеей заговора, Рогас хочет действовать. У него есть друг — очень известный левый писатель Кузан (естественно, это Шаша). Рогас рассказывает Кузану о заговоре и просит помочь организовать свидание с Ама- ром. Писатель понимает потенциальную опасность такой встречи и уговаривает Рогаса поручить ему — Кузану — обо всем поговорить с Амаром. Но Рогас упрям, и Кузану приходится уступить.
Верный своей эстетике, своему лаконизму, Шаша не объясняет, как все произошло, а ставит читателя перед фактом: получено два радиосообщения. Первое: в воскресенье в полдень в Национальной галерее обнаружено два трупа — Рогас и Амар. Второе: убит президент Верховного суда. Шаша, как всегда, предпочитает графику, а не живопись. И достигает исключительного эффекта.
Официальная версия: инспектор Рогас по собственной инициативе решил лично расправиться с лидером оппозиции синьором Амаром, заманил его в ловушку и убил. Видевший это полицейский агент немедленно застрелил Рогаса. Но Кузан не верит ни на миг: «Бедный Рогас. Бедный Амар. Эта несчастная наша страна...». Кузан не сомневается, что его тоже убьют, так как полиция не может не знать, что именно он организовал роковую встречу.
Кузан решает составить документ, в котором ясно и общепонятно разъяснит смысл сложной провокации, чтобы люди знали: Рогас не убийца, а тоже жертва отвратительной, страшной системы. Документ готов, но Кузан не знает, кому его направить. Потом, перебрав все варианты и все отвергнув, решает, что положит этот документ в одну из своих любимых книг. В какую? «Война и мир»? «В поисках утраченного времени»? «Дон Кихот»?
Кузан пишет письмо: «В моей библиотеке, в шкафу Э, на третьей полке между страницами «Дон Кихота» лежит документ о смерти Амара и Рогаса. И о моей смерти». Он кладет документ в книгу Сервантеса, а письмо адресует самому себе. Когда он выходит, чтобы опустить письмо в ящик, видит подле своего дома странную, подозрительную пару. Кто это? Вульгарные сыщики? Террористы? По лицам трудно определить. Кузан думает о природе революций. Революции замышляют вольнодумцы. А осуществляют их пуритане.
Проходит три дня. Кузан не только не убит, его никуда не вызывали. И он решает пойти в здание, где находится ЦК Интернациональной революционной партии, чтобы рассказать вице-секретарю партии все, что ему известно. С Кузаном в высшей степени любезны, его принимают в кабинете, где висит хороший портрет покойного Амара. Вице-секретарь сообщает Кузану, что портрет написал «один знаменитый художник, член нашей партии» (читайте: Ренато Гуттузо), и что Амар восхищался книгами Кузана. И что они в ЦК не сомневались, что Кузан придет, чтобы разъяснить... свою роль.
Выясняется, что партия многое знала. Например, знала, что Рогас накануне того дня, когда ему удалось в здании парламента подойти к Амару, виделся с Кузаном. Тот отвечает, что он пришел именно для того, чтобы рассказать все, что ему известно. Кузан помнит почти наизусть свой документ и все, что он говорит, вице-секретарь записывает на пленку, заметив: «Это в ваших интересах». Интересах? Вице-секретарь объясняет: существует Центр Специальной Информации. Руководят им Эти Другие. Эти Другие скептически относятся к Кузану, но Интернациональная революционная заверила Этих Других в том, что Рогас пользуется ее доверием. «Поэтому они вас не тревожили». Вице-секретарь утверждает, что Амара убил Рогас, и настойчиво просит Кузана посмотреть пачку документов.
«— Но ведь Рогас обнаружил заговор.
Возможно. Но Амара убил Рогас, а не кто-либо из заговорщиков.
Но почему? Почему вы верите, что Рогас убил Амара?
Потому, что документы имеют свою логику, свою правду... Рогас убил Амара.
Но почему он должен был убить Амара?
Этого мы не знаем, но он убил. Видите ли, синьор Кузан, ваш друг Рогас не любил нашу партию, это бесспорно.
Конечно, не любил. Но у него был культ оппозиции. А если говорить об оппозиции, то Интернациональная революционная партия... В общем, Рогас уважал ее...
Прочтите документы, — сказал вице-секретарь.
Но почему надо было убивать Рогаса? Почему не объясниться с ним, не судить его?
Тут государственные соображения, синьор Кузан. Они еще существуют, как во времена Ришелье. В данном случае государственные соображения вполне совпадают с партийными соображениями.
По партийным соображениям... Вы... В общем, ложь, правда...
Мы реалисты, синьор Кузан».
Книга вышла и началось форменное светопреставление. Дело вовсе не в том, как сам Шаша относился к идее революции, а в беспощадности, с которой он разоблачил цинизм, лицемерие и грязь политиков. Разумеется, Шаша никогда не подходил под понятие «попутчик». Он был левым писателем, левым общественным деятелем, к слову которого столькие прислушивались, он был независимым человеком, выше всего ставившим правду.
Газета ИКП «Унита» сначала откликнулась восторженной статьей лучшего своего критика Микеле Paro. Затем его дезавуировали, он ушел из газеты, позднее и из партии. В дискуссии выступило много людей, в том числе и члены ЦК ИКП. Некоторые соблюдали чувство приличия, но кто-то обвинил Шашу в том, что он долгое время только «притворялся левым», а на самом деле не понимал, что такое марксизм-ленинизм; да и Вольтер... Что такое вообще вольтерьянство?..
В Италии был тогда настоящий сумасшедший дом, так как, конечно, выступили и публицисты других направлений. «Контекст» истолковывали все по-своему, как кому было удобно. Шаша, конечно, ждал полемики, но не такой. У него не выдержали нервы. Он написал письмо в редакцию римского еженедельника «Джорни». Там были трагические строчки: «В этот момент моей жизни я — человек, потерпевший поражение и страшащийся катастрофы. Духовной в первую очередь, а не экологической». Письмо было напечатано 2 февраля 1972 г. Тогда я поняла, что кретинизм (правы французы, первыми сказавшие об этом) — понятие универсальное. В Москве запросто мог найтись какой-нибудь невежда или подхалим, которому ничего не стоит написать злую страничку, а потом у нас не станут переводить книг Шаши, хотя раньше немало переводили. Но о наших нравах незачем рассуждать: все знают.
Короче говоря, я написала очень длинную статью, в которой было много всякого и разного, а в середине спрятана информация о «Контексте» и защита Шаши. Статью перевели и напечатали в Риме, в журнале «Рассенья совьетика», о чем я и не знала. Кто-то прочел и дал этот номер журнала Шаше. И он прислал мне первое письмо, датированное 25 апреля 1974 г. Это письмо одно из самых дорогих мне писем Шаши, всего было 35, и после смерти Леонардо я отдала их его жене Марии Шаша. В том первом письме Леонардо написал, что я точно поняла и смысл книги «Контекст» и его душевное состояние. И что хорошо бы многим из деятелей итальянской левой тоже так понять.
Так началась наша дружба, основанная прежде всего на совершенном взаимном доверии и на чувстве солидарности.
В Италии традиционно ведутся длинные, иногда в самом деле важные, порою излишне усложненные дискуссии на самые разнообразные темы, и никто из выдающихся деятелей культуры не может спрятаться. Леонардо удавалось спрятаться, только если он уезжал во Францию или в Испанию. Тем для дебатов множество: соотношение политики, философии и литературы с действительностью; итальянская Конституция; мафия; ультракрасные и ультрачерные; религия и современность; этика; различные скандалы в мире политики, культуры, науки, масс-медиа, коллективные и персональные, и так далее.
Популярный еженедельник «Эспрессо» весь 1972 г. проводил дебаты на тему: «Устали ли итальянские писатели заниматься политикой?» В каком-то смысле говорили о судьбе поколения итальянских интеллигентов (не только писателей), родившихся примерно в 1920 году. Вот отрывки из выступления Шаши: «В пятьдесят лет есть не только жизнь, но и — скажем прямо — есть также смерть. Есть другие мысли, есть какие-то метафизические искушения. И это свойственно человеку. Надо признать, что у каждого есть свои собственные тревоги. Я в эти последние годы больше люблю литературу, с большим удовольствием пишу статью о литературе, нежели статью о нравах. Я предпочитаю читать Стендаля, а не книгу по социологии. Ничего не поделаешь, в этом надо признаться: литература теперь нравится мне гораздо больше, чем нравилась двадцать лет тому назад. Допускаю, что это может показаться возвратом к некоему консерватизму, но это не так и вообще тут ничего не поделаешь. Такие вещи случаются, это то же самое, что мысль о смерти. Когда человек прожил полвека, логично, что мысль о смерти ближе ему, чем в двадцать лет. А между тем за тобой такого права не хотят признавать: если ты думаешь о смерти или если ты думаешь также о Боге (а почему бы и нет? Можно думать и о Боге), тогда тебе говорят: это страшная ошибка. Но я вот — в гражданском плане — думаю то же самое, что думал тридцать лет назад».
Шаша выступил в «Эспрессо» еще раз, когда дискуссия заканчивалась. Он говорил, что демократические институты в сегодняшней Италии недостаточно сильны, что вполне возможны опасные повороты вправо. Все дело в том, как каждый поведет себя в случае, если действительно возникнут опасные ситуации. Еще раз — проблема личного выбора, в особенности, личного выбора интеллигентов. Вероятно, легче делать такой выбор в юности. Но, быть может, еще важнее, когда такой выбор делает зрелый человек, немало выстрадавший и передумавший, как Леонардо Шаша. Его выбор никогда не вызывал сомнений.
Через три года после «Контекста» вышел блестящий, сверкающий роман «Тодо модо» («Любой ценой» — лозунг иезуитов). В одной дневниковой записи Шаша рассказывает, как однажды летом случайно попал в гостиницу-скит, находившуюся где-то в горах, и прожил там два дня. В эту гостиницу в один из летних месяцев ежегодно съезжались для «духовных упражнений» бывшие воспитанники какого-то религиозного интерната, теперь — зрелые люди, многие из которых сделали большую карьеру в органах государственной власти, в адвокатуре, в мире финансов и бизнеса.
В той записи Шаша замечает, что многие из этих католических персонажей (каждый в сфере своей деятельности) подпадали под ту или иную статью Уголовного кодекса. Но вот они собирались каждый день, чтобы молиться и размышлять. После каждой проповеди они были обязаны разойтись по своим комнатам, чтобы «сосредоточиться». Два дня Шаша с огромным интересом наблюдал за всем, что происходило. В поведении этих людей, занимавшихся «духовными упражнениями», он видел и нотки истерии, и страха, и что-то гротескное. Словно на какой-то миг эти прожженные дельцы чувствовали себя ворами, находящимися в отведенном для них круге дантовского ада. И этот крошечный контрапункт как-то успокаивал и обнадеживал Шашу. «То, что они верили в ад, что они боялись ада... Если ты в него веришь, он существует. Если он существует, ты в него попадешь».
В записях, конечно, нет персонажей, но в романе «Тодо модо» их много и главный из них — священник дон Гаэтано, духовный пастырь всех этих людей. В романе «Тодо модо», как и в записях, атмосфера истерии, страха. Все гротескные ситуации тщательно вычислены, продуманы. Роман написан с огромной силой разоблачения и предвидения. Дон Гаэтано — человек такого интеллектуального масштаба, что, кажется, превосходит президента Верховного суда в «Контексте». Его оппонент — художник, случайно оказавшийся в скипе (Шаша). «Тодо модо» имел сенсационный успех во всем мире, он переведен и у нас. Мне кажется, он написан с еще большим блеском, чем «Контекст». В романе происходит много убийств, убиты почти все участники «духовных упражнений», а в конце концов художник убивает дона Гаэтано.
После грандиозного успеха «Тодо модо» итальянские коммунисты решили мириться с Шашей, поехали к нему в Ракальмуто и уговорили стать независимым кандидатом на выборах в муниципалитет Палермо по спискам ИКП. Лучше бы они не уговаривали, а он не соглашался. Во время предвыборной кампании он говорил о Стендале и о разуме и был триумфально избран, первым в списке. Все знали, кто такой Леонардо Шаша, ему верили. Характерно для него абсолютное презрение ко лжи, хищничеству, ханжеству: «Мне кажется, что все несчастья нашей страны проистекают из закоснелого и неистребимого двоедушия. Идет игра в двойную правду. Эта игра начинается вверху и прекращается лишь там, где правда не может больше позволять себе роскошь быть двойной. И тогда это единственная, недвусмысленная правда нищеты и горя... Игра может продолжаться годами, десятилетиями, и ее ядовитые отбросы отравляют жизнь низов, добавляя нищету к нищете, несчастья к несчастьям».
После примерно года Шаша покинул муниципалитет. К нему опять приехали руководители сицилианской организации ИКП и устроили драму: «Ты забыл, как мы провели «операцию Шаша»?» Он не ожидал, что поднимется такой шум... Шаша никогда не был членом никакой партии; коммунисты и в 80-х гг. хотели заполучить его, но он утверждал, что его дело — писать книги. Впрочем, позднее он вошел в национальный парламент, опять как независимый, опять триумфально по спискам маленькой и довольно экстравагантной Радикальной партии, делающей, впрочем, немало полезного. Но Шаша хотел стать парламентарием, чтобы иметь возможность получить доступ ко всем документам, связанным с Альдо Моро.
Один итальянский автор писал о дуализме Шаши: о резком противопоставлении полярных этических позиций. А как он вообще работает? Он выбирает из архивов или из газетной хроники какой-то факт, зафиксированный, но с трудом поддающийся расшифровке или допускающий разные истолкования. Иногда группу фактов. Шаша проделывает тщательную, ювелирную работу. Он воссоздает с наибольшей возможной точностью атмосферу времени. Потом предлагает свою гипотезу, которую, впрочем, никому не навязывает. Что значит «Сицилия как метафора»? Это значит, что Сицилия может становиться для него почти универсальной, когда он размышляет над тем, что мы называем вечными проблемами.
Он признается: «Вещи, которые я пишу, всегда проистекают из определенной идеи и развертываются в соответствии с планом». Затем набранное курсивом программное заявление: «Я хочу доказать нечто, пользуясь изображением подлинного или выдуманного факта».
Я вижу в этом бесстрашие. Леонардо Шаша всегда верил в решающую силу разума. Его мировоззрение, его поэтика, наконец, все его поступки говорят о бесстрашии. Гак, он не боялся упреков в рассудочности и в том, что он пристрастен. Конечно, пристрастен. Он любил или презирал своих персонажей. Он мог сказать как Флобер: «Эмма Бовари — это я». Можем ли мы верить в беспристрастность, которая так часто оборачивается равнодушием или лицемерием? Почему Шаша написал «Смерть инквизитора»? Потому что хотел восстановить историческую правду и справедливость по отношению к Диего Ла Матина. Несомненно, факты изложены со скрупулезной точностью. Вопрос в том, как прочесть документы, или — иначе говоря — в этической позиции автора: занимает ли он позицию на стороне Диего Ла Матина или монсиньора де Чиснерос. И так во всех книгах Шаши.
Шаша говорил в одном интервью, что порой ему приходится читать книги своих современников-итальянцев. И он сразу чувствует: если чтение не увлекает его, значит, и автор писал без всякого увлечения. «Эго просто ужасное ощущение: видишь, как кто-то садится за стол и говорит себе: «Я должен обязательно написать ее, эту проклятую книгу, лишь бы поскорее с ней разделаться». Отсюда пробелы, невнятица, какая-то литературная паранойя. Порой хочется сказать кому-нибудь из этих авторов: «Но за каким дьяволом вы пишете? Не подвергайте себя таким страданиям, таким мукам». Шутка, конечно, но мы знаем: в каждой шутке...
Шаша говорил о себе, что он — итальянский писатель, который живет на Сицилии и который убежден в том, что Сицилия сосредоточила в себе все проблемы, все противоречия — не только итальянские, но также европейские — до такой степени, что может считаться метафорой современного мира. Шаша мучительно осознает противоречие писательского взгляда «извне» и точки зрения просто человека, сицилианца, влюбленного в родной край: «Я пишу о себе, для себя, иногда против себя самого. Многие компоненты итальянской действительности, в которой я живу, мне кажутся отвратительными. Но я вижу их «изнутри», с болью. Мое сицилианское «Я» страдает от этой убийственной игры».
Шаша, как мы знаем, работал в различных жанрах. Через год после «Тодо модо» он обратился к совершенно иной области и закончил работу над одной из самых спорных, хотя и интересных своих книг. «Исчезновение Майораны». Весь текст (как это было традиционно принято в Италии, когда произведение считалось особенно важным) печатался с продолжениями изо дня в день в туринской газете «Стампа». На этот раз политики реагировали мало, зато против Шаши выступили — и порой исключительно резко — физики.
В столице Италии существовала знаменитая римская школа: ее возглавлял ученый с мировым именем, позднее лауреат Нобелевской премии — Энрико Ферми. Под его руководством работало много одаренных физиков. Одного из них он отличал среди всех коллег: Этторе Майорана. Вот что писал о нем Ферми: «В мире существуют ученые разных категорий. Люди второго и третьего плана, которые делают все как можно лучше, но не уходят слишком далеко и ввысь. Люди первого плана, которым удается делать открытия, чрезвычайно важные для развития фундаментальной науки. И есть — кроме того — гении, такие как Галилей или Ньютон. Так вот, Этторе Майорана был одним из таких. Майорана обладал тем, чем не обладал никто другой на свете. К несчастью, он был лишен того, что мы обычно находим в других людях: простого здравого смысла».
Первую свою работу по атомной физике Майорана написал под руководством Ферми. Весной 1933 г. его послали в научную командировку в Германию. Там он встретился с прославленным физиком по имени Вернер Гейзенберг, который за год до того был удостоен Нобелевской премии. И Ферми и Гейзенберг были иностранными членами Академии наук СССР. Этторе Майорана был очарован Гейзенбергом. Согласно Шаше — Майорана никогда не был особенно близок с товарищами по римской школе. Только с Гейзенбергом, о котором он с восхищением писал родителям. Почему именно с Гейзенбергом возникла такая дружба и духовная близость? Потому, отвечает Шаша, что «проблемы физики, даже собственные исследования, существовали для Гейзенберга лишь в более широком контексте. Он мыслил широко и драматично. Выражаясь точнее, Гейзенберг был философом».
Это важное рассуждение. Потому что Шаша будет мерить Майорану той же высокой меркой. Наука, конечно, но и этика. Ведь речь идет об атомной физике. Жена Ферми, Лаура, написала книгу, переведенную и в СССР. Она писала: «Майорана додумался до гейзенберговской теории атомного ядра, построенного из нейтронов и протонов, задолго до того, как ее опубликовал Гейзенберг. Но Майорана даже не записал ее... Этторе Майорана, самый блестящий и многообещающий из молодых римских ученых, при всей своей исключительной одаренности мог бы больше всех способствовать успехам физической науки, но трагически покончил с собой».
Обстоятельства: 25 марта 1938 г. Этторе Майорана поднялся на борт парохода, крейсировавшего по маршруту Палермо-Неаполь. С борта он не сошел и больше никто никогда его не видел. Поднялся шум во всей Европе. Муссолини велел провести самые тщательные розыски, и их провели, но они оказались безуспешными. Была принята версия самоубийства. Думали, что труп Майораны лежит на дне моря.
Когда много лет спустя Шаша заинтересовался судьбой Этторе Майорана, он не поверил, что молодой ученый покончил жизнь самоубийством. Шаша нарисовал портрет Майораны: тридцатидвухлетний ученый, замкнутый, легко ранимый, несчастливый, живет под страхом, что ему суждено сделать открытие, которое принесет гибель человечеству. Наука неумолимо следует собственным законам, и Майорана чувствует, что он почти на пороге рокового открытия.
Были и личные обстоятельства. Предстоял конкурс на замещение вакантного места на кафедре теоретической физики римского университета. Не станем входить в подробности. Факт тот, что Майорана выставил свою кандидатуру в момент, когда все было предрешено: кафедру должен был получить профессор Джентиле, сын знаменитого философа и идеолога фашистского режима Джованни Джентиле, в прошлом единомышленника, затем оппонента Бенедетто Кроче. И получил. А Майорана «за особые заслуги и славу ученого был назначен профессором теоретической физики неаполитанского университета». Это было большой травмой для человека с хрупкой психикой, каким был Майорана. В своей книге Лаура Ферми называет историю с конкурсом одной из причин, толкнувших Этторе Майорану на самоубийство.
Именно глава о конкурсе в книге Шаши вызвала гневные протесты многих физиков, среди которых особенно резко реагировал на эту книгу Эдоардо Амальди, кстати иностранный член АН СССР; он выступил несколько раз. Амальди был участником римской школы. Атомные физики были лично задеты книгой Шаши, тем более, что в главе о конкурсе было одно взрывное слово; мистификация.
В последнем письме Майораны были слова: «... мое неожиданное исчезновение». Шашу поразило именно это слово: не смерть, а исчезновение. По Шаше: можно уйти из жизни (смерть), но можно уйти от жизни (исчезновение). Например, уйти в монастырь, для этого не обязательно даже быть верующим. Шаша вообще считал, что в 1938 году на борт парохода поднялся не Этторе Майорана, а какой-то другой человек. Фактов было немного и можно допустить, что Шаша, одержимый своей гипотезой, бессознательно группировал факты (в рамках своей формулы, что он может противоречить всем и самому себе). Мне кажется, что книга «Исчезновение Майораны» основана, в отличие от других книг Шаши, не на фактах, а на умозрительных рассуждениях. Игра ума, блестящая литературная и психологическая алхимия. Формально — Шаша стремился к сухости и протокольности изложения, но все равно не покидает ощущение некоей двойственности.
Атомные физики предъявили Шаше серьезные обвинения: «Этторе Майорана, которого все мы знали, уважали и любили, был совсем не таким, каким его рисует Шаша», «Шаша неверно прочел документы», «Лаура Ферми не во всем разобралась». И наконец последнее из выступлений Амальди: «Было невозможно или, во всяком случае, крайне маловероятно, чтобы Этторе Майорана, подлинный Майорана мог интуитивно предугадать возможность создания атомного оружия. Кроме того, его (как бы теперь выразились) социально-политическая позиция была весьма отличной от позиции дальновидного антифашиста или универсального гуманиста. Никто не может и не должен критиковать его за это, но нельзя представлять Майорану паладином или прямо-таки символом».
Шаша был поистине одержим этой темой. И вот, уже после всех яростных нападок, ему сообщили поразительные вещи. Будто бы в провинции Катандзаро, в монастыре «ди Сьерра Сан Бруно», по свидетельству одного из монахов, «живет один большой ученый». Шаша поехал туда, посетил кладбище. Там было тридцать крестов, тридцать безымянных могил. И будто бы в этом монастыре некоторое время скрывался, спасаясь от мук совести, «преследуемый фуриями», американский полковник Паул В. Тиббетс. Этот полковник был командиром, который послал один из своих бомбардировщиков 6 августа 1945 г. сбросить на Хиросиму смертоносный груз.
Приор монастыря все отрицал. Но монахи утверждали, что полковник время от времени появлялся в монастыре «ди Сьерра Сан Бруно». Легко вообразить, чем все это было для Шаши, несмотря на весь его скептицизм и рационализм. Возможно, история с монастырем и с гипотезой о судьбе Майорану как раз и были «метафизическими искушениями». Да и вправду: само сопоставление двух имен: Этторе Майорана и Паул В. Тиббетс заключает в себе какую-то страшную идею о жизни и смерти. Человек, пославший своего подчиненного обрушить на людей атомную гибель, и гениальный ученый, который предпочел уйти от жизни, лишь бы не сделать фатальное открытие. И кажется, не так уж важно, прав или нет Шаша, вернее всего — не прав: важна идея, философская, этическая позиция Шаши.
Но вот наступает февраль 1977 г., вторая волна молодежного движения. Первая волна (парижский май, перебросившийся в Италию и провозгласивший безумный и прекрасный лозунг «Вся власть воображению!») сменилась второй волной. А это уже была кровь. В мире итальянской интеллигенции наступило не просто размежевание, а нечто гораздо более серьезное. Предстоял процесс над группой, создавшей Бригате россе. Террористы, бывшие на свободе, угрожали присяжным смертью. Процесс должен был состояться в Турине. И вот 16 человек, которые должны были стать присяжными, принесли врачебные справки, гласящие, что все они страдают депрессивным синдромом. Ясно, что началось.
Каждый должен был высказаться. В дискуссии главными фигурами стали, с одной стороны, Шаша, а с другой, — один из лидеров ИКП — Джорджо Амендола. Как всегда, Шаша был максималистом. Он заявил: «Если бы моим долгом не было не бояться, я поступил бы так же, как эти туринцы». Разумеется, «если бы моим долгом не было не бояться» мгновенно забыли. Осталось то, что Шаша отказывается защищать Республику. А он действительно писал: «Есть правящий класс, который не изменился и не изменится, если только не покончит самоубийством. Я совершенно не хочу отговаривать его от этого и чем бы то ни было помогать ему».
Амендола обвинил Шашу и других в аристократизме, в пораженчестве и т.д. Шаша в ответ несправедливо обвинил Амендолу в том, что тот при всех изменениях политической погоды «удерживался в седле». Это значило: был конформистом, и это было несправедливо. Но Шаша, очевидно, дошел до пределов обиды и боли. Он писал: «В 1971 г. я опубликовал «Контекст», а в 1974-м «Тодо модо». То, что я говорю сегодня, точно соответствует тому, что изображено в этих двух книгах. Когда я выставил свою кандидатуру в муниципалитет Палермо, то на первом же митинге сказал, что состою в списках коммунистической партии, не отказавшись ни от одной запятой из написанного мною. Какая там запятая! Теперь я вижу, что должен был бы отречься от тысячи своих страниц. Этого я не сделаю. Такой вещи я не смог бы переварить. Для этого у меня нет, выражаясь словами Амендолы, достаточно мужества. Но в мужественных, да и сверхмужественных людях у него недостатка не будет. Они уже начинают выходить на поверхность, и их будет много, так много, что и ему покажется — слишком».
Итак, страна разделилась на оптимистов и пессимистов, главные фигуры соответственно — Амендола и Шаша. Вышла антология с самыми важными выступлениями. Ее составитель как бы хотел подвести черту: «В первых числах мая тысяча девятьсот семьдесят седьмого года наш полуостров оказался тонущим в наводнении нервных, возмущенных, иногда неправильно понятых слов, текстов, публикаций, телефонных разговоров, — и все они были направлены к тому, чтобы разрешить, растолковать, политизировать вечный вопрос, одновременно гражданский и моральный, о задаче интеллектуалов».
Чтобы поставить точку над дискуссией, Шаша призвал себе на помощь тень д’Аламбера, поскольку речь шла о нравственных принципах. Потом заперся в своем доме в Ракальмуто и написал книгу: «Кандид, или Сон, приснившийся на Сицилии». Это было прямым продолжением дискуссии. Книга заканчивалась послесловием: «Монтескье говорит, что...», но я не хочу цитировать: все понятно. «Кандид» Шаши одновременно памфлет и философская сказка. У Шаши его Кандид Мунаф одно время состоит в коммунистической партии, откуда его исключили. Когда секретарь парторганизации прорабатывал Кандида, тот сказал ему: «Ты, товарищ, говоришь, как Фома Фомич». Следующая глава написана с большим блеском: несчастный секретарь перерывает все энциклопедии и справочники, чтобы разузнать, кто такой Фома Фомич. И мучился, пока один славист не сказал ему, что это Фома Опискин. Секретарь прочел переведенное на итальянский язык «Село Степанчиково и его обитатели» и ужасно обиделся. Некоторые оценили юмор и прелесть этой главы, но что отрицать — «Кандид...» Шаши, конечно, был вызовом.
После падения фашизма итальянская культура была преимущественно левой и приходится признать, что стиль Жданова определял очень многое. Пальмиро Тольятти, человек образованный и умный, в вопросах литературы и культуры проявлял непонятную, даже агрессивную нетерпимость. После смерти Тольятти в 1964 г. в Ялте политика ИКП по отношению к творческой интеллигенции, к несчастью, продолжалась. Именно на этом фоне приходится рассматривать отношение партии к Леонардо Шаше. Понимали и масштаб его таланта, и его громадную популярность, и его личный престиж. И, вопреки всему этому пониманию, хотели, чтобы он «шел в ногу». А он называл хлеб хлебом и вино вином и ни к кому не приспосабливался.
Наступил март 1978-го: пятьдесят пять дней национальной трагедии: похищение, допросы и гибель Альдо Моро. Это было решающим событием в жизни Республики и в личном мировоззрении многих людей, особенно интеллигентов. Шаша написал книгу, одновременно вышедшую в Палермо и в Париже — «L’affaire Moro». В то страшное время каждый должен был решить все для себя, — и не только те, кто жил в Италии. Мне лично не слишком нравится слово милосердие, думаю, что иногда его употребляют не к месту. И с Моро — думаю — дело было совсем не в милосердии, которое должно было или не должно было проявить итальянское правительство. Но это особый и сложный разговор. Что до меня, я уверена, что кому-то политически нужна была смерть Моро.
Все гонорары за книгу о Моро были отданы палермскому Институту культурной антропологии: Шаша считал, что этот Институт тщательно и объективно анализировал поведение газет, радио и ТВ во время страшных пятидесяти пяти дней. Шаша считал поведение средств массовой информации во время этой трагедии отвратительным и просто скандальным. Эпиграф к «L’affaire Moro» взят из любимого Шашей прекрасного писателя Элио Канетти: «Кто-то умер в нужный момент». Убив Моро, БР положили труп в багажник красного автомобиля. Автомобиль был оставлен ровно на половине дороги между зданиями, где помещаются Руководство ХДА и ИКП. Все предельно ясно.
Шаша обвинял всех католических интеллектуалов, подписавших известную Декларацию, в которой они фактически отказывались от пленника, в противоречии с христианской этикой, он — не католик, он, если не атеист, то, во всяком случае, агностик. Когда Моро убили, Шаше казалось, что он никогда больше не сможет написать ни строчки. Но потом написал эту книгу — еще один вызов всем, кто стоял «на позициях твердости».
В одном из писем Моро была фраза: «Я умру, если моя партия так решит». Его партия так решила, и не она одна. Шаша писал: «Умерев, Альдо Моро, так сказать, снял с себя христианско-демократическую тунику. Его труп не принадлежит никому, но его смерть бросает вызов всем нам... Его смерть показала, что за политиком Моро, постоянно стремившимся выжидать и не принимать решения, стоял человек, веривший в демократию и в человеческое достоинство».
Теперь — о личном. В 1983 г., после перерыва в полстолетия, каким-то чудом я на полтора месяца прилетела в Рим. Шаша пришел в дом к друзьям, у которых я гостила. Это было 3 мая. Он принес цветы и книгу Мандзони со своим предисловием. Надпись: «Дарю вам книгу великого итальянского католика, признававшего только правду и никогда не шедшего на компромиссы». (Не привожу все ласковые слова в этой надписи: они мои и слишком мне дороги.) Прошло, таким образом, девять лет после первого письма, которое мне прислал Шаша. Верить ли в судьбу и в чудеса? Предпочитаю всегда в них верить.
Леонардо оставалось жить еще шесть лет и пять с половиной месяцев. Проклятая болезнь века. Мария сказала мне правду еще в то время как врачи выдумывали сложные зашифрованные диагнозы, когда еще не начались боли. Леонардо очень много работал. Все книжки этих последних лет, независимо от того, происходило ли действие в XVI или в XX в. об одном и том же: о справедливости. Не стану их перечислять, среди них есть замечательные. Например — «Достопамятный приговор», в котором Шаша отталкивается от исторического факта, бегло записанного Монтенем. Эстафета. Гарсия Маркес в одном интервью «Стамп» заявил, что в развязке сюжетов «учится у Шаши», а Шаша и Борхес были и лично связаны. Это таинственные законы мирового культурного процесса. Шаше очень нравилась вещь Борхеса «Богословы», где ортодокс и еретик оказываются одним и тем же лицом. Ортодоксу удается отправить еретика на костер, но в тот же момент он сам падает, сраженный молнией. Шаша продолжает тему Борхеса, перенеся действие на Сицилию. 27 марта 1792 г. Доменико Караччоло, сицилианский вице-король, пишет д’Аламберу, что инквизиция, «это страшное чудовище», уничтожена на Сицилии навсегда. Образованные сицилианцы, воспитанные на идеях французских просветителей, ликуют.
Но нашелся один фанатик (напоминаю, Шаша ненавидел фанатиков) — маркиз де Виллабианка, который воспринял уничтожение инквизиции как личную катастрофу, позор и унижение. Шаша основывался прежде всего на дневниках маркиза и на документах эпохи. Так возникла интереснейшая история одной секты — религиозно-философски-политической. Этот текст включен в книгу Шаши «Мини-хроники». Последний текст в этой книжке называется «Несуществующий Борхес». Это совершенно сумасшедшая история о том, как парижский серьезный «Монд» ссылается на правый аргентинский журнал «Кабильдо», который утверждает, что никакого Борхеса на самом деле не свете не существовало. А кто же написал все его книги? Ответ — трое литераторов: Леопольдо Марешаль, популярный аргентинский автор А.Бьой Касарес и Мануэль Мухика Лайнес. Однако им надо было найти какого-нибудь человека, который представлял бы несуществующего Борхеса для средств массовой информации. И они нашли для этой роли второстепенного актера, которого зовут Акилес Скатамача, И будто бы шведская Академия, присуждающая Нобелевские премии, узнала про всю эту панаму и именно поэтому Борхесу так никогда и не была присуждена Нобелевская премия, несмотря на всю его мировую славу.
Но все-таки, продолжал Шаша, надо быть справедливыми. История настолько борхесианская, что сам Борхес мог запросто придумать ее. Я читала все это со смешанным чувством острого любопытства и желания понять, что означает для Шаши и других крупных писателей книга. Это даже не центр мироздания, это сила, которая в первозданном хаосе создает мир, это акт сотворения мира. Шаша формулирует свое кредо точно и убежденно: «Книга есть не что иное, как сложение точек зрения, интерпретаций. В конечном счете сумма этих точек зрения, этих интерпретаций составит книгу. И, следовательно, какое значение имеет, написал ли человек по имени Хорхе Луис Борхес десять или двадцать книг, или вообще ни одной, если к тому же неизвестно, что он на самом деле написал.
И так же пусть будет с нами».
Мне не хочется говорить о книге «Одна простая история». На пятидесяти страницах Шаша сказал все, что повторял десятки лет. Каждая его книга воспринималась как messaggio, то есть как послание к людям. В 1987 г. Шаша дал интервью одному немецкому журналу. Они — журналисты — хотели знать его мнение о немецкой литературе и о немецкой философии. Тут выяснилось, что он признает величие Гете, но — кроме самых важных книг Гете — предпочитает «Беседы с Эккерманом», и что он — Шаша — равнодушен к Томасу Манну и, пожалуй, Генрих Манн ему больше нравится. Вообще же Шаша подчеркивал, что ему ближе французская культура. А о философии: «Я не очень хорошо знаю немецкую философию. Но кое-что знаю о немецком иррационализме. К изучению его меня привел Пиранделло. Вообще же — после греков — мне ближе всего Спиноза. Меня пугает, когда идеализм становится всеохватывающим».
И все-таки о книге «Одна простая история». В октябре-ноябре 1989 года я была в Италии. Сначала в Риме. Леонардо был уже очень болен и мне казалось, что встреча будет для него трудной. Мы с Марией говорили по телефону ежедневно и вдруг она сказала, что Леонардо просит прилететь. Я была у них в субботу 4 и в воскресенье 5 ноября. Леонардо сидел на диване, совершенно не курил (раньше курил одну сигарету за другой). Последнее — тяжелое — письмо из Милана, которое Леонардо прислал мне, датировано 28-м апреля 1989 г. Я знала, что весной, на Пасху, наступило резкое ухудшение. Но, пока не видишь, трудно представить себе, насколько хуже. Леонардо сидел исхудавший, какой-то маленький, не мог сдерживаться: все говорил, что очень сильные боли — везде. Он подарил мне второй том своих вещей (из серии «Классики»); надпись, как всегда, теплая, но почерк... Больно смотреть.
На другой день, в воскресенье 5 ноября, произошло маленькое чудо. Однако это целый мини-сюжет. Однажды (это было в Ракальмуто), когда мы говорили о периоде фашизма и национал-социализма, всплыла фамилия Телезио Интерланди, о котором я не раз писала. Интерланди в 1938 г. написал Манифест итальянских расистов (подписала группа профессоров) и создал журнал «Защита расы». Но я не знала о том, каковы были личные отношения Интерланди с Муссолини, а также о том, что во время гражданской войны Интерланди и его сына спас (несколько месяцев прятал в своем доме) один адвокат-антифашист. Когда Леонардо все это мне рассказал, я ответила, что вся история — готовый сюжет. И Шаша обещал мне, что напишет, как только раздобудет все документы у сына того адвоката-антифашиста.
И вот 5 ноября я заговорила с Леонардо об этой книге. Тут и произошло чудо: он оживился, на какую-то минуту или две минуты, видимо, забыл о болях и сказал, что теперь может выполнить данное мне обещание и напишет эту книгу. Понимал ли он невозможность? Думаю, понимал. Но он действительно был настоящим, большим писателем. Незачем говорить банальности о торжестве духа, но все же это было торжество духа, пусть такое короткое: ведь Леонардо, когда сказал, что теперь у него есть все документы, улыбнулся. Боже мой, улыбался ли он еще в последние две недели?
Мы говорили, конечно, о книге «Одна простая история» и Леонардо нервничал. Книгу печатали в Милане, и она никак не выходила, ждали каждый день. От Шаши я полетела в Рим и — сразу — в Милан. Каждый день спрашивала в книжном магазине. Нету, нету, завтра... И каждый день звонила Марии. Книги нет и в Палермо, хоть бы Шаше прислали контрольный экземпляр, так нет же. Вечером 18 ноября мне дал эту книгу один известный критик. Наверное, критики получают новые книги раньше всех.
Ночью прочла книгу, утром звоню Марии, что книга замечательная и сейчас буду читать второй раз. Мария пошла сказать Леонардо, и он: «А я уже не смогу прочесть». Это тоже было воскресенье. С утра до последнего вечернего самолета у Шаши был один из ближайших друзей — знаменитый фотограф Фердинандо Шанна. Рано утром в понедельник 20 ноября Фердинандо позвонил мне. Еще не было сообщения по радио, но ему сказала Мария. Он приехал в дом, где я жила, принес книгу с фотографиями Леонардо, побыл со мной часик, чтобы не оставлять меня одну. И рассказал, как прошел последний день. Леонардо был в постели, продолжались страшные боли. Когда Мария сказала Леонардо о моем звонке, он сначала сказал: «А я уже не смогу прочесть», а потом обо мне: «Я так счастлив, что она приехала».
Леонардо оставил Марии письмо с точным перечнем всего, что надо сделать. Его волю она выполняет свято. Единственное, чего я не знаю и не посмела спросить — хотел ли Леонардо отпевания. Оно состоялось.
Леонардо подробно распорядился о могиле. Несколько раз я ездила туда с Марией. Мраморная доска в человеческий рост не возвышается, а как бы стелется по земле и сомнений нет: это книга, белый мрамор как белая страница. Вверху: Леонардо Шаша, даты рождения и смерти. Внизу слева выгравирована загадочная фраза: «Мы будем вспоминать об этой Планете». Лучший биограф Шаши, профессор Клод Амбрауз, как и все мы, не знает, откуда эта фраза. Он подтвердил: это не фраза Шаши. Амбрауз полагает, что это фраза из какого-то французского текста конца XVIII в.
Сейчас в Италии все чаще в газетах и на ТВ вспоминают о том, что был такой писатель и общественный деятель, которому люди верили — Леонардо Шаша.
Как рефрен звучит: «А что сказал бы об этом Шаша?» Потому что Шаша, как немногие, умел отбрасывать риторическую шелуху и вдумываться в смысл происходивших политических событий. Были ценности, в которые он верил и которыми никогда не поступался. Свое кредо он излагал неоднократно; сейчас мы приведем одну из стольких цитат: «Да, я верю. Верю в разум, в свободу и в справедливость, которые вместе и составляют разум — но беда, если их разделять. Думаю, что можно создать, хоть и не вполне совершенный, мир свободы и справедливости. Но вся сицилианская история — это история поражений: поражений разума, поражений разумных людей. Так же и моя история — история поражений или, скажем скромнее, разочарований. Отсюда скептицизм, но скептицизм благотворен: он является лучшим оружием против фанатизма. Скептицизм как бы предохраняет нас от фанатизма. Он — как и пессимизм — гарантирует свободу разума».
Этот человек, отстаивавший право «противоречить всем и самому себе», казавшийся хрупким, замкнутым, быть может — неуверенным — на самом деле был политиком, полемистом, бойцом. В политике и в культуре (а он не желал искусственно разделять их) Шаша боролся против двоедушия, лицемерия, трусости, постыдных компромиссов. Шаша понимал, что посетил сей мир «в его минуты роковые». Вероятно, он предпочел бы родиться и жить в XVII или XVIII в., но ему довелось жить в страшном XX, и он принял эту неизбежность как судьбу и как выбор. Он вошел в историю Италии и Европы как человек, не умевший быть гуттаперчивым, быть может — как Дон Кихот. Но разве это не прекрасно? Мы по своей истории знаем, что это прекрасно, потому что в политике и в искусстве решает не успех, а высшие ценности.
Каждому из нас, я уверена, судьба отсчитала столько-то горя и столько-то счастья. Горя мне, как и стольким другим, хватало. Но было и счастье. Среди самого счастливого и дорогого — дружба Шаши.
Все мы будем вспоминать об этой Планете».
Л-ра: Вопросы философии. – 1992. – № 2. – С. 88-102.
Критика