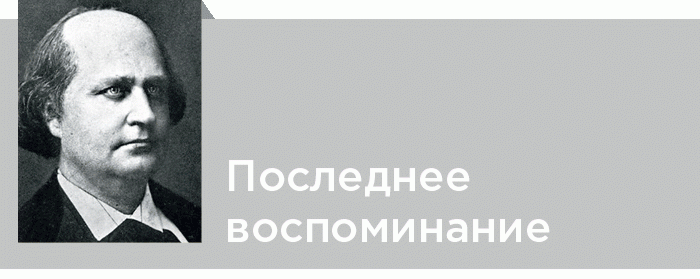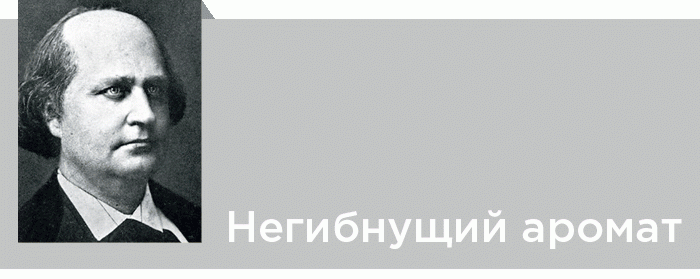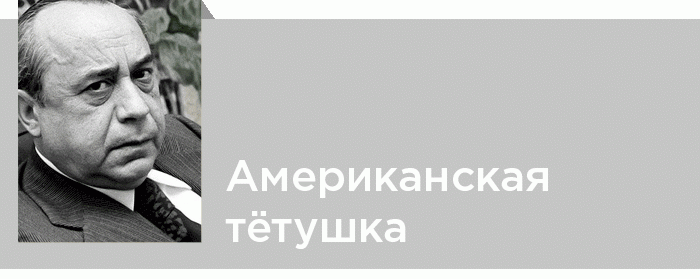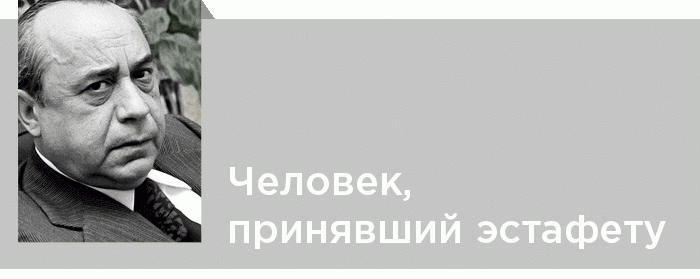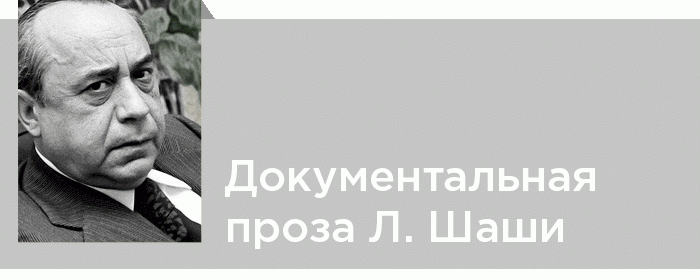Леонардо Шаша. Вопрос чести

Переезд из Рима в Мадду на поезде, который отправлялся из Рима в восемь часов утра, и, прибывал в Мадду в ноль часов семь минут ночи, адвокат Вакканьино проводил постоянно за чтением одной из ежедневных газет, трех иллюстрированных журналов и одного полицейского романа. Минимум раз в месяц ему доводилось совершать такой вояж; по пути в Рим он тщательнейшим образом изучал и приводил в порядок различные бумаги, бывшие причиной его вояжей, а на обратном пути — охотно предавался чтению.
Но ежедневной газеты, трех иллюстрированных журналов и одного романа хватало лишь только в том случае, когда поезд шел по расписанию, с восьмого часа и до полуночи; за этот период времени адвокат успевал дважды пообедать: один раз — в вагоне-ресторане и второй раз — на пароме. Беды наступали, когда поезд опаздывал; все, что было у него читать, он успевал проглотить, в то же время не представлялось возможным отвлечься и поглядеть на деревни и море, мелькавшие теперь в бесформенной ночи, и, наконец, наступал момент, когда начинал подкрадываться к нему сон; возникала опасность крепко уснуть и очнуться только на конечной станции, что с ним однажды уже и случилось.
Поэтому, когда становилось ясно, что поезд опаздывает, адвокат принимался бродить по опустевшим вагонам в поисках газет, оставленных пассажирами, и чувствовал себя спасенным, если ему удавалось найти что-нибудь, все равно что — будь то фашистская газета, модный журнал или комикс.
Как-то летом адвокат возвращался на поезде, опаздывавшим уже в Катании на сорок минут, и было ясно, что в Мадду он прибудет на два часа позже; ночь застала адвоката погруженным в чтение журнала «Вы», в котором были представлены разделы: мода, все для дома и новости. Первым делом он перелистал журнал, подолгу задерживаясь на страничках с модой, которая, делая акцент на тело самих манекенщиц, несомненно, была полна живой фантазии и грациозности, но, которая, однако, была бы оценена как непристойная, появись в таком одеянии на людях чья-либо жена, дочь или сестра. Нет, не потому что адвокат был за строгости в выборе одежды, (упаси боже!), и выступал против того, чтобы мода пришла и в Мадду; вопрос просто был в том, что не все в Мадде, подобно ему, смогли бы любоваться красотой женского тела чисто эстетически. Появление женщины, одетой подобным образом, (с глубоким декольте и в мини-юбке), вызвало бы среди членов местного городского общества гром таких вожделенных криков и непристойных комментариев, которые вынудили бы мужа, отца или брата этой женщины, либо покориться, что по местным меркам недостойно настоящих мужчин, либо же выставить себя на посмешище своей слишком резкой реакцией на происходящее.
К счастью, журнал был объемист. Достигнув последней странички, адвокат начал перелистывать его вновь, собираясь приступить к чтению. Вначале шла многочисленная реклама, затем раздел — Мораль, Духовная жизнь. Отвечает Святой отец Луккезини. Адвокат снял туфли, взгромоздил ноги на противоположное сиденье и принялся читать. Тут же его заинтриговало одно сообщение: «Чрезвычайно щекотливый и сложный вопрос поднимает одна наша читательница из Мадды. Несколько лет назад я проявила минутную слабость и изменила своему мужу с мужчиной вхожим в наш дом; этот мужчина приходится мне дальним родственником, и в него я была немножко влюблена еще с самого детства. Наша связь длилась в общей сложности что-то около шести месяцев, но даже в этот период времени я продолжала любить моего мужа, и сейчас я люблю его еще сильнее, чем прежде; мое же небольшое увлечение родственником совершенно прошло.
Но я страдаю оттого, что обманула человека столь доброго, честного и доверчивого, и столь любящего меня. Иногда я чувствую, что должна рассказать ему все о случившемся, но меня удерживает страх, что таким образом я могу потерять его навсегда. Я сильно набожна; и поэтому не раз признавалась в своих угрызениях совести нашим священникам. Все они, за исключением одного, (который, впрочем, прибыл к нам с континента), сказали мне, что, если мое раскаяние чистосердечно, и, что, если моя любовь к мужу осталась неизменной, то я должна молчать. Но я продолжаю страдать. Святой отец, что вы мне можете посоветовать?».
Душа адвоката испытала удовлетворение близкое к ликованию. Об этом письме можно будет говорить у себя в Мадде, по крайней мере, месяц: в обществе, в коридорах суда, в семейном кругу. Предстоит выдвинуть сотни гипотез, перемыть косточки стольким персонажам: женам, мужьям, родственникам по линии жены; объективно, профессионально — как в случае со своей семьей, и со злорадством, всецело направленным на разжигание страстей — в случае с другими.
Прищурив глаза, он повернул свою голову в сторону светильника, как бы намереваясь его лучами освещать поиск, и принялся медленно перебирать в памяти различные варианты. «Кто бы это мог быть?» — тихонечко прошептал адвокат. — Интересно было бы узнать! «Кто же это?». Но адвокат, все же, смог удержать себя от соблазна углубиться в детальное разбирательство, кто эта незнакомка, испугавшись, что выявление личности синьоры, основываясь на данных ее письма, не составит ему особого труда.
Его решение не торопиться с выводами показалось ему настолько очаровательным, что он чуть было, не погрузился в прелестный сон; но тут же адвокат неожиданно вздрогнул, вспомнив, что еще не прочитал ответа самого святого отца, Луккезини.
Святой отец, очевидно, принялся писать ответ с глазами, налившимися кровью от гнева. Что это за такая странная «минутная слабость?». Минутная, если она длилась целых шесть месяцев? Как можно относиться столь снисходительно по отношению к себе, к своей вине, и считать минутной слабостью измену, длившуюся целых шесть месяцев, ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ; все это время, обманывая мужа, о котором вы сами говорите, что он такой добрый, честный, преданный и любящий? После чего, неожиданно перейдя на «но», в проповеди священника появились нотки милосердия и сострадания к ближнему: «Но, если раскаяние ваше искренне, и угрызения совести мучают вас постоянно, и, если впредь вы будете решительно избегать подобного грехопадения…» В общем: «Вы уже получили за содеянное все сполна и продолжаете платить за свою вину тем, что вас мучают угрызения совести; но вы не смеете и не должны признаваться в измене человеку столь доброму и ничего не ведающему, каковым является ваш муж, человеку, верящему в вас той верой, которая является залогом настоящей любви, это бы причинило ему такую боль, которую затем вряд ли бы удалось залечить. Сам порыв признаться в измене человеку, оказавшемуся жертвой, в принципе, похвален; и, если этот человек не ведает о случившемся, и признание не принесет ему ничего иного, кроме боли и беспокойства, молчание — оправдано. Молчание и страдание. И, конечно же, правильно поступили те священники, которые посоветовали вам не раскрывать тайны грехопадения своему мужу. Что же касается того священника, который посоветовал вам поступить иначе, я считаю, что его необдуманный, неосторожный совет объясняется, скорее всего, недостаточным знанием человеческих сердец, и вовсе не вытекает из того факта, как вы это замечаете, что он прибыл к вам с континента. В любом случае, молитесь и молитесь: и пусть молчание явится для вас большим испытанием, чем явилась бы исповедь человеку, которому вы изменили».
«Хорошенький ответ, — подумал адвокат, — хорошенький, ничего не скажешь. Возмущение, милосердие, здравый смысл; имеется всего понемножку. Сразу видно, что за гусь, этот Отец Луккезини».
Как следует, зевнув, и, закурив сигарету, он ввел себя мысленно в нечто, похожее на гарем, наводненный молоденькими и соблазнительными девушками из Мадды, робкими по натуре, и, ожидавшими, как некто, вне сомнения мужчина таких же твердых убеждений и отточенного ума, как и он, сможет угадать среди них виновницу, свершившую прелюбодейство.
После восьмичасового сна, подкрепившись большой чашкой кофе, адвокат Вакканьино почувствовал себя совершенно бодрым, и, одеваясь, неожиданно вспомнил о письме синьоры из Мадды. Его он вырезал из журнала и положил в бумажник; это он проделал вне зависимости от того факта, что его жена подписывалась на еженедельник «Вы», и, что в самом городе ходило, по крайней мере, пятьдесят экземпляров того же номера. Отправной точкой для поиска могло послужить следующее начинание: что, если попытаться составить список тех женщин города, которые подписывались на еженедельник, или же обычно покупали его в газетном киоске. Операция не представила бы большого труда; продавец газет часто пользовался его услугами; а чиновник почты, будучи посвященным в суть дела, помчался бы на почту даже среди ночи, лишь бы заглянуть поскорее в мешки с почтой. Пока же некоторую пищу для размышлений могла ему дать и жена. И он позвал ее.
— Ты читаешь те журналы, что покупаешь? — поинтересовался адвокат.
— Какие журналы?
— Те, что с модой.
— Я подписываюсь только на еженедельник «Вы».
— А другие — ты покупаешь в киоске.
— Неправда, мне их одалживают подруги, — синьора подумала, что разговор с мужем входит в обычное русло, с вечными жалобами на ее чрезмерные расходы, расточительность, на удивительную способность сорить деньгами, что, как ни раз на это указывал муж, рано или поздно должно было дать о себе знать.
Но у адвоката на сей раз не было никакого желания распространяться насчет того как она тратила семейный бюджет; а еженедельник «Вы», этот еженедельник, ты его читаешь? — спросил он у жены.
— Конечно, читаю.
— И рубрику Отца Луккезини?
— Иногда.
— А ту, что напечатана в последнем номере, ты ее читала?
— Нет, не читала. А, что?
— Ты прочти ее.
— Но зачем?
— Ты прочти ее, я тебе советую; сама увидишь…
Синьору тут же начали одолевать противоречивые желания; то ей хотелось узнать все сразу прямо на месте. То, в знак протеста против заносчивого поведения мужа, ей хотелось уйти к себе и назло мужу даже не притронуться к журналу. И, наконец, сгорая от любопытства, ей так и хотелось броситься к себе и тут же прочитать эту рубрику. Разумеется, что любопытство, в конце концов, взяло верх, тем не менее, она отказалась доставить удовольствие мужу и выразить свое удивление и интерес по поводу заметки. В результате, адвокат, страстно желавший увидеть реакцию жены насчет заметки, и, желавший выудить у нее кое-какие сведения и подозрения, прождав бесполезно четверть часа, снова позвал жену.
Из туалетной комнаты донесся раздраженный голос синьоры:
— Что тебе?
Адвокат подошел к закрытой двери и тихонько поинтересовался: — Ты ее прочла?
— Нет, — сухо ответила синьора.
— Да ты самая настоящая кретинка! — взорвался адвокат, совершенно уверенный в том, что она уже прочитала рубрику, и, что только ради своего каприза, одного из тех, что нарушали счастливое течение их супружеской жизни, она не пожелала доставить ему удовольствие и обсудить с ним письмо, опубликованное в журнале.
Но зато ему определенно повезло в коридорах суда; а затем прямо-таки феноменальный успех выпал на его долю в городском обществе. В суде поступок адвоката Ланцаротты, моложавого мужчины пятидесяти лет, женатого на женщине двадцати пяти лет, который снял тогу через десять минут после прочтения письма и попросил председателя суда, под предлогом внезапного недомогания, отложить рассмотрение дела, находившегося в повестке дня, был интерпретирован всеми присутствующими соответствующим образом. Аналогичным образом было оценено особое состояние охватившее судью Риверу во время чтения письма: судья без единого звука вернул письмо и словно сомнамбула направился в свой кабинет.
Реакция адвоката Ланцаротты и судьи Риверы тут же была доведена до сведения городского общества; все сходились на том, что у этих двоих были весьма веские причины для опасений, и выражали при этом ехидное сострадание. Но дон Луиджи Амару, неисправимый холостяк, неожиданно спутал все карты, объявив, что в условиях Ланцаротты и Риверы, только в кругу его друзей и знакомых можно было насчитать, по крайней мере, двадцать человек.
— Каких это еще условий? — разом спросило несколько голосов.
Дон Луиджи перечислил их: возраст женщины колеблется где-то между двадцатью и тридцатью пятью годами; она недурна собой; образована, что видно из письма; у нее имеется родственник где-то под сорок лет, приятной наружности, не лишенный обаяния, посещающий или посещавший ее дом; муж — настоящий добряк, ни в чем не перечивший жене, и, не отличающийся большим умом. Единодушное одобрение развернутой схемы тут же сопровождалось сильным замешательством; если не брать в расчет ум, ибо вряд ли кто мог засомневаться в собственном уме, в этих условиях среди присутствовавших оказалось девять человек (кто — то это быстро подсчитал).
Среди тех, кто первым осознал это, был геометр Фавара.
— Позвольте-ка мне перечитать письмо, — попросил он, приблизившись к адвокату Вакканьино с мрачным и угрожающим видом.
Адвокат тут же дал ему письмо; и Фавара, опустившись в кресло, погрузился в чтение, с той сосредоточенностью, с которой он обычно отдавался отгадыванию ребусов, криптограмм и кроссвордов; он совершенно не замечал, что вокруг него воцарилась тишина, и, что он стал предметом забавного и беспокойного внимания. Забавного — поскольку холостяков, вдовцов, стариканов и тех счастливчиков, чьи жены были круглыми сиротами, происходящее забавляло. И беспокойного — поскольку глубокая тревога закралась в глаза тех, кто находился в условиях, сформулированных доном Луиджи. Как, если бы в поведении Фавары было что-то от жертвы, которая, будучи однажды принесенной, смогла ба вернуть им ту уверенность в себе, которую они так неожиданно утратили.
И, в самом деле, Фавара, оторвав беспомощно глаза от клочка бумаги, прореагировал именно так, как этого больше всего хотелось его друзьям по несчастью и даже тем, кто просто развлекался. — Что вы вылупили глаза? Ясное дело, что это выдуманные вещи. Притом, глупейшие… Я этим письмам, публикуемым в газетах, никогда не верил; их придумывают сами журналисты.
Большинство тут же согласилось. — Что верно, то верно, вы — правы. — Но сказано было это не без ехидства.
Доктор Милителло, человек весьма набожный и к тому же вдовец с тридцатилетним стажем, наоборот, резко возразил.
— Э, нет, дорогой друг; я допускаю, что газеты придумывают письма, в том числе и провокационные; но в данном случае мы имеем дело с рубрикой, которую ведет священник. И подозрение на то, что священник мог придумать что-то, да еще когда так серьезно задета чья-то честь, я решительно отвергаю, как оскорбительное и не имеющее под собой почвы.
— Так вы его отвергаете? — иронически спросил Фавара, едва сдерживая ярость, кипевшую в груди. — Но кто вы такой есть?
— Как кто такой я есть? — воскликнул доктор, размахивая в воздухе руками в поисках такого довода, который бы позволил ему отвести от себя подозрения Фавары. Вы спрашиваете меня, кто такой я есть?….Действительно, кто же я есть? — Милителло вытаращил глаза по сторонам, словно ожидая ответа от других.
Маэстро Никазио, председатель ассоциации преподавателей-католиков, поспешил прийти на помощь доктору. — Он — католик, и, как таковой, имеет право…
— Лицемеры! — воскликнул Фавара, вскакивая из кресла; и прежде чем обиженные смогли прореагировать, смял вырезку из газеты в комок и швырнул её что есть сил со злостью в фортепьяно, стоящее в зале. Как если бы он бил по бегущей цели одним из тех пушечных ядер, которые можно видеть во дворце Кастель Сант’ Анджело в Неаполе; и тут же стремительно вышел.
Наступила мертвая тишина; но воздушная, наполненная шутливым настроением. Ее нарушил доктор Милителло. — Я не знал, что у жены Фавары есть родственники, — заметил он, возобновляя, таким образом, столь приятную беседу, которой, однако, не суждено было получить дальнейшего развития, поскольку появился официант, весьма почтительно напомнивший о времени: было два часа пополудни.
Адвокат Вакканьино обнаружил дома спагетти уже остывшими, а жену в дурном расположении духа. И ел он безропотно, так как вина была, безусловно, его, пробуя то и дело развеселить жену пересказом, должным образом прикрашенным, тех сценок, в которых главными героями были Ланцаротта, Ривера и Фавара.
Но синьора явно не собиралась оценить по достоинству этот увлекательный пересказ. — Хороша же у вас добропорядочность! А что, если из всего этого случится какая-нибудь трагедия? — заметила она.
Какая еще трагедия! — воскликнул адвокат. Если и случиться какая-либо трагедия, то я за свою добропорядочность могу быть совершенно спокоен. Во-первых, хотя бы потому, что речь идет о письме, опубликованном в журнале, который читают, разве что, всякие псы и свиньи…
— Но ведь и ты тоже прочитал его, — констатировала синьора.
— Чисто случайно, — уточнил муж.
Не хочешь ли ты сказать, что и я, постоянно читающая этот журнал, принадлежу к названной тобою категории псов и свиней! Неизвестно почему, но синьоре так и хотелось затеять ссору с мужем.
И поскольку, наоборот, адвокат не испытывал такого желания, то он тут же попросил прощения у жены, и, после чего продолжил: Во-вторых, хотя бы только потому, что никто, повторяю никто из присутствующих, не сделал даже минимального намека на кого-нибудь из этой тройки. Ибо: а) Я что-то не припомню, чтобы за женами Ланцаротты, Риверы и Фавары водились какие-либо грешки; б) если бы даже это имело место, то все мы — джентльмены; обо мне вообще не может быть и речи; в) если кто-то захотел бы объявить себя рогоносцем, он вправе сделать это, точно также как я свободен позабавиться над этим случаем…
— Это именно то — заметила синьора, — над чем ты, как раз, и собираешься позабавиться.
Взбешенный тем, что жена его прервала как раз в тот момент, когда он находился в пылу детального перечисления обстоятельств, в чем он был самым настоящим маэстро, адвокат повысил голос: — Да, именно над этим я и хочу позабавиться…
Если же у тебя есть на этот счет какие-то соображения, по причине которых я не имею права позволить себе такого удовольствия, назови мне их! Весь его вид говорил, что он не на шутку рассвирепел.
— Негодяй! — негодующе воскликнула синьора; после чего она бросилась к себе в спальню и заперлась там на ключ.
Адвокат тут же пожалел о происшедшей стычке с женой и не столько из-за того, что обидел жену, а сколько из-за того, что нарушил свое собственное спокойствие; ибо сейчас, после этой стычки, вспомнилась ему одна старая история, при одном только воспоминании о которой, душа его переполнилась беспокойством, сомнениями и страхом. История эта касалась короля норманнов, Вильгельма, предписывавшего всем рогоносцам королевства носить капюшоны, для того, чтобы отличаться от тех, кто не был ими; нарушившим указ, грозил штраф в сто унций; один муж, ревностно соблюдавший все законы, попросил жену честно признаться должен ли он носить этот остроконечный капюшон или же нет, чем вызвал со стороны жены самые решительные протесты и уверения в том, что на свете не было ни одной женщины, оберегавшей более честь своего мужа, чем она. Но, когда достопочтенный муж, ободренный ответом жены, уже было собирался выйти с непокрытой головой, та задержала его и посоветовала ему, если он в ней сомневается, то может на всякий случай не упустить случая и примерить тут же на себе капюшон, дабы получить ответ на поставленный вопрос.
«В конце концов, что может знать муж?», — подумал адвокат и при одном только воспоминании обо всей этой литературе полной женского коварства, измен и дьявольских ухищрений, ему сразу же стало жалко себя; возникшему чувству он отдался с отчаяньем слепца, (такое сравнение молнией сверкнуло в его мозгу), сетующего на свою нелегкую долю. На самом деле, у него было такое ощущение, как если бы он очутился в условиях физической слепоты, тягостной вдвойне из-за того, что для него было покрыто мраком абсолютно все — годы, прожитые его женой, до знакомства с ним, время, когда он оставлял ее одну, свобода, которой она пользовалась, чувства, которые она реально испытывала, тот мир, в котором она жила. «Без философии тут не обойтись», — подумал он про себя; и тут же ее нашел в облике Марка Аврелия, благородном и непреклонном перед незнающей границ, вызываю-щей наготой Мессалины; так как, по причине известной разве что господу-богу, он вдруг решил, что Мессалина была женой Марка Аврелия, и, что тот стал философом лишь только затем, чтобы научиться владеть собой во время различного рода супружеских неурядиц.
Философия витала в городском обществе весь вечер. Там же находились судья Ривера и адвокат Ланцаротта, плохо разыгрывавшие, что было заметно по окраске их лиц и беспокойно мечущимся глазам, этакое безразличие; да, что там и говорить, желающих скрыть свою озабоченность, опасения и страх было хоть отбавляй. К ним можно было отнести и адвоката Вакканьино, при все том, что он выгодно отличался от других тем, что среди родственников его жены мог назвать только кузена, жившего в Детройте, и ни разу не показавшегося у них в городке, и тетку, монашку-затворницу.
Строительный инженер Фавара, сделал все возможное, чтобы рассеять тревогу своих горожан. Едва оставив городское общество, он тут же бросился со всех ног домой, чтобы учинить жене подробнейший допрос, и, если потребуется, то не остановиться даже перед рукоприкладством. Но так как его жена отрицала, и отрицала отчаянно, свою вину и причастность к этому письму, Фавара решил, что у него нет иного выхода, как отправиться немедленно в Милан, отыскать святого отца Луккезини, и вынудить его показать ему это злополучное письмо.
На тот случай, если святой отец Луккезини не захочет вдруг договориться по — хорошему, он прихватил с собой в кармане пистолет. Обеспокоенная этим, жена сразу же после отъезда мужа позвонила инженеру Базико, чтобы тот спас своего друга и компаньона от ужаснейшей беды. И инженер, будучи настоящим другом, помчался в аэропорт Катании, быстро прикинув в уме, что Фавара, выехавший поездом, (в этом его заверил начальник станции), сможет добраться до Милана только на следующий день. Также из дружеских побуждений, прежде чем уехать, он проинформировал доктора Милителло, а через того и завсегдатаев городского общества о своем решении совершить столь деликатную и секретную миссию.
Вот почему теперь каждый пытался увязать свои философские рассуждения непосредственно с поступком Фавары, называя подозрения, так бурно нахлынувшие на Фавару, как необоснованные, но в тайне желая, чтобы они подтвердились. Дошли даже до того, что хором объявили, что письмо было послано каким-то чокнутым из Мадды, решившим таким образом заварить кашу в городе; и что было просто немыслимо, чтобы подобный легкомысленный поступок могла совершить синьора.
— Если только я найду, кто это сделал, — заявил профессор Коццо, — я намылю ему шею; бог тому свидетель!
И так как Коццо был холостяком, все удивились его словам.
— А тебе-то, какое дело до всего этого?
— Позвольте уж это мне знать одному, — ответил Коццо, ударив нервно кулаком правой руки по ладони левой. А волноваться ему было от чего: он назначил свидание, первое в своей жизни, синьоре Никазио, в одной из гостиниц областного центра; но синьора неожиданно отказалась от встречи. Сославшись на то, что никак не могла сказать мужу, что едет одна в город, сделать обычные покупки, поскольку тот за столом был на редкость неуступчив, в дурном расположении духа и крайне подозрителен.
Поведение Коццо вызвало новую волну всевозможных догадок и предположений, по-прежнему сдержанных и затаенных. Что же касается маэстро Никазио, который присутствовал при этом, то у него в памяти сразу же всплыло то памятное карнавальное торжество, на котором его жена почти весь вечер танцевала с Коццо, (и то, что они с женой дома затем сильно поссорились).
Одним словом, тот вечер кое-кому показался слишком длинным, а некоторым — слишком коротким.
Как обычно, вечером, адвокат Дзербо лег в постель раньше жены. С этим письмом день у него выдался особенно тяжелым: повсюду, в суде, в городском обществе, и прежде всего в своей собственной душе, ему приходилось бороться с противоречивыми чувствами — негодованием и жалостью, любовью и обидой. В отличие от других, он знал всё, и знал всё уже давным-давно.
Он взял книгу и открыл ее на закладке. Прочитал несколько страниц; между тем, что он читал, и его мыслями, зияла огромная пропасть; мысли его были в полнейшем беспорядке.
Когда он оторвал свой взгляд от книги, он чуть было не испугался, увидев пред собой нагую жену, которая, подняв руки к верху, натягивала на себя ночную сорочку, полностью застилавшую ей лицо. Момент показался ему вполне подходящим для того, чтобы спросить безразличным, спокойным голосом — Ты зачем написала письмо святому отцу Луккезини?
Казалось, глаза ее выскочат из орбит, столь сильным были ее смятение и страх. Она чуть ли не прокричала — Кто тебе это сказал?
— Никто; я понял сразу, что это письмо было твое.
— Но почему? Каким образом?
— Потому что я все знал.
Она упала на колени и уткнулась в край постели, стараясь заглушить вырвавшийся из души вопль — Итак, ты знал! Знал! — и в этом положении она и замерла, то и дело беззвучно вздрагивая все своим телом.
Тогда он принялся говорить ей о своей любви к ней и тех мучениях, которые ему пришлось перенести. Взгляд его был полон этакого нежного презрения и сострадания, вобравшего в себя и желания, и стыд. Когда его речь перешла в плач, и у него на глазах навернулись слезы, он приблизился к жене, чтобы поднять ее и привлечь её к себе.
Но едва он притронулся к ней, как она резко вскочила на ноги. Она помирала со смеху; смех её был коварным, расчетливым и беззвучным. Неожиданно она выбросила вперед руку, сжатую в кулак, и выставила указательный палец и мизинец, как если бы ими собиралась выцарапать мужу глаза; и тут же из ее уст раздалось истеричное и душераздирающее блеяние, каким блеют старые козлы: Беееее!.. Беееее!..
Критика