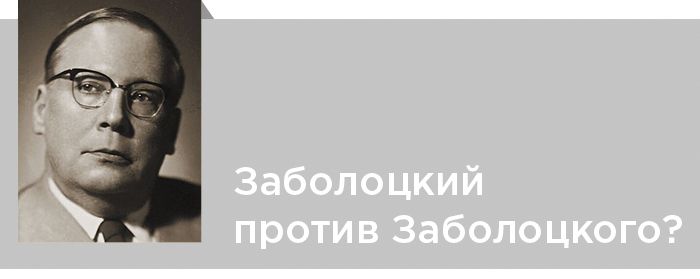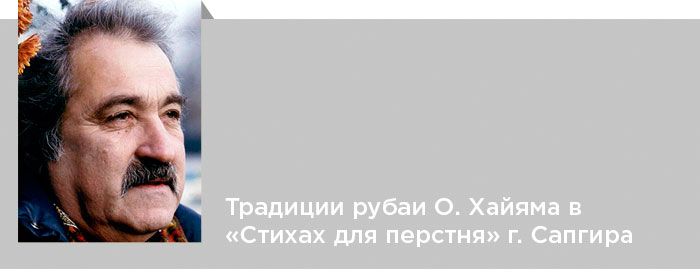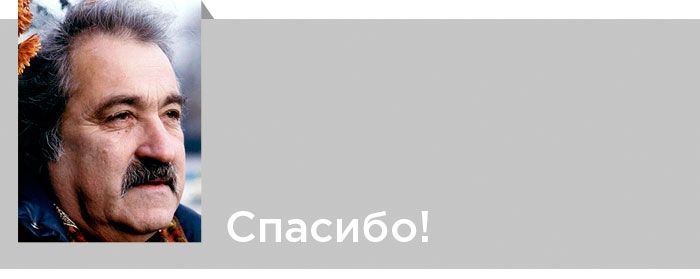«Свое» и «чужое» в цикле Г. Сапгира «Этюды в манере Огарева и Полонского» : к проблеме «романизации» лирического высказывания
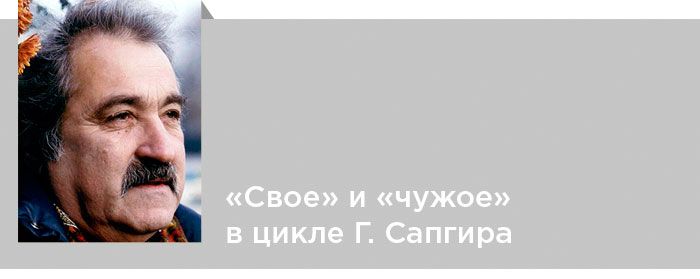
С.Л. Константинова[1]
Явление взаимодействия "своего" и "чужого" актуализировано уже в самом названии цикла - "Этюды в манере Огарева и Полонского". С одной стороны, это достаточно традиционная для Сапгира оппозиция - обыгрывание взаимодействия (или противостояния) "своего" и "чужого"[2] как проявление своеобразного "диалога с традицией"; с другой - конструктивный принцип, выполняющий прежде всего провокативную функцию: по замечанию О. Филатовой, в "Этюдах в манере Огарева и Полонского" авторское лирическое высказывание "… прячется в скорлупу чужой интонации…" [9, с. 174], провоцирует читателя "заглянуть за картонку трафарета", заставляет идти дальше, к подлинному художественному смыслу.
Чужая "манера", действительно, позволяет "… быть романтичным и возвышенным, не впадая в банальность и не опасаясь упреков в допотопности. Ссылка на чужую "манеру" своего рода кавычки, без которых авторскому голосу как бы неловко звучать "так искренно, так нежно". При обращении к социальной тематике здесь даже возникает эффект своего рода "сплошности" времени: "Обыск был у Турсиных - все ли цело? / Все сидят наперечет люди дела"; "Прочли письмо узнали росчерк / Вот кто иуда, кто доносчик!". Чье это время? Полонского? Огарева? Сапгира?" [10].
И вместе с тем, по-прежнему остается неразрешенным вопрос: почему именно Огарев и Полонский? Думается, что именно имена и, в результате, отсылка именно к их манере, а не просто к "чьей-либо", являются здесь своеобразной авторской подсказкой и ключом к прочтению цикла. Но для того чтобы стать "ключом", имя должно быть достаточно "говорящим" вполне широкому кругу читателей, как, например, в сапгировских же "Черновиках Пушкина".
О чем же "говорят" имена Огарева и Полонского? Прежде всего, о том, что это поэты XIX века, причем поэты "второго ряда", так называемые "второстепенные". Примечательна в этом смысле подмена имен в названии цикла, произошедшая в воспоминаниях Давида Шраера-Петрова, размещенных на одном из интернет-сайтов (в книге Максима Д. Шраера и Давида ШраераПетрова "Генрих Сапгир - классик авангарда" [11] этой подмены имен уже нет): "Зимой 1987 г. Генрих уезжал под Ленинград в Дом Творчества писателей в Комарово[3]. <…> Он вернулся какимто притихшим, торжественным, несколько старомодным, что ли. И прочитал нам (обеим Милам, дочке Лене, Грише Остёру с подругой Майей, Максиму Шраеру и мне) новые стихи. Получилась целая книга, которую Сапгир озаглавил: "Этюды в манере Огарёва и Случевского" [курсив мой С.К.]" (12). Думается, что в данном случае замена имен - "Полонский" на "Случевский" (а это имена одного литературного ряда) - как раз и может служить своеобразным показателем той необязательности, второстепенности, которая, возможно, спровоцирована самой литературной ситуацией и, скорее всего, входила в сапгировский замысел. И в этом смысле отсылка к романтической традиции подобного рода (вторичной, по сути), действительно, может выполнять функцию некоей "защиты" лирического слова, собственного лирического высказывания.
Вместе с тем, следует отметить, что в предложенном автором ряде имен - Огарев и Полонский - особая нагрузка явно ложится на имя Николая Огарева. Во-первых, в одном из текстов цикла, напечатанном под номером "10", присутствует открытая, маркированная кавычками, почти дословная цитата из стихотворения Огарева: "Она его не любила // а он ее втайне любил" (ср. у Огарева: "Она никогда его не любила // А он ее втайне любил…"), обрамляющая собственно сапгировское слово и служащая своеобразным посылом (ключом), связующим век двадцатый и век девятнадцатый.
| Генрих Сапгир: "Она его не любила Мы пугалом сделали атом И все же затянем уныло | Николай Огарев: Она никогда его не любила И в церкви с другим она Она умерла. И днем он и ночью |
Заметим при этом, что, используя огаревскую цитату, Сапгир не только уходит от разрабатываемого Огревым мелодраматического сюжета о неразделенной, тайной любви, но как бы отстраняется, отдаляется от него, трансформируя при этом отдельные образы стихотворения Огарева в соответствии со своим "словом" и замыслом. Так, образ могилы возлюбленной превращается в образ могилы целого поколения, откуда с характерной для сапгировского текста самоиронией ("И все же затянем уныло // мы внукам своим из могил…") звучат слова:
"Она его (жизнь) не любила
а он ее втайне любил" [8, с. 297]
А сама возлюбленная - "она" - приобретает обобщенные черты жизни вообще - образ двоящийся, неопределенный, но прочитываемый именно таким образом благодаря предшествующему тексту, имеющему подзаголовок "из Уланда":
Иди ко мне - ты - жизнь моя живая
Уйди - ты - смерть моя - сомлело сердце
Я все что горькой жизнью называю
а все что сладко называю смертью [8, с. 296]
При этом следует обратить особое внимание на то, что данный текст представляет собой не столько перевод стихотворения немецкого романтика, сколько "перевод" опять-таки огаревского "Слова старца (Из Уланда)":
Ко мне, мое дитя, ты жизнь моя…
Нет, нет! ко мне, дитя, моя ты смерть.
Ведь все, что горько, жизнию зову я,
И все, что сладко, называю смертью. [5, с. 176]
Сохраняя, в целом, структуру претекста, Сапгир изменяет расставленные в нем смысловые акценты: мотив призыва, усиленный в переводе Огарева двойным повтором ("Ко мне, мое дитя, ты жизнь моя… // Нет, нет! ко мне, дитя, моя ты смерть"), сменяется во второй строке сапгировского перевода мотивом отторжения, отталкивания ("Уйди - ты - смерть моя - сомлело сердце"), усиливающим и особо подчеркивающем трагический разлад в душе лирического героя. По замечанию Д. Шраера-Петрова, "Этюды…" возникают именно из этого, "… попавшегося под руку Сапгиру русского перевода второй строфы из "Greisenworte" Людвига Уланда" [11, с. 100].
Во-вторых, сюжетная линия цикла (тексты "2", "3", "4") содержит явные аллюзии на достаточно широко известную огаревскую "ситуацию", связанную с его арестом по доносу. В сапгировском цикле эта "ситуация", развивающаяся в разных вариациях и в разных временных пластах, становится одной из сквозных и выполняет функцию своеобразной отправной точки в развитии авантюрного, романного сюжета. Ключевой эпизод истории ареста Огарева - изменяется лишь место действия - не Москва, а Петербург - сохраняется в цикле Сапгира со всеми присущими ему мотивными и образными составляющими: тайное общество - "люди дела", донос, мотив отмщения - "люди чести" и т.п.
В-третьих, некоторые мотивы сапгировского цикла имеют скрытую, имплицитную перекличку с некоторыми эпизодами не только общественной, но и личной биографии Огарева. В частности, одно из женских имен цикла Сапгира - Маша ("Маша теплится свечой - чистым счастьем // и на сердце горячо что причастен…") - повторяет имена двух возлюбленных Огарева: его первой влюбленности, воспитанницы Смольного института Машеньки Наумовой, а также Марии Львовны Рославлевой, первой жены поэта. Вторая жена Огарева - Наталья Алексеевна Тучкова, вскоре ушедшая к овдовевшему к этому времени Герцену, была младше своего мужа на 16 лет - еще один мотив, развивающийся в сапгировских "Этюдах…".
Своеобразной аллюзией на "огаревский текст" (как биографический, так и поэтический) является и сам лирический сюжет цикла, центром которого становится любовная история, точнее, ее этюды, наброски, обрамленные элементами авантюрно-политической интриги. Он "вислоусый дед", "гимназистом" едущий "на полозьях", "ты" (одновременно "он и не "он" взгляд со стороны, из другого времени) и она - "гимназистка под шотландским пледом", расталкивающая "… коленями тяжелый шелк платья", - постоянные герои романтического, в том числе "огаревского", текста.
Кроме того, следует отметить появление ключевой характеристики образа лирического героя-деда ("старика") как в стихотворении Н. Огарева "Старик", датированном первой половиной 1850-х годов, так и в одноименном стихотворении Я. Полонского (май 1884 года), практически полностью повторяющем структуру огаревского текста и явно ориентированном на него. Ср.:
| Н. Огарев "Старик" Еще я бодр! Еще, тоскуя, Но девы от моих нападок Подчас ищу попасться в сети И, опустив безмолвно руки, "Постой, красавица! увянешь | Я. Полонский "Старик" Старик, он шел кряхтя, с трудом одолевая |
И тот и другой тексты, строящиеся на основе сюжета о случайной встрече лирического героя-старика с юной девушкой (красавицей), заканчиваются своеобразным наставлением, напоминанием ей ("Постой, красавица!..") о быстротечности жизни и неизбежности надвигающейся старости.
Этот, характерный для лирики как Огарева, так и Полонского мотив неразделенной, трагической в своей основе, влюбленности старика в молодую девушку становится центральным и в сапгировском цикле, обыгрывающем его в различных, просвечивающих один сквозь другой временных пластах:
Свесил усы и глядит дед
видно что свитер мешком прямо на тело надет
джинсы на бедрах не просто в обтяжку - в облип
взглядом по швам по медяшкам - сразу погиб
тут и причины не надо - молодость - вот и предлог
абрис грудей показать - крепость и грацию ног
Смотрит Обломов и Штольц - и Короленко дед
это парнишка из Штатов - пастух... двоеполое! бред!
[8, с. 294]
Лирический герой сапгировского цикла существует как бы в двух измерениях: в "своем" времени и пространстве (человека XX века) и во времени и пространстве прошлого по отношению к герою века - девятнадцатого. Отсюда и мотив своеобразного двойничества и, то ли виртуального, то ли реального, присутствия "там", в огаревском мире, в огаревском ("девятнадцативечном") пространстве и "тексте":
<…>
и представив себе ее слезы (будешь! будешь!)
допускаю ты застрелился
ведь когда я встал со скамейки
ты остался на ней полулежа
куколкой - раскрытой оболочкой
[8, с, 293]
Не случайно мотивы "отсветов", "чужих отголосков", времени, "пронизывающего время", удвоений, снов, декораций так или иначе присутствует практически в каждом стихотворении. Одно из них открыто демонстрирует прием сдвига, как на уровне пространственно-временных смещений и совмещений, так и стилистических трансформаций:
Опять на финских саночках тебя качу качу
и волосы кудрявые щекою щекочу
ты в муфте прячешь кроликов - я там и сам живу
полозья наши скрипнули со снега на траву
цветы такие нежные что кисея - внизу
давно по лесу летнему я саночки везу
твои глаза смеются: нет! - и губы как оса
а брови твои ласточкой ширяют в небеса
Ныряй сквозь солнце ласточка!
взгляни раскоса как
нас под медвежьей полостью
уносит прочь рысак
(платок из муфты вынутый нетерпеливо мнут)
мы до моста Елагина доскачем в пять минут
Зажглись электролампочки у Зимнего в саду
тебя из века вашего как прапор я краду
[8, с. 294]
Зима и лето, век "наш" и век "ваш" (девятнадцатый) наслаиваются друг на друга, подобно наложенным один на другой кинокадрам, - один из характернейших для Сапгира приемов, особенно в его прозе. Своеобразная кинематографичность "Этюдов…", "кадровое построение текста и эффект "глаза-кинокамеры"" отмечены и в работе Максима Д. Шраера и Давида Шраера-Петрова [11, с. 45].
О подобного рода черте поэтики Сапгира говорилось уже не раз: "готовность смешивать миры", страсть к "ментальным путешествиям", "ныряние из жизни в жизнь". Данный цикл - еще одна попытка сместить пространство и время, уловить его "слоистость" и своеобразную повторяемость, "просвечиваемость": "Всё" просвечивает сквозь "Всё"[4]. Не случайно цикл завершается стихотворением, ключевым мотивом которого становится мотив кольца, вечно движущейся кинопленки:
То достаю из прошлого то в настоящем прячу
то вырву кусок кинопленки из времени наудачу
а лучше всего твои лица склеить в виде кольца
и запустить на монтажном столе - пусть светится
без конца
[8, с. 300]
Заметим также, что при обращении к сапгировскому циклу Максим Д. Шраер и Давид Шраер-Петров обнаруживают еще "… целый ряд реминисценций из стихов Н.П. Огарева и Я.П. Полонского и несколько прямых отсылок", называя при этом следующие тексты - Огарева: "Стучу - мне двери отпер ключник старый…", ч. VIII и X "Buch der liebe", "Стансы Пушкина. 1826", "У моря"; Полонского: "В гостиной", "На пути из гостей", "Утрата", "Ползет ночная тишина…", "Век", "И.С. Тургеневу" [11, с. 100]. Кроме того, "важную роль в генезисе цикла сыграли описания зимы и берега Финского залива в ряде произведений Полонского ("Полярные льды", "Финский берег", "Зимой, в карете")…" [11, с. 100].
Перечисленные исследователями тексты Огарева и Полонского, действительно, оказали явное воздействие на замысел "Этюдов…", но говорить о них как об источниках прямых отсылок, думается, все-таки не стоит. Исключением является лишь стихотворение Полонского "Зимой, в карете", одна из строф которого может быть рассмотрена как претекстовая по отношению к уже процитированному сапгировскому "Опять на финских саночках тебя качу качу…":
И снится мне - в холодном свете
Еще есть теплый уголок...
Я не один в моей карете...
Вот-вот сверкнул ее зрачок...
Я весь в пару ее дыханья
Как мне тепло назло зиме!
Как сладостно благоуханье
Весны в морозной полутьме!
[7, с. 250]
И все же принципиальным здесь кажется другое: поэтика рассматриваемого цикла явно повторяет характерную, как для Огарева, так и (даже в большей степени) для Полонского (особенно в уже названных выше текстах) попытку "прозаизации" стиха - термин, применяемый вслед за К.И. Чуковским и Ю.Н. Тыняновым, в первую очередь, к поэзии Некрасова, а здесь выявляющий прежде всего его онтологические видоизменения: тяготение к "романной" форме и "бытовой" (детальной) картинности. К примеру, в уже названном выше стихотворении Огарева "Она никогда его не любила…" (стихотворение состоит из 3-х четверостиший) заложен сюжет целого "романа" о неразделенной любви; Сапгир сжимает его до двух строк, достаточных для того, чтобы "роман" был восстановлен. Думается, что в этом и заключается своеобразие той самой "манеры" Огарева и Полонского, которую пытается уловить Сапгир.
При этом заметим, что "сжатие" романного сюжета происходит в цикле "Этюды в манере Огарева и Полонского" особым способом: с одной стороны, через характерную прежде всего для кинематографа кадровую отчетливость (см. особенно в текстах "2" ("Снежный ветер дует с белизны залива…"), "4" ("Еще пел соловей в бледных зарослях мая…"), "11" ("Будда - путник золотой стоял у храма…")), с другой - через кинематографическую же слоистость, своеобразные кадровые напластования. Неслучайным в этом смысле кажется и жанровое определение, данное циклу, - "Этюды…", акцентирующее отчетливо проявленную в кинематографе, как визуальном искусстве, живописную манеру - силуэт и линия, деталь говорят больше, чем подробное, развернутое описание.
Наглядным примером может служить стихотворение "Снежный ветер дует с белизны залива…", кинематографически сжатая романность которого выражена достаточно явно. Каждая строка стихотворения может быть представлена в виде отдельного кадра: от фотографической конкретности панорамы (в двух первых строках) к целому ряду крупных планов, стилистика которых, открыто выбиваясь из контекста собственно сапгировского слова, соотносима, прежде всего, со стилистикой романного слова XIX века:
Снежный ветер дует с белизны залива
рыбаки на льду чернеют сиротливо
Зябко - руки в рукава шинели прячу
и дышу в башлык - иду к нему на дачу
Долго буду там в углу снимать галоши
юной горничной шинель смущаясь брошу
К лампе - к людям - в разговор! "Хотите чаю?"
за чужой спиной себя на стуле замечаю
и рука с кольцом холеная хозяйки
чашку мне передает "Возьмите сайки"
Обыск был у Турсиных - все ли цело?
Все сидят наперечет люди дела
Маша теплится свечой - чистым счастьем
и на сердце горячо что причастен [8, с. 291]
Причем выстраиваемый поэтом "видеоряд" вполне может быть соотнесен с такими структурными элементами романа, как повествование, описание, диалог. Здесь же они приобретают характер образной схемы, наброска (этюда), отчетливо фиксирующего лишь ключевые детали, необходимые для реализации вполне законченного романного эпизода. Примечательна здесь и субъектно-объектная организация текста, лирический герой которого - субъект действия - оказывается в какой-то момент вынесенным за его рамки. Герой - и субъект, и объект наблюдения, со стороны, "за чужой спиной" замечающий "себя на стуле".
Нечто подобное можно обнаружить и в стихотворении Я. Полонского "На пути из гостей" (1856). Каждая строфа стихотворения, завершающаяся своеобразным рефреном - "Боже мой! Боже мой! / Поздно приду я домой!", разными способами фиксирует наблюдения, размышления, воспоминания возвращающегося из гостей лирического героя. Одним из таких способов является зарисовка-миниатюра, позволяющая зафиксировать отчетливый визуальный образ (то, что у Сапгира проявится в виде своеобразного эффекта "глаза-кинокамеры"), а в результате создать своеобразный "конспект" лирического романа:
<…>
Слышится города шорох ночной,
Снег подметённый скрипит под ногой…
Дальних огней вижу мутные звезды,
Да запертые подъезды…
<…>
Олимпиада простее сестры…
Впрочем - глаза с поволокой,
Листа играет; во время игры
Пальцы взлетают высоко,
Клавиши так и стучат и гремят…
Все, будто в страхе каком-то, молчат…
<…>
Вот, вижу, дворник сидит у ворот,
В шубе да в шапке лохматой:
Точно медведь; на усах его лёд,
Снег в бороде, в рукавице лопата…
<…>
[7, с. 115-117]
Достаточно отчетливо описанная выше "манера" проявлена и в одном из ранних стихотворений Полонского - "В гостиной" (1844), представляющем собой своеобразный фрагмент, эпизод, повествовательная структура которого не только напрямую коррелирует с повествовательной структурой романной модели, но и заключает в себе явно романную потенцию, а именно: лирический фрагмент может быть рассмотрен в качестве как завязки, так и развязки или кульминации некоего напряженного, прочитываемого имплицитно сюжета:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В гостиной сидел за раскрытым столом мой отец,
Нахмуривши брови, сурово хранил он молчанье;
Старуха, надев как-то набок нескладный чепец,
Гадала на картах; он слушал ее бормотанье.
Немного подальше, тайком говоря меж собой,
Две гордые тетки на пышном диване сидели,
Две гордые тетки глазами следили за мной
И, губы кусая, с насмешкой в лицо мне глядели.
А в темном углу, опустя голубые глаза,
Не смея поднять их, недвижно сидела блондинка.
На бледных ланитах ее трепетала слеза,
На жаркой груди высоко поднималась косынка.
Сапгировский цикл, намеренно обыгрывая эту особенность поэтики Огарева и Полонского, более того, открыто используя чужое слово, чужую языковую и образную систему, еще активнее усложняет заданную поэтами XIX века установку на "прозаизацию" и "романность" поэтического текста, в отдельных случаях полностью отказываясь от слогового метра, тонической урегулированности и рецидивов рифмы:
Еще пел соловей в бледных зарослях мая
комары уже открыли пляжный сезон
на заливе
Ты брился отдувая щеку в зеркало
подкручивая победные усики
ты душился пачулями
и был глубоко и серьезно несчастен
Она шла и шла по чуть заметной тропинке
расталкивая коленями тяжелый шелк платья
не хотела слушать никаких объяснений
и не успевая сам за собой
ты спешил впереди себя
за взволнованным демоном цвета морской
волны
даже схватил ее за руку
нетерпеливо отдернула
отмахнулась от комара
локоть заехал тебе в лицо
было неловко и больно
она сердилась
все было кончено
<…>
[8, с.292-293]
В статье О.В. Зырянова, посвященной лирической новелле XIX века, подобная жанровая структура охарактеризована, с одной стороны, как сознательно сориентированная "… на художественные достижения повествовательных жанров", с другой - как остающаяся "… все-таки лирикой по преимуществу" и подчиняющаяся "… оригинальным, определяемым сущностью лирического рода познавательным принципам" [2]. "Прозаизация в таком случае, - пишет О.В. Зырянов, - позволяет лишь выявить те направления жанровых поисков (в том числе и новеллистических), которые ведутся с учетом художественного опыта малых жанров прозы" [2]. Здесь же исследователь приводит в качестве примера стихотворение Полонского "Встреча" (1844), особо акцентируя как динамику внутреннего сюжета, так и вырисовывающиеся контуры целой любовной истории:
Вчера мы встретились, - она остановилась
Я также - мы в глаза друг другу посмотрели.
О боже, как она с тех пор переменилась;
В глазах потух огонь, и щеки побледнели.
И долго на нее глядел я молча строго -
Мне руку протянув, бедняжка улыбнулась;
Я говорить хотел - она же ради бога
Велела мне молчать, и тут же отвернулась.
И брови сдвинула, и выдернула руку,
И молвила: "Прощайте, до свиданья."
А я хотел сказать: "На вечную разлуку
Прощай, погибшее, но милое созданье"
[7, с. 37]
Рассматривая текст стихотворения, О.В. Зырянов приходит к выводу о том, что "подобное "единство события, сопряженное с тотальностью сюжета" (М. А. Петровский), когда частный случай призван раскрыть целостный смысл судьбы человека, бесспорно, свидетельствует в пользу новеллистической природы жанра. Именно в жанровом кругозоре новеллы выделенные компоненты сюжетно-композиционной структуры (драматические перипетии, поворотный пункт, прием пуантировки) получают системно-функциональное объяснение" [2]. Подобные тенденции выявлены исследователем и в поэзии Н. Огарева, в частности, в его стихотворении 1842 г. "Обыкновенная повесть".
Что касается используемой в данном случае терминологии - "новеллистичность" и "романность" лирики (лирического высказывания) - то мы, полностью признавая справедливость сделанных О.В. Зыряновым выводов, все же остановимся на более широком понятии. Так, "романности" как способу взаимодействия лирики с прозой посвящено одно из исследований Д.М. Магомедовой, сделавшей существенное замечание о необходимости "… разграничения понятия прозаизации поэтического стиля и прозаизации (т.е. романизации) стихотворных жанров": "В первом случае речь идет о проникновении в традиционную поэтическую фразеологию элементов разговорного языка (лексики, интонационных и синтаксических конструкций)". Во втором - "… о более радикальном преобразовании жанровой природы лирической поэзии. <…> Вместе с прозаизацией поэтического стиля происходит активное проникновение в поэзию не свойственных ей прежде прозаических жанров: появляются "рассказы в стихах", стихотворные фельетоны" [4]. Один из признаков рассматриваемого процесса заключается в "… преобразовании "прозаического" сюжета в лирический фрагмент" [4].
Кроме того, в нашем случае акцентирована не только сюжетная, внешняя организация текста, но и специфика самого слова - его "внутренняя диалогичность" (М.М. Бахтин), соотнесенность своего слова со словом чужим: "Слово как бы живет на границе своего и чужого контекста" [1, с. 97]. Заметим при этом, что введенное М.М. Бахтиным понятие "внутренней диалогичности" рассматривается ученым как качество, присущее, прежде всего, художественной прозе, в особенности роману: "она (диалогичность - С.К.) пронизывает изнутри самое концепирование словом своего предмета и его экспрессию, преобразуя семантику и синтаксическую структуру слова. Диалогическая взаимоориентация становится здесь как бы событием самого слова, изнутри оживляющим и драматизирующим слово во всех его моментах" [1, с. 97]. И далее: "Возможность такого диалога - одна из существеннейших привилегий романной прозы, недоступная ни драматическим, ни чисто поэтическим жанрам" [1, с. 134].
Поэтический цикл Г. Сапгира "Этюды в манере Огарева и Полонского" как раз и демонстрирует это новое свойство лирики, заключающееся не только в способности преобразования "прозаического", романного сюжета в лирический фрагмент, но и в возможности переноса своих интенций из одной языковой системы в другую, в возможности сказать свое на чужом языке и на своем чужое.
Литература
- Бахтин М.М. Слово в романе // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики: Исследованияразных лет. М., 1975.
- Зырянов О.В. Лирическая новелла как жанр русской "поэзии сердца" // Известия Уральскогогосударственного университета. 1997. № 07. С. 77- 90.
- Константинова С.Л. "Итальянский текст" русской литературы XIX-XX вв.: Монография. Псков,2005.
- Магомедова Д.М. Анненский и Ахматова (к проблеме "романизации" лирики) // "Царственноеслово". Ахматовские чтения. Выпуск 1. М., 1992. С. 135-140.
- Огарев Н. Избранные произведения: В 2 т. М., 1956. Т.1.
- Орлицкий Ю.Б. Введение в поэтику Сапгира: система противопоставлений и стратегия их преодоления // Великий Генрих. Сапгир и о Сапгире. М., 2003.
- Полонский Я.П. Сочинения: В 2 т. М., 1986. Т. 1.
- Сапгир Г. Складень. М., 2008.
- Филатова О. "Строфилус": лирический автопортрет Генриха Сапгира // Великий Генрих. Сапгир и оСапгире. М., 2003.
- Филатова О.Д. Г. Сапгир: "самокритика" текста // Вопросы онтологической поэтики. Потаенная литература. Ивановский госуниверситет, 1998
- Шраер Максим Д., Шраер-Петров Давид П. Генрих Сапгир - классик авангарда. СПб., 2004.
- Шраер-Петров Д. Возбуждение снов. Воспоминания о Генрихе Сапгире // Таллинн. 2001. N. 21-22. С. 3-36.
[1] Исследование осуществлено в рамках программы «Развитие научного потенциала высшей школы (20092010 гг.)». Мероприятие 2 «Проведение фундаментальных исследований в области естественных, технических и гуманитарных наук. Научно-методическое обеспечение развития инфраструктуры вузовской науки». Регистрационный номер 2.1.3/4109 «Проект «Забытое и второстепенное в жанре романа XVIII-XX вв.».
[2] Как отмечает Ю.Б. Орлицкий, ""Чужие голоса" зазвучали уже в первой книге, так и названной - "Голоса". Затем поэт нередко использовал традиционные речевые маски (наиболее явный случай - "Терцихи Генриха Буфарева") и мистификации, как в "Черновиках Пушкина", где дописывание стихов классика соседствует в одном тексте с прямым обращением к нему. Кроме того, многие тексты Сапгира, созданные в разные периоды, включают цитаты и аллюзии, а иногда и целиком построены на их "развертывании" (например, некоторые сонеты и особенно "трансформационные" стихи из книги "Развитие метода")" [6, с. 164].
[3] В книге М. Шраера и Д. Шраера-Петрова, помимо ошибки в названии цикла, исправлено и место его написания: "… Сапгир писал "Этюды…" под впечатлением зимнего отдыха в Репино (вместе с женой Людмилой и дочерью от первого брака Еленой)" [11, с. 100-101].
[4] О действии подобного рода приема в рассказах Г. Сапгира см.: Константинова С.Л. ""Слоистика" в "итальянских" текстах Г. Сапгира" [3, с. 149-156].