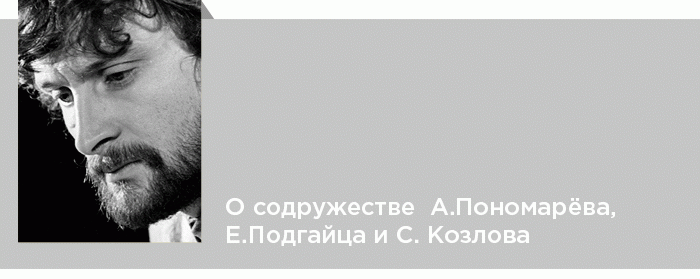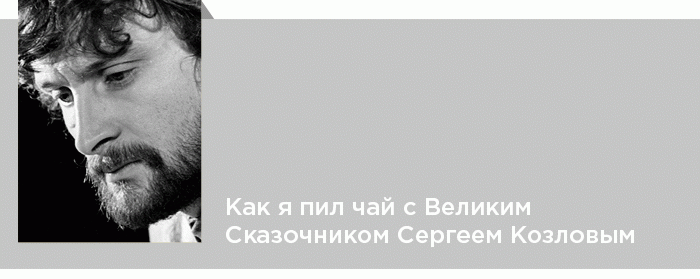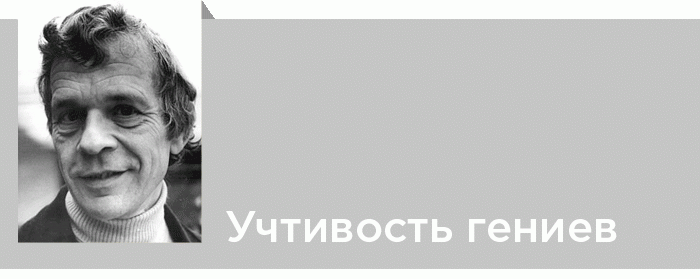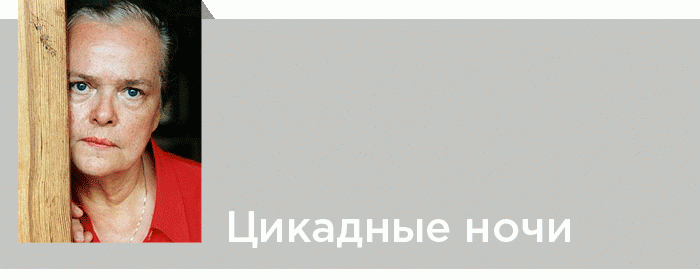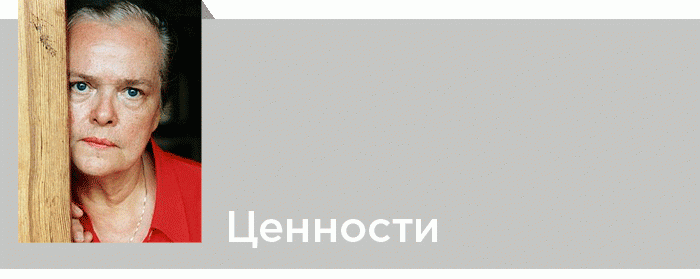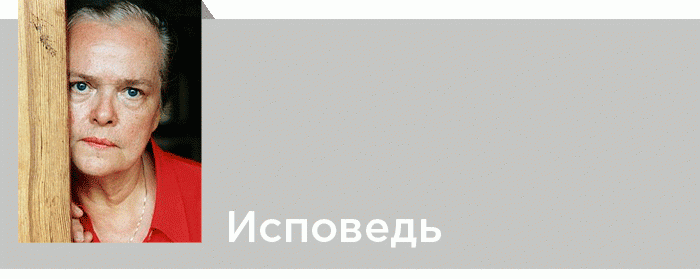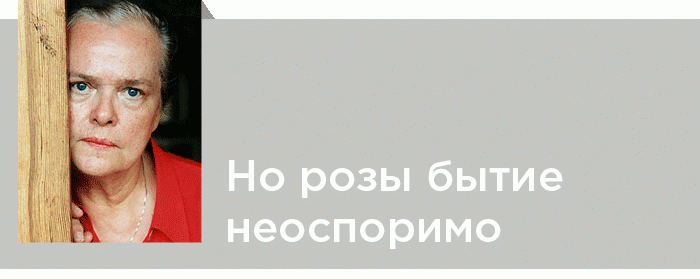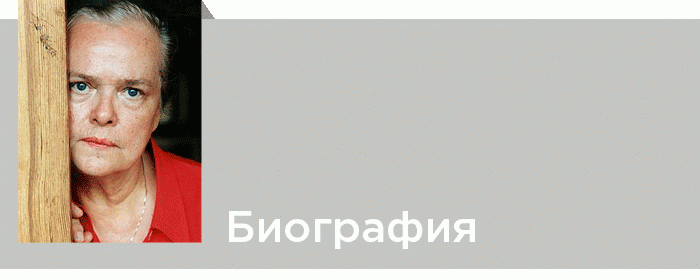Эва Штриттматтер. Май в Пьештянах
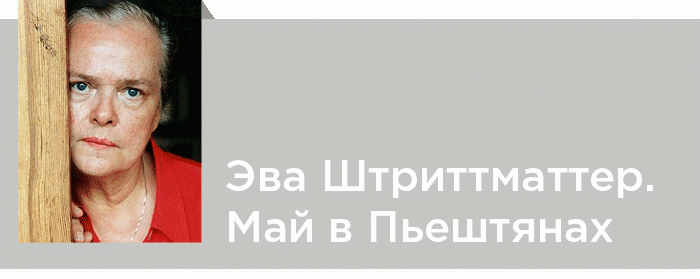
Н. Черемных
Предлагаемая немецкому читателю книга — вторая большая прозаическая работа поэтессы Эвы Штриттматтер (род. в 1930 году). Первой были «Письма из Шульценхофа» (1977) — собранные воедино ответы автора своим читателям за период с 1965 по 1975 годы (здесь стоит напомнить, что писательское семейство Штриттматтеров получает огромную почту, а Эва Штриттматтер относится к числу тех немногих литераторов, которые, не жалея собственного времени, обстоятельно отвечают — за малым исключением — каждому корреспонденту).
Тематически и хронологически «Май в Пьештянах» служит своеобразным продолжением «Писем из Шульценхофа», хотя и отличен от них по жанру.
Пьештянь — это маленький городок в Словакии, примерно в семидесяти километрах северо-восточнее Братиславы, знаменитый своим бальнеологическим центром («нигде на свете не сыскать другого такого места, где выходящая из земных недр сернистая вода была бы горячее здешней», — говорится в рекламном проспекте). Сюда-то каждую весну, начиная с 1975 года, обычно в мае, и приезжает на лечение чета Штриттматтеров. Рецензируемая книга — собрание свободных по форме записок на разные темы, делавшихся поэтессой с весны 1980 по 1985 год во время ее ежегодных визитов в этот санаторий. В жанровом и тематическом отношениях собранные здесь записки пестры и разнообразны — от любительски-этнографических и фельетонно-нравоописательных до литературно-критических и философских, в значительной части они автобиографичны; преобладающий тон — элегически-исповедальный.
Из того, как Эва Штриттматтер описывает свои взаимоотношения со сферой литературного творчества, мы почерпнем, думается, мало принципиально нового о природе поэзии и таинствах художественного слова; ее книга скорее позволит ближе познакомиться с самим автором, ее художническими и читательскими пристрастиями и, не в последнюю очередь, с ее жизненным и человеческим опытом.
Немало места в новой книге, как и в «Письмах из Шульценхофа», Эва Штриттматтер отводит описанию специфики писательского труда (прочесть эти строки особенно полезно будет тем из непосвященных, кто считает, что писательский труд легок), вернее даже — описанию хронически неблагополучного самочувствия писателя, «этого человека из слов», обреченного на вечное сизифово борение с почти неподъемным камнем: с жаждой снова и снова добиваться идеального соединения точности беспокойной мысли с чистотой словесной гармонии. Приверженность слову — это нечто вроде проклятия, витающего над художником, или, если угодно, вид болезни: «эта вдруг пробуждающаяся непобедимо-властная тяга к стиху, эта истерия духа, провоцирующая конвульсии во всем организме и выворачивающая тебя наизнанку...». Или (здесь, кстати, хорошо сказано о сложных отношениях поэтессы со стихами и прозой — тем и другим в отдельности): «Отговорки, оттяжки, срочные дела, видимость дел — с какой охотой поддаешься им, погружаясь в бездумный плеск набегающего дня, лишь бы не слышать зова слов, убежать от давящего, как тисками, их присутствия, сгущающегося вокруг того, кто открывает им свою душу: и вдруг у тебя словно перехватывает дыхание, воздух становится как бы разреженным, пьянящим и острым, как озон, чувствуешь себя будто на вершине горы или, наоборот, будто вдыхаешь кем-то скупо отмеренный воздух, находясь глубоко под водой, и ради самой жизни тебе нельзя ни слишком стремительно спускаться с горы, ни слишком быстро подниматься на поверхность... Поэтому, наверное, я отваживаюсь только — или почти только — на стихи. Я боюсь огромного груза, поднимать который приходится снова и снова, когда в очередной раз настраиваешь душу на одну и ту же «волну», чтобы кольцо за кольцом, слой за слоем наращивать медленно продвигающееся вперед творение прозы — той, что сродни поэзии стиха...».
Любопытно спорное, если хотите, суждение автора, неоднократно повторяемое, что жизнь и творчество плохо совмещаются одно с другим, что отдающий себя во власть слова превращается в редуцированную личность («кто занят сочинением стихов, не способен безраздельно отдаваться жизни — во всей ее целостности и полноте, во всех ее таинственных и причудливых хитросплетениях»).
Частное ответвление этой общей темы — «женское»: если быть поэтом трудно, то легко ли быть женщиной-поэтом в наши дни (ведь с пишущей женщины никто обычных женских обязанностей по дому и семье не снимает). Ответ на этот вопрос ясен, он напрашивается сам собой, и здесь у автора особого мнения нет. Гораздо интереснее, пожалуй, совсем частный, на первый взгляд приватный, аспект темы: легко ли быть женщиной-поэтом и еще женой знаменитого мужа. Тут, судя по всему — болевая точка во взаимоотношениях двух связанных семейными узами писателей, публично, понятно скрываемая, и Эва Штриттматтер говорит об этом так: «Ко всему, что я писала о Белле Шагал, у меня было непосредственно-личное отношение, — занимаясь ею, я открыла нечто важное в себе и для себя, или мне просто удавалось внятно сформулировать осознанное мною ранее, и прежде всего, серьезность опасности, вытекающей из партнерства с таким мужем, который в силу определенных факторов (таланта и общественного положения) призван играть в семье безусловно доминирующую роль... Именно здесь корень моей раздвоенности в мыслях и поступках... и раздвоенность эта ничуть не убывает с новыми стихами, которые я пишу, с новыми книгами, которые я публикую, с приходом все новых читательских писем, на которые я ищу ответ. ...Наши отношения с самого начала строились на неравенстве, и это неравенство в возрасте, опыте и силе воздействия на окружающих было слишком большим, чтобы исчезнуть само собой; конечно, оно чуть-чуть стиралось в будничном разговоре, в переписке, где мы говорили о нашей жизни, просто в быту, — но, в сущности, все эти годы я не была ни свободным, ни цельным человеком, который всегда открыто, ответственно и на равных мог бы говорить от себя. Как это обычно бывает, я возвела в систему и добродетель привычку жертвовать собой, стушевываться, отступать на задний план, выполнять только свои функциональные обязанности, где бы нам ни случалось находиться в данный момент — в Берлине, Шульценхофе, Москве или Будапеште»... Соотнося свою судьбу с судьбами Полины Виардо, Беллы Шагал, Зельды Фицджеральд, Клер Голль и других талантливых спутниц более знаменитых мужчин, Эва Штриттматтер склоняется к неутешительному выводу, что женская готовность жертвовать собой ради утверждения таланта мужа — качество столь же благородное, сколь и пагубное для собственных творческих сил, а потому, быть может, и не всегда себя оправдывающее.
Грустный тон второй части книги задает тема смерти; присутствует она здесь без претензий на какое-то оригинальное философское осмысление, а, так сказать, в чисто человеческом аспекте — и тем вернее заражает меланхолией читателя. Поэтесса с болью отмечает, как начинает редеть круг ее близких друзей, которых уносит болезнь и смерть (Ганс-Иоахим Кинасс, музыкальный критик газеты «Нойес Дойчланд», Пауль Винс, Конрад Вольф и другие), и начинает все отчетливее осознавать, что и ей оставшийся отрезок жизненного пути — небесконечен. Но вместе с тем в ней зреет мятежное нежелание «подводить черту», крепнет надежда, что еще что-то важное впереди; «Сейчас уже и мои сыновья чувствуют, как я; что молодость прошла и никакие из ее туманных обещаний не сбылись; сыновья выбиваются из сил, чтобы выиграть у судьбы хоть малое преимущество, страх потерять, проиграть уже безраздельно завладел ими. И у Эрвина, который, как принято говорить, пожил немало, такое же точно двойное чувство: предощущения грядущего и печали, — не может быть, чтобы прожитым исчерпывалась человеческая жизнь, что-то важное, а может, и самое значительное еще только должно состояться — момент полного согласия с жизнью. Отсюда и его абсолютная сосредоточенность на себе самом, неспособность всецело посвятить себя другим, кто еще не вышел из детства, ведь он в душе сам еще ребенок, которому будущее видится морем счастья и радости — а не унылой цепью дней, наполненных неприятностями и борьбой за главный труд своей жизни».
Что касается читательских пристрастий поэтессы, то они в означенное десятилетие заметно изменились: если ранее, судя по «Письмам из Шульценхофа», в круг ее чтения входили Толстой, Пришвин, Паустовский, Ахматова, Пастернак и, конечно же, Пушкин (которому она посвятила отдельную большую работу), то теперь из этого ряда остался, как ни странно, один Паустовский. К нему прибавились: Пруст, Томас Манн («Иосиф и его братья»), Джозеф Конрад, современный американский поэт Уоллес Стивенс. А еще поэтесса отмечает в себе растущее охлаждение к литературе чистого вымысла и повышенный интерес к полудокументальным жанрам, а также к книгам, написанным от первого лица, где покрывало вымысла тонко и прозрачно и не закрывает собой реальной жизни, а авторская субъективность лишь побуждает искать лежащие в ее основе крупицы личного жизненного опыта (Наталия Гинзбург, Кэтрин Мэнсфилд, Кэтрин Энн Портер и др.).
Свой путь литератора Эва Штриттматтер начинала как критик, и к этому роду литературных занятий она изредка обращается и по сию пору. В настоящей же книге — как можно было, вероятно, судить по приведенным отрывкам — мы имеет дело не с литературной критикой и даже не с эссеистикой, а в большей или меньшей степени с поэзией в прозе, навеянной мыслями о собственном творчестве и творчестве ряда собратьев по перу, в том числе классиков (Гёте, Байрон, Гёльдерлин, Гейне) и современников (Уоллес Стивенс) — поэзией, ничуть не уступающей по силе лучшим стихотворным сборникам поэтессы (например, сборнику «А эта роза одолеет всё», 1977).
Л-ра: Современная художественная литература за рубежом. – 1990. – № 1. – С. 35-37.
Произведения
Критика