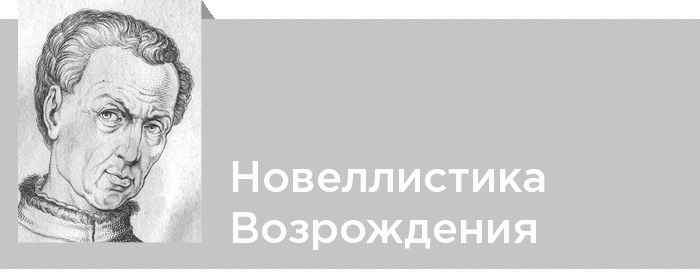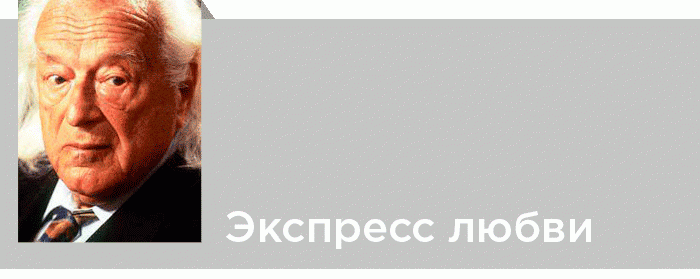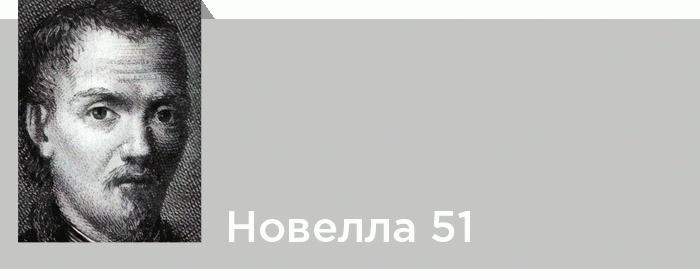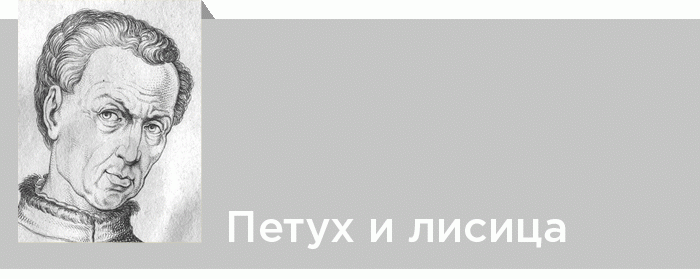Этические взгляды Поджо Браччолини по диалогу «De avaritia»
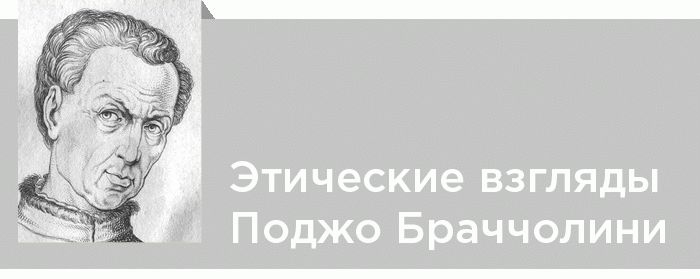
Г. И. Самсонова
Изучение этических концепций итальянских гуманистов первой половины XV в., как правило, провозглашавших в своих сочинениях идею необходимости служения обществу, представляется важным для понимания связи их взглядов с общественными условиями, с духом времени.
Именно Флоренция на рубеже XIV-XV вв. являлась оплотом республиканизма и центром зарождения гуманистической культуры. Там сложилась наиболее благоприятная социально-политическая ситуация для развития новой гуманистической идеологии, в которой идеи античных авторов, особенно Аристотеля и Цицерона, приобретают актуальное звучание и практическую направленность. Это идейное явление в культуре итальянского Возрождения, названное американским исследователем Г. Бароном «гражданским гуманизмом», характеризует творчество таких известных гуманистов первой половины XV в., как Леонардо Бруни, Джанноццо Манетти, Маттео Пальмиери. Близки этому направлению были Поджо Браччолини и Франческо Филельфо.
Стремительный экономический рост итальянских городов — особенно показателен здесь пример Флоренции — способствовал появлению в пополанской среде нового отношения к проблеме накопительства. Эта тема получила отражение в творчестве гуманистов, в частности у Поджо Браччолини, анализу этических взглядов которого по диалогу «О жадности» и посвящается данная статья.
Джан Франческо Поджо Браччолини родился в феврале 1380 г. в местечке Терранова, недалеко от Ареццо, в незнатной и небогатой семье. Почти 50 лет с некоторыми перерывами он прослужил секретарем в папской курии. Хотя большую часть жизни Поджо провел в Риме, он на протяжении всей своей жизни был связан близкой дружбой с ведущими флорентийскими гуманистами, о чем свидетельствует его эпистолярное наследие. Флоренция дала ему право гражданства, высоко оценив плодотворные поиски им античных кодексов, а с 1453 г. до своей кончины в 1459 г. Поджо служил канцлером Флорентийской республики вслед за Салютати, Бруни и Марсупини.
Часы досуга Поджо посвящал углубленному изучению сочинений античных авторов. Путешествуя в качестве секретаря курии по Европе, он неутомимо собирал рукописи древних классиков. Им были найдены в монастырских библиотеках произведения Квинтилиана, Валерия Флакка, Аммиана Марцеллина, Силия Италика, Кальпурния Сикула, Цицерона, в частности шесть его речей, сочинения Лукреция («О природе вещей»), Петрония, Плавта, Тертуллиана и многих других.
По свидетельствам современников, Поджо обладал веселым нравом и качествами остроумного собеседника. Его «Фацеции» — запись анекдотов, рассказанных папскими секретарями-гуманистами, — были известны далеко за пределами Италии еще при жизни гуманиста.
Диалог «О жадности», сочиненный в 1428-1430 гг., — первая значительная работа Поджо Браччолини, одно из главных произведений гуманиста, крайне важное для понимания его этических воззрений, образец становления и развития гуманистической мысли в Италии. Отражая актуальные проблемы, волновавшие умы образованных людей первой половины XV в., автор диалога выдвигает на первый план тему нравственной оценки накопительства. Местом застольной беседы Поджо выбирает виллу Бартоломео да Монтепульчано, куда ее владелец часто приглашал самого Поджо, а также Антонио Лоски и Чинчо Романо. Они обсуждали проповеди Бернардино да Сьеиа и других монахов-проповедников, обличавших людские пороки, в том числе и жадность. Сочинение Поджо написано в жанре диалога (самого распространенного в гуманистической литературе XV в.) и представляет собой запись спора папских секретарей-гуманистов и богослова Андреа Константинопольского.
Прежде чем опубликовать диалог, Поджо обратился за советом к Никколо Никколи и просил его показать сочинение Амброджо Траверсари и Леонардо Бруни. Рукопись с одобрением встретили многие гуманисты. Однако переписка Поджо с Никколи свидетельствует, что диалог «О жадности» был существенно переработан в соответствии с критическими замечаниями друга. В результате до нас дошли две редакции. Первая — 1429 г. (публикации 1511, 1513 и 1538 гг.) — была широко известна многим гуманистам. Сохранилось 11 ее рукописных списков. Вторая редакция — своеобразный итог совместного творчества автора и критика — опубликована Поджо в 1430 г.
В данной статье мы исследовали первую редакцию диалога. Следует отметить, что во второй редакции существенно изменились в основном вступление и окончание диалога. Так, критическое обсуждение собеседниками проповедей Бернардино да Сьена заменено пространным вступлением в цицероновском стиле. В нем выражалось сожаление о недостаточном почитании добродетели в те времена. Сильно переделана и первая часть речи Бартоломео да Монтепульчано. В измененном варианте Поджо значительно ослабил назидательный тон речи и авторитетную роль богослова Андреа Константинопольского и представил его как равного другим участникам беседы. Вся заключительная часть сочинения была подвергнута серьезной стилистической правке.
Из письма к Никколи (июнь 1429 г.) известно, что первоначально роль основного обличителя жадности Поджо хотел отвести Чинчо, имевшему репутацию жадного человека, а защитника жадности — Антонио Лоски, известному своей расточительностью. Автор намеревался сделать это умышленно, чтобы каждый хвалил те качества, которых не имел сам, и осуждал тот порок, который ему приписывался. Приняв замечание Никколи, что осуждение жадности смешно звучит в устах жадного человека, Поджо впоследствии передал роль главного обвинителя этого порока Бартоломео да Монтепульчано, который, как и Антонио, славился своей щедростью. Письмо Поджо, в котором он объясняет замысел своего произведения, свидетельствует о том, что диалог «О жадности» имел не отвлеченный характер, а отвечал требованиям времени. В частности, на вопрос, почему спорящие названы современными, а не античными именами, Поджо отвечал, что тема спора злободневна. Частые ссылки на Исидора гуманист объяснял тем, что этот автор известен обличениями жадности духовенства. Поджо считал, что написал свой диалог по образцу цицероновских произведений.
Английский историк У. Шеперд был одним из первых авторов прошлого века, занявшихся изучением жизни и творчества Поджо Браччолини. Детально описывая биографию Поджо, исследователь останавливается и на его диалоге «О жадности». У. Шеперд полагает, что им Поджо открыл серию обвинений францисканских монахов, которую и развил в своих последующих сочинениях. Анализируя диалог, швейцарский историк Э. Вальзер приходит к выводу, что «Поджо строит свою теорию на основании положений отцов церкви, лишь подкрепляя их суждениями из античных авторов». Мнение самого Браччолини о жадности Вальзер отождествляет с высказываниями Андреа Константинопольского. Американский исследователь Г. Барон рассматривает проблему накопительства, затронутую гуманистической литературой, в том числе в диалоге Поджо «О жадности», в связи с новыми тенденциями общественного сознания в городской коммуне периода ее социально-экономического расцвета. Итальянский историк Дж. Саитта считает наиболее живой и убедительной частью диалога речь Лоски в защиту жадности. Саитта приходит к выводу, что этические воззрения Поджо связаны с потребностями общественного развития и отражают торгово-ростовщический дух эпохи. Один из ведущих итальянских исследователей Возрождения Э. Гарэн, анализируя диалог «О жадности», указывает на его направленность против лицемерия монахов, живших чужим трудом, но проповедовавших аскетизм. Гарэн подчеркивает, что, осуждая развращенность монахов, Поджо «клеймит их попрошайничество, безделье, дерзкую и оскорбительную лень». Особое внимание автора привлекла речь Антонио Лоски в похвалу жадности. Он считает ее самой денной частью диалога, поскольку в' ней дается обоснование естественности жажды денег. Исследователь отмечает также сложность понимания самого слова avaritia у Поджо, ироничность авторской характеристики персонажей. Ф. Татео подчеркивает важную роль структуры диалога в рассмотрении гуманистом проблемы avaritia. Особое внимание он обращает на позицию Антонио Лоски. Интерес диалога, по мнению исследователя, заключается в серьезности, с которой Лоски оправдывает «мнимый порок» и восхищается им, предлагая рассматривать жадность с чисто экономической точки зрения (ведь без богатства, говорится в диалоге, не может существовать сама добродетель). Смысл диспута, утверждает Татео, заключается в осуждении порока, который представлялся отвратительным по сравнению с гуманистическими идеалами, в частности с идеалом благородства. Поджо не мог не ощущать этого, «живя в эпоху, которая начинала терять чувство республиканского согласия». Любознательная мысль, уловившая рост частных интересов и торгового расчета, не обошла этого противоречия эпохи, с живостью и беспристрастностью отраженного в диалоге. Некоторые оценки Ф. Татео разделяет и Н. С. Струвер. В своей книге она прослеживает связь диалогов Поджо с цицероновской традицией и мировоззрением Петрарки. Струвер полагает, что в отличие от Бруни, утверждавшего высшей этической нормой public persona, у Поджо Браччолини преобладает скептический тон. «Этический пессимизм „De avaritia", — пишет Струвер, — основан на понимании естественности и полноты исторической жизни; Поджо спорит ради признания этой полноты».
В новейших работах зарубежных исследователей при изучении творчества Поджо Браччолини подчеркивается, что диалоги гуманиста, в том числе «О жадности», отличаются новаторством, иногда не лишенным полемичности, обращением к современным автору вопросам морали. Так, изучая используемые в диалоге «О жадности» метод и аргументацию, Д. Марш утверждает, что Поджо выясняет истину путем рационального подхода к исследованию мнений классических и христианских авторов, одинаково оценивая их. Марш полагает, что три части диалога Поджо написаны по модели цицероновских дискуссий, а последняя часть — речь Андреа Константинопольского — отражает воздействие диалогов Августина. И это «христианское» решение вопроса как бы прекращает его обсуждение спорящими. Марш подробно анализирует позицию защиты жадности Антонио Лоски, основанную, по его мнению, на опыте, и отмечает значимость речи Лоски, ведущего эту защиту по обычаю античных академиков. Р. Фубини, давая широкий обзор творчества Поджо, отмечает, что в сочинении «О жадности» Браччолини утверждает «позитивные ценности экономической деятельности»; он указывает на полемический скептицизм, с которым Поджо отвечает на желание Бернардино и проповедников восстановить мораль; исследователь также говорит о воздействии Лукиана на появление явно иронического тона у Поджо.
Ч. Вазоли особенно подробно останавливается на диалоге Поджо «О жадности». Он определяет это сочинение гуманиста как произведение, в котором наиболее ярко раскрываются этические взгляды Поджо. По мнению Вазоли, центральным эпизодом диалога является речь Антонио Лоски, восхваляющего жадность, а искусные речи собеседников — неизбежная риторическая игра, подчеркивающая пользу для общества людей, стремящихся к обогащению. Однако итальянский историк полагает, что нельзя отождествлять точку зрения самого Поджо как с защитой avaritia, выраженной в речи Лоски, так и с позицией, высказанной в диалоге доминиканским богословом Андреа Константинопольским. Исследователь считает, что именно из столкновения мнений между богословом и Лоски рождается суждение об avaritia как об опасной и противоестественной страсти. В речи Чинчо, по мнению Вазоли, avaritia осуждается как грех «этический» и «гражданский», отсутствует противоречие между обличением жадности как порока, свидетельствующего о социальном распаде, и признанием богатства как необходимого элемента vita civile.
Таким образом, большинство современных зарубежных исследователей видят в диалоге Поджо выражение своеобразного реализма в подходе к проблеме богатства и накопительства. Особое внимание в связи с этим уделяется речи Антонио Лоски, поскольку именно в ней дается новая оценка природы человека.
Из русских дореволюционных работ о Поджо следует назвать статью М. С. Корелина, где подчеркивается разрыв взглядов гуманиста с принципами католицизма. Основное достоинство диалога «О жадности» Корелин видит в осуждении монашеского аскетизма.
В работах отечественных исследователей М. А. Гуковского, В. И. Рутенбурга, Л. М. Брагиной, А. X. Горфункеля, Н. В. Ревякиной и других подчеркивается социальная направленность литературного творчества итальянских гуманистов, в частности Поджо Браччолини. М. А. Гуковский, рассматривая сочинение Поджо «О жадности», считает, что автор диалога проповедует умеренность в стремлении к земным удовольствиям. Хотя сам Браччолини мог скрываться под именем Андреа Константинопольского, указывает Гуковский, решающее значение для раскрытия смысла диалога имеет взгляд Антонио Лоски «на стремление к жизненным благам как на основу человеческого общества». Таким образом, сама форма диалога позволяла гуманисту решать вопрос диалектически. Л. М. Брагина отмечает социальную значимость решения проблемы богатства в сочинениях «О жадности» и «Против лицемеров», указывая, что в оценке «порока алчности» Поджо исходит из общественной пользы материальных благ.
Противоречивые точки зрения на проблему avaritia в диалоге Поджо Браччолини породили разное толкование авторской позиции. Так, Н. В. Ревякина, отмечая неоднозначность подхода участников диалога к проблеме богатства и видя в речи Лоски «живейшее осознание жизненных процессов», считает речь Андреа Константинопольского тождественной позиции самого Поджо. Исследовательница мотивирует это тем, что «в предисловии к диалогу говорится о направленности диалога против алчности». Стремление выявить авторскую позицию в сочинении «О жадности» мы находим и в работе Л. М. Баткина. По мнению автора, речи всех участников диалога в той или иной мере выражают позицию Поджо, однако в целом подход гуманиста «богаче суммы подходов его персонажей. Он — поле их сопоставления». Многие исследователи склонны считать самой яркой частью диалога речь Антонио Лоски. А. X. Горфункель говорит о разрыве Поджо с христианской моралью средневековья, о новом понимании им нравственного идеала. По мнению исследователя, устами Антонио Лоски гуманист превозносит предприимчивую флорентийскую буржуазию. А. X. Горфункель полагает, что «в оправдании стремления к наживе у Поджо обнаруживается представление о „пользе" как основе человеческой нравственности, в котором наиболее ясно проявился раннебуржуазный утилитаристский характер этического учения итальянского гуманизма». Однако Горфункель обращает внимание на то, что позиция Поджо заключена в самом диалектическом обсуждении предмета и не связана с тем или иным конкретным действующим лицом диалога. М. Л. Абрамсон также считает самой важней в диалоге речь Антонио Лоски, его утверждение о пользе богатства для общества, о неразрывной связи и обусловленности общественной и личной пользы. По мнению Абрамсон, речь богослова Андреа Константинопольского лишь дополняет высказывания Лоски, хотя ни один из участников диалога не выражает полностью точку зрения Поджо.
Таким образом, и большинство советских исследователей расценивают речь Антонио Лоски в защиту жадности как отвечающую духу времени и, следовательно, определяющую подход Поджо Браччолини к проблеме богатства, что в свою очередь дает ключ к пониманию его этических воззрений. Нам же представляется важным не столько отождествление авторской позиции с точкой зрения того или иного участника диалога, сколько раскрытие тех этических принципов, которые отражают суть подхода Поджо к решению проблемы avaritia.
Введение в диалоге посвящено гуманисту Франческо Барбаро. Поджо просит его критически и в то же время снисходительно подойти к своему первому труду, написанному «для общего блага» по примеру современников, «которые своими деяниями достигли великой славы и известности» (р. 1). Обращаясь к Барбаро, Поджо говорит о направленности своего сочинения против жадности и выражает надежду, что оно не лишено литературных достоинств (р. 1-2).
В начале диалога Антонио Лоски произносит хвалебную речь о Бернардино да Сьена. Ему возражает Чинчо, заявляя, что Бернардино и другие проповедники совершают, по его мнению, одну и ту же ошибку. Они проповедуют не ради того, чтобы приносить пользу, а с целью блеснуть своим красноречием. Они стремятся не лечить болезни души, а заслужить похвалу и одобрение толпы. Такие ораторы заучивают наизусть несколько фраз, произносят их перед кем угодно и, возвышаясь над невежественной чернью, стремятся понравиться в первую очередь женщинам и глупцам (р. 2-3).
Критикуя проповедников, Бартоломео говорит, что они «порой так открыто описывают недостойные поступки, что порождают не ненависть к прегрешениям, а желание их совершить» (р. 4). Хотя расточительство (luxuria) и жадность весьма существенные пороки, они редко осуждаются в проповедях. Отметив это, Бартоломео предложил собравшимся обсудить природу упомянутых пороков. В это время к ним присоединился Андреа Константинопольский, «человек образованный и благочестивый», которого ознакомили с предметом спора (р. 5). После выяснения того, кому начать обсуждение проблемы жадности, Бартоломео произнес красноречивую речь, обличающую этот порок.
Далее спор идет в основном между тремя персонажами — Бартоломео, Антонио и Андреа. Бартоломео осуждает жадность, Антонио Лоски защищает ее и выступает против расточительства, Андреа Константинопольский пытается в начале спора найти компромиссное решение, основанное на оправдании умеренного стремления к накопительству, не противоречащего щедрости, но заканчивает свое выступление обличительной речью против жадности, особенно ее крайних проявлений. Он чаще других прибегает к ссылкам на отцов церкви. Чинчо, четвертый участник диалога, в своей короткой речи выступает против жадности духовенства.
В заключении диалога все участники спора соглашаются с мнением Андреа Константинопольского, даже Антонио, который, по его словам, выступил в защиту жадности лишь для того, чтобы побудить Андреа к красноречивому обличению этого порока (р. 31).
В диалоге Поджо Браччолини часто ссылается на произведения древних писателей и философов — Цицерона, Аристотеля, Лукиана, Плиния, Платона, Сенеки, Катона, Вергилия, Саллюстия, Теренция, Силия Италика, а также раннехристианских философов — Августина, Амвросия, Иоанна Златоуста, Исидора, Киприана. Из современников авторитетом для Поджо является Франческо Петрарка. Чтобы полнее раскрыть отношение участников диалога к обсуждаемой проблеме, Поджо Браччолини нередко обращается к историческим сюжетам и приводит примеры из современной ему жизни, что придает живость изложению.
Определенную сложность при исследовании текста диалога представляла трактовка понятия avaritia и поиск его адекватного перевода. Каждый участник спора в диалоге имеет свою точку зрения на содержание слова avaritia, но все они связывают это понятие с богатством, деньгами и стремлением к их приобретению.
На страницах диалога Поджо осуждает avaritia, следуя Аристотелю, который считал скупость и мотовство крайностями, т. е. пороками, а щедрость — серединой, т. е. добродетелью. Однако гуманист более подробно анализирует содержание понятия avaritia. По мнению Поджо, avaritia включает в себя такие качества, как скупость, корыстолюбие, алчность. Именно смысловые оттенки интересуют Поджо каждый раз, когда он устами того или иного собеседника обсуждает проблему avaritia.
Первый участник спора — Бартоломео — объединяет в понятии avaritia все качества жадности, давая общую характеристику жадного человека: «...если кто-либо охвачен страстью к золоту, серебру, деньгам, богатству до такой степени, что поглощен лишь заботой о накоплении, постоянно старается и всегда стремится приобретать, сокращать расходы, не гнушается никакими источниками дохода, лишь бы насытиться прибылью, все делает ради своей пользы, все измеряет собственной выгодой, то всех таких людей правильно называют жадными» (р. 6-7). Подчеркивая скупость жадных, Бартоломео говорит об их старании экономить на всем: «Жадные.. . носят дешевую и грубую одежду, настолько боятся любого расхода, что даже обходятся без цирюльника», жадный «с тревогой хранит деньги собранными в кучу, делая «лишь небольшие расходы, голодая, терзаясь страхом» (р. 9, 10). Бартоломео характеризует жадного как стяжателя, который йсе делает с корыстной целью, «призвав на помощь все свое красноречие, поступки и размышления; он будет заботиться только о себе и личных делах, забыв об общественном интересе» (р. 7). И наконец, жадный охвачен алчностью, а эта «страсть не имеет предела, она безгранична, неуемна и никогда не удовлетворяется... никакой прибылью, не насыщается никаким запасом и изобилием» (р. 7, 9). Бартоломео осуждает все эти качества и считает avaritia ужасным пороком.
Другой собеседник, Чинчо, также осуждая жадность, говорит об avaritia как о страсти к накоплению и желании получить прибыль. Он подчеркивает, что это не просто стремление к деньгам, а «всепоглощающая страсть к золоту», которая «безмерна» и «велика» (р. 22). Чинчо отождествляет avaritia с алчностью.
В устах третьего участника беседы — Антонио Лоски — avaritia не связывается со скупостью. По его мнению, это страсть (cupiditas) к деньгам, стремление приумножить богатства: «Люди занялись достойными делами исключительно из-за жадности, т. е. из-за страсти к золоту и серебру» (р. 11). Антонио Лоски пытается оправдать не только обычную жадность, но и порой чрезмерную страсть к деньгам, т. е. алчность. Он считает, что даже такая страсть может не помешать людям быть щедрыми, так как она не связана со скупостью: «Жадные в изобилии имеют деньги, которыми помогают больным и слабым и могут облегчить нужду многим людям, содействуя тем самым частным лицам и государству» (р. 15). Только в старости они начинают копить деньги и экономить (р. 17). Корыстолюбие же, по мнению Антонио, свойственно всем людям. «Кто пренебрегает собственной выгодой и ищет только общественного блага? — вопрошает он и подчеркивает: — То, что приносит выгоду одному, делается за счет другого» (р. 16-17). Таким образом, Антонио Лоски одобряет стремление к обогащению, если оно не связано со скупостью. По его мнению, среди жадных, не впадающих в крайность, «много знатных, блестящих, изящных, много тратящих, человечных, очень остроумных людей» (р. 16). И поэтому жадность сама по себе благотворна и порицать следует лишь злоупотребление ею, а не ее самое.
Последним говорит об avaritia Андреа Константинопольский, включающий в это понятие все качества жадности. Он наделяет жадного чертами скупости: «... по собственной воле он (жадный. — Г. С.) никогда не отдаст [деньги], ибо скуп, имеет мелочную душу... содрогается при слове „расход"... никогда не притронется к деньгам, никогда их не истратит» (р. 23, 26); Андреа характеризует жадного как корыстолюбивого стяжателя: он «пожелает несчастья соседу, завладеть собственностью которого стремится всей душой... Он приходит на помощь нуждающимся, помогает деньгами бедным, но добавь, если угодно, что берет при этом проценты в ущерб тем, кому он, по-видимому, помогает... Такой человек всегда противопоставит личную выгоду общей» (р. 24, 23, 25). В своей речи Андреа Константинопольский пытается разъяснить и уравновесить возникшие в споре разногласия. Уточняя значения слов «жадный» и «страстный», он называет avaritia безмерной и ненасытной страстью (cupiditas immensa, insatiabilis) ; это не просто cupiditas, a cupiditas vehemens, concupiscentia — «сильная страсть, превышающая всякую меру» (р. 18, 19). Андреа подчеркивает одну из отрицательных особенностей avaritia — алчность. Однако, по его мнению, существует и умеренное стремление к обладанию богатством, которое Андреа защищает: «Иной стремится к деньгам, но из жизненной потребности делать добрые дела, быть щедрым и оказывать помощь бедным людям. Эта страсть не дает никакого повода для порицания, она достаточно умеренная, и ты не ошибешься, назвав ее естественной» (р. 18). Тем самым, выступая против крайних проявлений жадности, Андреа Константинопольский склонен отчасти оправдать разумное стремление к накопительству, которое, по его мнению, присуще всем людям от природы.
Таким образом, мы видим, что собеседники неоднозначно трактуют понятие avaritia. Устами участников диалога автор дает как бы разное решение проблемы жадности. Однако, на наш взгляд, при анализе диалога следует не только выявлять различия в точках зрения, но и искать некие общие принципы, лежащие в основе подхода самого Поджо к решению этой проблемы. Попытаемся провести суммарный анализ позиций каждого участника диалога.
Бартоломео, осуждая жадность, считает ее пороком, противоречащим природе, «чье предписание и закон гласят, что мы должны предпочитать личной пользе — общую и что необходимо приносить пользу многим людям» (р. 7). Он предлагает считать жадного «предателем, изменяющим естественному закону» (р. 7). Далее Бартоломео утверждает, что «жадность сама по себе враждебна общественной пользе, для всемерной охраны которой мы рождены, и далека от нее» (р. 8). Подкрепляя свое суждение поэтическими строками из Вергилия, Бартоломео вопрошает: «... какое чудовище может быть ужаснее вора, обкрадывающего общество?» (р. 10). По его мнению, необходимо осудить человека, который «не приносит пользы обществу и несет гибель государству» (р. 8). Важным, с точки зрения Бартоломео, является и то, что жадность лишает человека добродетелей, особенно справедливости, и способна нанести вред дружбе, любви и доброжелательности — общественным узам, «без которых не может быть ни личных, ни гражданских дел» (р. 4, 7, 8). Здесь Бартоломео рассматривает жадность с позиций гражданского гуманизма.
С тех же позиций выступает в диалоге и Антонио Лоски. Он утверждает, что «некие семена жадности присутствуют в человеческом уме как необходимые для сохранения городов и гражданского права» (р. 15). Защищая жадность, Лоски считает самым ужасным пороком расточительство. По его мнению, оно всегда вредно, в то время как жадность иногда даже полезна и совместима с добродетелью (р. 11, 17). Антонио Лоски оправдывает обогащение, основанное прежде всего на личном труде человека, и осуждает лицемеров, «которые, прикрываясь религиозностью, домогаются жизни без труда и пота» (р. 13). Люди должны трудиться, полагает Антонио, и трудятся они потому, что стремятся из своих дел извлечь наибольшую выгоду. «Нам следует основывать государство не с этими праздными людьми в личинах, которые живут нашим трудом и в полном бездействии, но с теми, кто приспособлен к сохранению человеческого рода. Если каждый не будет трудиться сверх своей потребности, то всем нам придется обрабатывать поля, не говоря уже об остальном» (р. 13). Поэтому, делает вывод Антонио, жадность — своеобразный двигатель жизни, так как от стремления к накоплению зависят дела и успехи общества: «Если каждый будет довольствоваться лишь необходимым, исчезнут весь блеск городов, красота и пышность... прекратят существование все искусства, наша жизнь и общественный порядок расстроятся» (р. 13). Идеи гражданственности переплетаются у Антонио Лоски с декларацией индивидуализма: «Утверждения философов, что общая польза превыше всего, являются скорее обманом, чем истиной. Мы не можем измерять жизнь смертных на весах философии. То, что нас больше волнуют личные, а не общественные дела, вошло в обычай, принято всеми и повелось с основания мира... Ведь не бывает так, чтобы получение прибыли не причинило бы ущерба другому человеку» (р. 16-17). Однако это не противоречит принципу служения обществу. Лоски признает полезность для общества жадных людей, которые в случае необходимости помогают своими деньгами отдельным лицам и государству: «Деньги необходимы: они как бы нервы, поддерживающие государство. Поэтому там, где жадных очень много, их следует считать основой и фундаментом государства», которое является «общественной мастерской жадности» (р. 15, 13).
Утверждая естественность жадности, Антонио Лоски говорит: «Природа наделила множество живых существ стремлением к самосохранению. Из-за этого стремления мы добываем пищу и заботимся о теле. Все это нам доставят деньги... без которых невозможно что-либо иметь. Если это значит быть жадным, то жадность не противоречит природе... но она заложена в нас от природы с самого рождения совершенно так же, как и другие влечения» (р. 12). В своей речи Лоски не дает рекомендаций для выбора нравственного пути личности (в отличие от Андреа Константинопольского) , но, анализируя поведение людей, их деятельность и жизненные установки, он делает вывод, что «жадность в человеке не только естественна, но полезна и необходима» (р. 17).
Антонио считает, что жадность не препятствует добродетельной жизни, занятию науками, достижению мудрости. Рассматривая богатство и стремление к накопительству как возможность проявления добродетели, Лоски утверждает, что, если люди не захотят иметь более, чем им достаточно, «народ лишится самых необходимых добродетелей, т. е. сострадания и милосердия, никто не будет отличаться ни благодеяниями, ни щедростью» (р. 13). Как и Бартоломео, Антонио Лоски подчеркивает важность таких этических категорий, как дружба и доброжелательность. Он полагает, что они не чужды жадным людям, ибо дружба заключается не в деньгах, а в самопожертвовании (р. 16). Таким образом, в речи Антонио Лоски проблема жадности также рассматривается с точки зрения ее естественности (предопределенности природой самого человека), общественного значения и в тесной связи с категорией virtus.
Позиция Чинчо выражена в кратком выступлении против безмерной алчности священников как источника всяких преступлений. Указывая на вред, который наносят жадные люди обществу, он предлагает издать государственный указ, запрещающий жадным находиться в городах (р. 22, 27).
Последний собеседник, Андреа Константинопольский, защищая нормальное, умеренное стремление к богатству, осуждает безмерную, преступную страсть к деньгам. В противовес Антонио Лоски он утверждает противоестественность такой страсти: «Посмотри вокруг: куда бы ты ни направил свой взор, не найдешь в природе ничего, связанного с жадностью... а все не соответствующее природе правильнее определить как существующее вопреки ей» (р. 18-19). По мнению Андреа, жадными не рождаются, а становятся из-за ошибочных взглядов. Жадный человек не может быть философом, так как не любит мудрость, т. е, добро и справедливость. «Ведь философия — учитель и наставник правильной жизни, она отыскивает добродетель, изгоняет пороки... и учит, к чему мы должны стремиться и чего должны избегать. И вот почему ученых и образованных людей более других следует порицать за дурные поступки», — делает вывод Андреа (р. 19-20). «Сам разум, — провозглашает далее Андреа, — если бы он мог говорить, громко воскликнул бы, что жадный никак не может быть чьим-нибудь другом, так как он оскорбляет всех и сеет вражду» (р. 24). Мы видим, что в поисках решения проблемы Андреа, подобно Антонио и Бартоломео, обращается к разуму и природе как критериям истины.
В то же время Андреа Константинопольский рассматривает жадность с точки зрения полезности жадных людей и их богатства для государства. Следуя за Аристотелем, он признает пользу богатства для общества: «Если бы ты сказал, что нам помогает богатство жадных людей, когда они умирают, это не было бы лишено смысла» (р. 23). Но Андреа считает, что жадный человек наносит вред обществу, поскольку «всегда противопоставит личную выгоду общей и не огорчится, если уменьшится богатство государства» (р. 25). Более того, он указывает, что жадный готов предать родину ради увеличения своего дохода: «Продажными будут его дело, слово, достоинство. Он начнет строить козни против отечества и станет из-за денег его врагом» (р. 25). Особенно осуждает он жадность правителей, полагая, что «нет ничего более чудовищного, извращенного и дурного, чем жадность сильных мира сего, которая дает начало всякому злу» (р. 20). Поэтому, делает вывод Андреа Константинопольский, жадных людей следует изгнать из города по примеру Платона, который удалил из своего «справедливого государства» всех вредных для общества людей, ибо они «не только учением, но и примером развращают души граждан» (р. 27).
Подкрепляя свою позицию цитатами отцов церкви и древних классиков, Андреа говорит, что жадный лишен всякой добродетели, поскольку он никогда не заботится о справедливости — «прочной основе дел общественных и личных» (р. 25). Он лишен самых привлекательных добродетелей — щедрости и великодушия, а также благоразумия (prudentia), ибо «у кого отсутствуют прочие добродетели, отсутствует и эта — главная из всех» (р. 26). Из добродетелей Андреа Константинопольский, так же как Бартоломео и Антонио, высоко ценит дружбу и доброжелательность (р. 23-24). Таким образом, Андреа, подобно остальным собеседникам, рассматривает категорию добродетели с позиции гуманистической морали, выдвигая на первый план такие добродетели, как справедливость, благоразумие, мудрость, щедрость и дружба. Он подчеркивает, что человек, «лишенный всякого блеска и красоты добродетели, будет способствовать не сохранению пользы государства, а ее уничтожению, не поддержанию общества, а его разрушению. Жадность несет гибель всякому благу» (р. 26). Как видим, вопрос о жадности и богатстве решается Андреа Константинопольским в духе гуманистической этики.
В заключение все собеседники одобряют речь Андреа Константинопольского, подтверждающего свои взгляды ссылками на выступления против жадности Цицерона, Лукиана, Августина, цитатами из апостола Павла и Иоанна Златоуста. Окончание речи Андреа не лишено черт назидательности в духе религиозной морали. Жадность объявляется «корнем всяческого зла», поскольку уводит «от праведного служения Христу», жадные люди осуждаются как еретики и идолопоклонники, подчеркивается значимость христианских добродетелей — милосердия и сострадания (р. 28). Однако Поджо устами Андреа Константинопольского предпочитает ссылаться при этом не на средневековых теологов, а на близких к античности раннехристианских авторов.
Заканчивая свою речь, Андреа напоминает слова Флакка о бренности земной жизни и подчеркивает значение бессмертного человеческого духа, который следует возвышать. Он указывает, что истинное богатство заключается не в деньгах, а в достижении личностью добродетели и славы, в обладании искренним и чистым умом (р. 30). В окончательном осуждении жадности Андреа Константинопольский апеллирует не только к высказыванию Цицерона, но еще раз подчеркивает: «Это не чье-либо мнение, а голос природы и самой истины» (р. 31). На этом обсуждение проблемы заканчивается.
Таким образом, сопоставление позиций собеседников в сочинении Поджо Браччолини приводит к мысли, что, несмотря на различие точек зрения участников диалога на проблему жадности, в их речах можно выделить некоторые общие исходные положения. Это подход к жадности с точки зрения ее общественной полезности, естественности, имманентности человеческой природе и, наконец, рассмотрение жадности в строго этическом аспекте — в связи с новым гуманистическим пониманием категории добродетели.
Нам представляется, что вышеперечисленные гуманистические принципы основополагающие в подходе Поджо Браччолини к проблеме нравственной оценки накопительства. Выдвинутые первым участником спора, они рассматриваются под разным углом зрения всеми собеседниками, причем каждый обращает внимание на социальный аспект проблемы. Оправдание «умеренной жадности», не выходящей за разумные пределы, связано в диалоге с признанием ценности материальных благ, их общественной роли. Такой подход согласуется с практической моралью флорентийского купечества XIV-XV вв., гражданский идеал которого «неизбежно фиксировал это сочетание экономического благосостояния с политической активностью, верности коммуне с личным интересом». Осуждение крайних проявлений жадности ведется Поджо не с позиций христианского отречения от мирских благ. В диалоге утверждается, что умеренное стремление к обогащению отвечает общественным интересам, если оно направлено на достижение общего блага. В свою очередь принцип служения обществу является у Поджо Браччолини той основой, на которой гуманист пытается примирить и согласовать индивидуальное и общественное благо.
В диалоге «О жадности» автор, специально не рассматривая вопрос о благе, исходит из аристотелевского утверждения, что так как «богатство относится к используемым вещам», то «для счастья нужны... внешние блага, ибо невозможно или трудно совершать прекрасные поступки, не имея никаких средств». Поджо интересует степень полезности жадных людей для общества и государства, причем из всех способов приобретения богатства на первом плане у гуманиста стоит труд, который считается почетным, так как приносит состояние и высокое положение в обществе. Бездеятельную жизнь, особенно тунеядство монахов, Поджо осуждает. Добытое трудом богатство, по мнению гуманиста, необходимо и полезно для упрочения общественного могущества. Так Поджо с гуманистических позиций трактует проблему жадности. Его интерес к высказываниям Цицерона на соответствующую тему говорит о том, что вслед за Колюччо Салютати и Леонардо Бруни, утверждавшими необходимость служения республике, Браччолини считает благополучие общества критерием оценки жадности, а следовательно, морали и поведения человека. Как и многие гуманисты, развивавшие идеи гражданственности, Поджо отдает предпочтение нравственному идеалу vita activa.
Этическая позиция автора основана на признании ценности природного начала в человеке, созидательной силы природы — «матери всего сущего», как называет ее Поджо (р. 18). В то же время она сохраняет связь с христианской традицией морали. Пытаясь определить степень порочности жадности и осуждая ее крайние проявления, Поджо отчасти исходит из томистской предпосылки «золотой середины», развитой в проповедях Бернардино да Сьена и в сочинениях флорентийского епископа Сан Антонино. Однако не выступая против основ католической морали, стремясь совместить ее с требованиями материальной жизни, Поджо Браччолини выдвигает на первый план прежде всего античные нравственные идеалы. Мы видели, что и в речи Андреа Константинопольского, изобилующей ссылками на отцов церкви, проявляется подлинно гуманистическая позиция Поджо, заключающаяся в гражданственном подходе автора к проблеме жадности и применения богатства для общего блага.
В своем сочинении «О жадности» Поджо Браччолини вслед за Леонардо Бруни рассматривает тему накопительства с учетом социальной роли богатства и его нравственного значения для личности. Такой взгляд на проблему будет в дальнейшем развит известными гуманистами XV в. Маттео Пальмиери, Леоном Баттистой Альберти.
Л-ра: Культура эпохи Возрождения. – Ленинград, 1986. – С. 185-201.
Критика