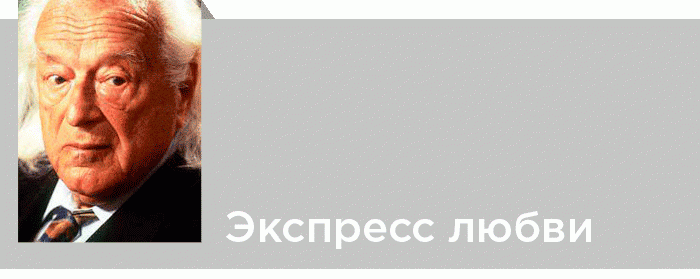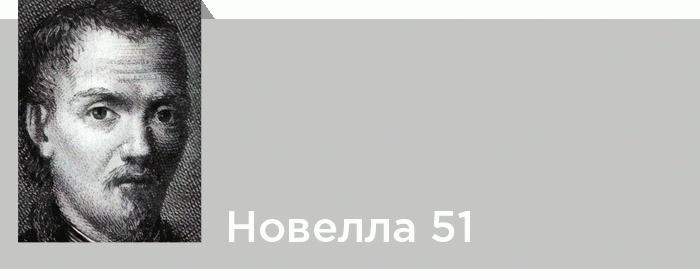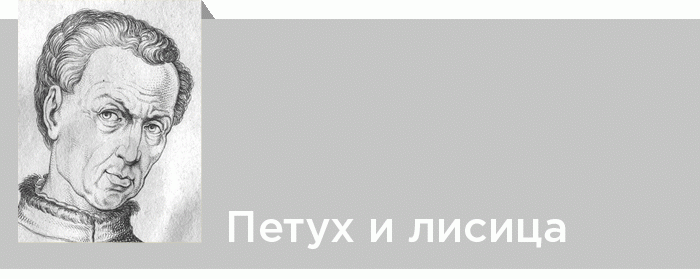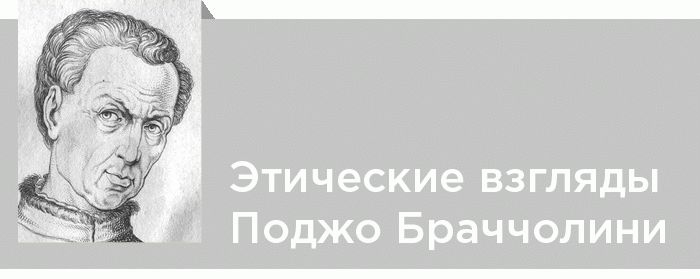О жанровой специфике и культурном контексте новеллистики Возрождения: Поджо Браччолини и Бонавентура Деперье
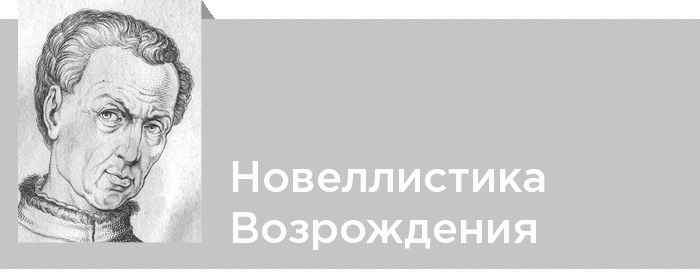
А. К. Стаф
Вопрос о прагматике художественного произведения и, шире, о его функциональной соотнесенности с современным ему социокультурным контекстом весьма существен для литературы Возрождения, поскольку в ней художественное произведение нередко несло нагрузи философского, научного, политического, этического трактата. Для французской новеллистики конца XV — начала XVI в. вопрос этот особенно важен. Во-первых, сборники новелл этой эпохи унаследовали от своих средневековых предшественников — сборников exempla (проповеднических «примеров») и отчасти фаблио XIII-XIV вв. — более или менее ярко выраженную дидактическую направленность. Заимствовав у короткого рассказа Средних веков девиз «забавлять, поучая», новеллисты давали читателю своеобразные, уроки поведения в различных ситуациях, делая забавную историю назидательным примером с позиции либо религиозной морали, либо «смехового» житейского опыта. Во-вторых, сюжеты; послужившие материалом для создания книг, распространялись преимущественно устным путем — традиция, берущая начало в бесписьменной, близкой к фольклору словесности средневековья. В эпоху Ренессанса, когда обмен занятными новеллами стал популярным и весьма престижным времяпрепровождением в образованном обществе, письменные сборники часто использовались как памятки, «шпаргалки», позволяющие при необходимости поддержать беседу.
Эти и другие особенности ренессансной новеллистики, на наш взгляд, во многом обусловлены тем, что в сознании авторов собственно эстетическая функция их произведений не воспринималась — в отличие от литературы Нового времени — как нечто самоценное, сливаясь с иными, внехудожественными в современном понимании, задачами. Такое, условно говоря, отсутствие художественного мышления, благодаря которому сборники новелл и с генетической и с функциональной точек зрения «напрямую» вписывались в окружающий социальный, идеологический и культурный контекст, делает заведомо недостаточным изучение этого жанра как замкнутого, самоценного автономного явления. Имманентный анализ его поэтики с помощью традиционного историко-литературного инструментария неизбежно приведет к выводу о примитивности и «недолитературности» французской новеллистики Возрождения, несмотря на ее «стихийные реалистические тенденции», отмечавшиеся исследователями; методы структурной фольклористики, акцентируя один, хотя и немаловажный, аспект жанра, позволяют лишь свести все многочисленные сборники в «единый текст», их историческая и литературная специфика окажется при этом уничтоженной. Цель данной статьи — показать на одной примере, что, изучая принципы соотнесения новеллистических сборников с культурным контекстом, можно объяснить и наполнить смыслом существующие между ними формальные различия; в условиях, когда авторы используют относительно ограниченный круг сюжетов, часто восходящих к фольклору, а также сходные приемы циклизации и стилистики, эта задача представляется насущной.
«Новые забавы и веселые разговоры покойного Бонавентуры Деперье, камердинера королевы Наваррской», изданные впервые в 1558 г., через 15 лет после смерти их автора, принято относить к традиции жанра гуманистической фацеции, образцом которого стал одноименный сборник Поджо Браччолини (1450-е гг.). При этом линия фацеции в новеллистике обычно противопоставляется линии «Декамерона» Боккаччо по двум основным формальным признакам: во-первых, сборники декамероновского типа почти всегда имеют обрамляющую новеллу, упорядочивающую их как смысловое единство, в то время как гуманистическая фацеция рамки не знает; во-вторых, и это касается типа самих новелл, если последователи Боккаччо тяготеют к так называемой «beffa», новелле о ловком и хитром поступке, и к «новелле-приключению» со сравнительно большим числом сюжетных ходов, то фацеция представляет собой так называемое «motto» — остроумный ответ или реплику к случаю.
Заметим прежде всего, что эти две линии возникли на разных этапах развития итальянского гуманизма. В период, когда создавался «Декамерон», гуманизм лишь оформлялся как идеология и мироощущение под непосредственным и громадным воздействием Петрарки; сборник Поджо, появившийся ровно век спустя, — плод гуманизма, переживающего период расцвета, наиболее развитого идеологически и эстетически. Поэтому различны и устремления двух авторов, и соотнесенность их произведений с современными им культурными тенденциями. Отсюда противоположные принципы циклизации сборников.
Боккаччо, описывая встречу и дальнейшее бытие своих рассказчиков, стремится надстроить над реальностью «второй этаж» ее идеального, правильного, а значит, подлинного бытия. Провозглашенная им победа красоты, образованности и утонченности над хаосом, царящим в «некультурной» зачумленной Флоренции, придает этому идеалу утопический характер. Рамки «Декамерона» — своеобразный свод представлений одного из первых гуманистов о том, как станут жить люди в наступающем золотом веке культуры, в лоно которой — и это важно подчеркнуть — должно естественно войти и «народное красноречие», литература, поднятая до необходимого уровня трудами великих писателей.
Совершенно по-иному обстоит дело у Поджо. Формально функции рамки, обозначающей границы текста (в принципе количество фацеций может быть умножаемо до бесконечности), выполняют у него «Предисловие» и «Заключение». Однако в «Заключении» содержится, по нашему мнению, отсылка к подлинной рамке, обеспечивающей смысловое и структурное единство сборника в противовес математическистрогой конструкции «Декамерона». «Еще со времен папы Мартина, — пишет Поджо, — мы завели обычай собираться в потайном местечке папской курии, куда мы приносили все новости и где мы беседовали о разных вещах как для развлечения, так иногда и серьезно. Там мы никому не давалиспуску и поносили все, что нам не нравилось...». «Вралья» («il Bugiale»); своего рода «курилка» при римской курии, становится для ее апостолического секретаря тем реальным кружком, атмосфера общения в котором уничтожает необходимость в кружке идеальном, вымышленном. Эта имплицитная рамка постоянно напоминает о себе на страницах «Фацеций» местоимением «мы» и пассажами, подобными следующим: «Мы порицали неблагодарность тех, кто любит заставлять людей работать до утомления и не торопится с вознаграждением» (XCII) и т. п. Внетекстовая, внелитературная действительность не только художественно организуется в сборнике, но и диктует ему свои законы, становится его упорядочивающей силой. «Фацеции» на каждом шагу доказывают свое право принадлежать к достаточно замкнутой системе гуманистического общения, быта, идеологии. Первое и самое наглядное следствие такой установки — латинский язык, на котором они пишутся: литература на народном языке в понимании гуманистов не могла принести писателю истинной славы — еще от Петрарки они унаследовали некоторое презрение по отношению к общедоступным, а оттого и легко «профанируемым» необразованной толпой произведениям. Для Поджо его «книжечка» — эксперимент, имеющий целью «выразить на латинском языке — и не очень нескладно — многое такое, что считается трудным для передачи по-латыни и что не требует никаких украшений, никакого ораторского пафоса», т. е. раздвинуть границы применения латыни, сделать ее более богатой и гибкой. В конечном счете эстетическая функция «Фацеций» немыслима в отрыве от поставленной перед ними высокой задачи — способствовать развитию риторики: «Пусть люди» пересказывают эти мои рассказы более гладким и более украшенным стилем. Я их прошу об этом. Этим они обогатят латинский язык в наш век и сделают его способным передавать сюжеты более легкие. Упражнение в таких писаниях принесет пользу в деле изучения красноречия».
Однако соединение латыни с «низменным» материалом нуждается в оправдании, и Поджо как гуманист прибегает здесь к опыту античности: «Мне приходилось читать о том, что наши люди благоразумные и ученые, находили удовольствие в шутках, играх и побасенках» и что за это они получали не упреки, а похвалу...». Показательно, что обосновывается в данном случае не столько выбор «материи» сам по себе, сколько определенный тип времяпрепровождения, общения, знаком которого становятся «шутки, игры и побасенки». Остроумие как неотъемлемая часть красноречия входит в гуманистический культурный идеал, ориентированный на античные добродетели. Жанр фацеции тем самым получает поддержку со стороны непререкаемого авторитета Цицерона (чьи остроумные ответы специально собрал его вольноотпущенник Тирон), Авла Телия («Аттические ночи»), Макробия («Сатурналии»), Диогена Лаэртского и Плутарха (жизнеописания древнегреческих философов, прежде всего киников) и, наконец, Петрарки с его «Книгой достопамятных вещей». «Оправдание античностью», между прочим, тесно связано и с тяготением фацеции к «motto»: древние мудрецы прославились остроумными ответами, но отнюдь не двусмысленными с точки зрения высокой морали проделками. Этим же объясняется и характерная «для гуманистической культуры «мифологизация» первых светочей нового итальянского искусства и особенно Данте, которому приписывалось множество острот (см. у Поджо фацеции XLIX, L, CI, CXV).
Стремясь через «возвышение» атмосферы il Bugiale придать своему материалу высокий культурный статус, Поджо постоянно подчеркивает невыдуманность рассказываемых историй: фацеция у него обладает истинностью исторического свидетельства. Любопытно, однако, что установка на достоверность парадоксальным образом обнажает такую особенность гуманистического сознания, как повышенный интерес ко всему чудесному, загадочному и сверхъестественному, начиная от рассказов о «чертях простых и квалифицированных», по выражению А. К. Дживелегова, и кончая грозными историями о карах со стороны Бога и святых. Все описания такого рода снабжаются обстоятельными ссылками на свидетельские показания и документы, подтверждающие их подлинность. Например, фацеция XXIX состоит из одного лишь сообщения: «Знаменитый Уго из Сиены, первый из врачей нашего времени, рассказывал мне, что в Ферраре родилась кошка о двух головах и что он ее видел». Причем наряду с утверждением норм гуманистического поведения и общения Поджо вносит в свой сборник и такую характерную черту этого общения, как склока: в двух фацециях (CXLIX и CL) он продолжает злобную распрю, которую вел в жизни с «этим негодяем Франческо Филельфо».
Итак, «Фацеции» Поджо самым непосредственным образом включаются в контекст гуманистической культуры и быта и потому не нуждаются в эксплицитной, формальной рамке. Единство мироощущения и культурного самосознания гуманизма обеспечивает и внутреннее единство сборника. Как известно, с распадом гуманизма исчезает и самый жанр фацеции (его временные границы: 1440-1560-е гг.).
По нашему мнению, функции, аналогичные функциям «Заключения» у Поджо, — вписать текст во внелитературную действительность, которая тем самым становится гарантом его целостности, — выполняют и частые в новеллистике Возрождения посвящения (см., например, «Новеллы» Банделло в Италии или «Сто новых новелл» из Франции). По-видимому, не случайно, что они почти всегда содержат в себе и уверения авторов в правдивости рассказываемых историй.
Рассмотренные в такой перспективе, «Новые забавы и веселые разговоры» Бонавентуры Деперье обнаруживают значительные отличия от «Фацеций», их предполагаемого жанрового образца. Прежде всего они написаны по-французски и уже по одной этой причине естественно включаются в традицию национальной новеллистики. Среди новелл Деперье одинаково часто встречаются и «beffa» и «motto». Кроме того, выбор латыни или национального языка имел в Италии и во Франции совершенно разный культурный смысл. Для Италии латыньявлялась языком живым и актуальным постольку, поскольку для нее была актуальной задача возродить славу Древнего Рима, ее предка. Во Франции, несмотря на гуманистические обертоны восприятия латыни (единый язык европейской интеллигенции), она ассоциировалась прежде всего — и особенно в свете знаменитого королевского ордонанса в Виллер-Котре (1539), подготовленного всем развитием французской культуры начала XVI в., — со схоластикой, университетами, католической церковью, запутанным судопроизводством, т. е. с отмирающими пластами средневековой культуры. Деперье принадлежал к тому широкому и плодотворному течению во французском гуманизме, которое уже с первого десятилетия XVI в. (Кристоф Де Лонгей, Клод де Сейсель, Жан Лемер де Бельж и другие) предприняло попытку «защитить и прославить» национальный язык, провозгласив его равным по достоинству и латыни, и «тосканскому наречию». Внимание к проблемам развития и обогащения французского языка тесно связанное с духом Реформации, подкрепленное культом национального прошлого и, что особенно важно, национальной поэзии, сделало гуманизм во Франции гораздо более «народно-литературным», чем в Италии.
Среди языков и диалектов, из которых слагается макаронический стиль новелл Деперье, латынь имеет самый низкий культурный статус: это набор отрывочных и бессмысленных словосочетаний, которые подавляют заучившего их человека, лишают его элементарной языковой (а следовательно, и личной) свободы.
Антиподом латыни в художественной системе «Новых забав...» выступает поэзия на французском языке, воплощающая в себе высшую свободу владения словом. Персонажи, наделенные поэтическим, даром, пользуются полнейшим сочувствием рассказчика и становятся как бы его равными партнерами (см., в частности, новеллу LXIV). Поэзия на французском языке не подавляет творческих возможностей личности, а, напротив, развивает их.
С тем, что свобода словесного выражения помещается Деперье на высшую ступень в шкале культурных ценностей, связан и сам принцип построения его новелл. В отличие от Поджо, у которого каждая фацеция заключала в себе одну остроумную реплику, в «Новых забавах...» в пределах одной новеллы могут быть объединены несколько сюжетов, связанных либо протагонистом, либо тематически, либо просто по ассоциации или фольклорному принципу утроения. Кроме того, одной из самых существенных черт книги является изобилие аллюзий, намеков, явных и скрытых цитат из самых различных произведений. Адресат сборника Деперье — это человек одного круга с автором, читатель-гуманист и поэт, обладающий широким кругозором и литературной образованностью. «Новые забавы...», как и «Фацеции», включены в контекст гуманистической культуры, однако если у Поджо рассказы обретают жизнь лишь на фоне гуманистического идеала красноречия и норм общения во «Вральне», то у Деперье новеллы получают свое подлинное звучание в соотнесении с современной ему литературной традицией, которую он трансформирует и интерпретирует по своему усмотрению. Наиболее актуальными для автора «Новых забав...» оказываются в конечном итоге два писателя, отсылки к которым доминируют на фоне французской, итальянской (Поджо, Саккетти, Кастильоне), античной и другой словесности, воспринятой Деперье, — это «отец поэтов» Клеман Маро и «шутник» Франсуа Рабле.
В пределах текста «Новых забав и веселых разговоров» оказываются, таким образом, объединены, смешаны, а тем самым и ценностно уравнены самые различные в жанровом и стилистическом отношении литературные традиции. Принцип языковой свободы находит подтверждение на композиционном уровне в свободе авторского обращения с материалом, в том числе и его отбора. Сюжеты, цитаты, отсылки — все это лишь вспомогательные средства, позволяющие проявиться авторской творящей воле. Из этого обстоятельства вытекают два важных и взаимосвязанных следствий: уникальный для новеллистики французского Возрождения принцип циклизации сборника и полемика Деперье с установкой на достоверность рассказа.
«Новые забавы...», в противоположность всем написанным до них сборникам новелл, организованы вокруг фигуры одного рассказчика, индивидуальность которого становится их единственной движущей и скрепляющей силой. Об этой авторской маске, в которой, по-видимому, сильнее всего сказалось влияние Рабле с его «Алькофрибасом Назье», уже не раз писали в критической литературе, отмечая как ее наиболее характерную черту мобильность позиции рассказчика по отношению к тексту и читателю, «отказ продолжать, беседу в одном лингвистическом регистре, каким бы он ни был», что прямо соотносится с указанной нами «интертекстуальностью» книги. «Произвол» рассказчика, не связанного никакими внешними обстоятельствами («И нечего спрашивать меня, какого порядка я придерживался: какой может быть порядок, когда речь идет о смехе?»), — кардинальное отличие «Новый забав..,» от сборника Поджо, где автор занимает позицию скромного фиксатора, посредника между гуманистической «Вральней» и читателем; в силу этого «Фацеции» имплицитно сохраняют как бы коллективное авторство. У Деперье же рассказчик вторгается в повествование, комментирует поступки персонажей, «задирает» читателей — словом, оказывается единственным и главным героем сборника.
В «Первой новелле в форме предисловия» автор-рассказчик решительно отметает все возможные «прагматические» задачи, которые могут быть поставлены перед его новеллами, кроме одной — заставить смеяться. Только так «Новые забавы...» могут быть «использованы» в каждодневной жизни: в стране, измученной очередным итальянским походом и ожидающей мира (в 1538 г. Франциск I и Карл V заключили лишь перемирие), они дают людям лекарство от невзгод. Сборник не содержит никаких наставлений, никаких нравственных правил, кроме одного — «bene vivere et laetari» («хорошо жить и веселиться»). Все остальные не стоят ломаного гроша: «Излишнее терпение вас измучит, молчание изнурит, воздержание иссушит, друг покинет». И в связи с этим Деперье провозглашает свое право на чистый вымысел: «Я обещаю вам, что здесь нет никакого аллегорического, мистического, фантастического смысла: …Смейтесь, и что вам за дело, сделал это Готье или Таргиль. И пусть вас не заботит, случилось это в Туре Беррийском или в Бурже Туренском: только зря будете убиваться, ибо как годы нужны лишь для того, чтобы платить долги, так и имена для того и существуют, чтобы о них спорить. Оставляю их тем, кто составляет контракты да заводит тяжбы». Декларация полного равнодушия к проблемам достоверности оборачивается в этой тираде призывом к тому, чтобы сборник Деперье оценивался читателями единственно с эстетической точки зрения: забота о правдивости передается автором в ведение чиновников, а «оправданием» существования «Новых забав...» служит удовольствие, получаемое читателями, а не «польза». Вместо культурной утопии Боккаччо или риторического эксперимента Поджо, прославляющего «свой» кружок; вместо любого традиционного нравственного идеала Деперье предлагает читателю своего рода «утопию языка», обладающую собственными законами, не сводимыми к законам морали и любым другим идеологическим догмам.
Все сталкивающиеся в сборнике литературные (а через них и культурные) традиций оказываются у Деперье объектом, подвергнутым критическому изучению и осмеянию. Несерьезный контекст, неожиданные, чаще всего пародийные, снижающие ассоциации, весь «балаганный» тон болтовни рассказчика как бы сдвигают привычные принципы их восприятия, обнажают в конечном счете условность; всякой объективной и абсолютной истины в сфере идеологии и культуры. Поиски такой истины обозначаются Деперье посредством одной устойчивой метафоры — алхимии с ее разысканиями философского камня. В новелле XII комический эффект достигается путем неожиданного приложения к алхимикам заимствованной у Рабле (и фольклорной по происхождению) истории о «доброй женщине, что несла на базар горшок молока», т. е. «гуманистического» переосмысления забавной байки. Еще более показательна XIII новелла, представляющая собой целый космогонический миф, разумеется пародийный, на тему того, отчего алхимикам никак не удается добыть, наконец, свой камень. Кстати, это единственная новелла, в которой присутствуют черти: в отличие от Поджо и в полном соответствии с общим ироническим тоном повествования Деперье полностью игнорирует любые чудеса и любых чудищ, включая и нечистую силу.
Смех Деперье, таким образом, направлен на устойчивые, застывшие, закрепленные в культурном быту идеологические и языковые нормы и коды, превращая их в набор условностей. В этом его отличие, например, от «карнавального», амбивалентного средневекового смеха: он не несет в себе утверждения осмеиваемых ценностей, он утверждает лишь (и в этом его сила и положительный заряд) свободный творческий код мыслителя и художника. Он индивидуален, а потому тяготеет к скепсису. В подобной позиции автора заключен огромный интерес, который представляют «Новые забавы...» для изучения того, как возникала и развивалась литература Нового времени; эта же позиция ставит сборник на особое место в новеллистической традиции французского Возрождения. Однако в силу такой негативной ориентации на литературные и культурные «знаки» сборник проигрывает по сравнению, скажем, с романом Рабле: его развенчивающая, «демифологизирующая» функция подразумевает парадоксальным образом более тесную связь с отрицаемыми канонами, ограниченность сравнительно узкой гуманистической проблематикой, своеобразную «кружковость», пусть и в новом, необычном качестве, но все же весьма далекую от универсализма художественного мира «Гаргантюа и Пантагрюэля».
Л-ра: Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. – 1986. – № 1. – С. 26-34.
Критика