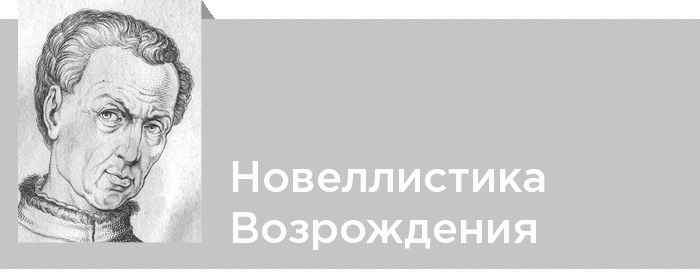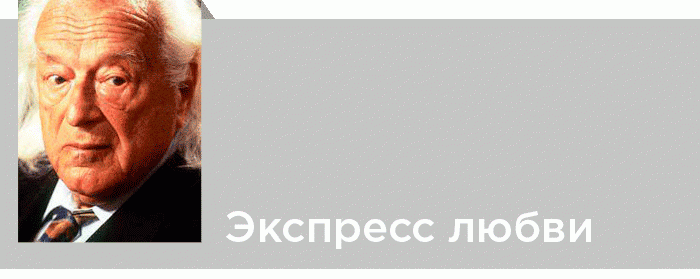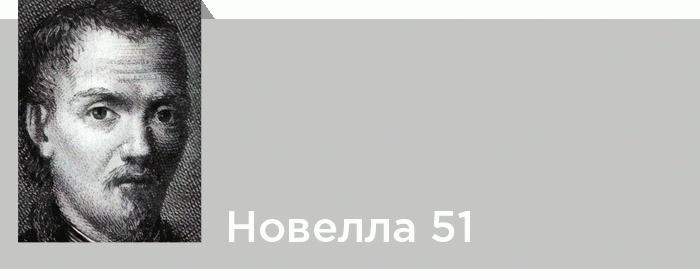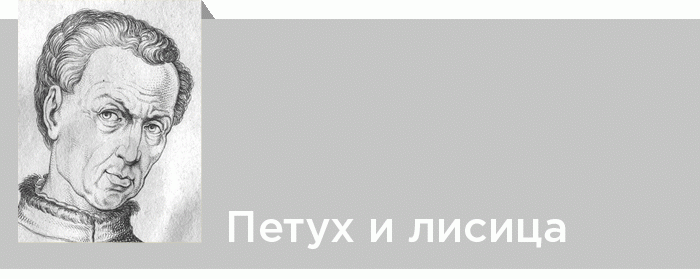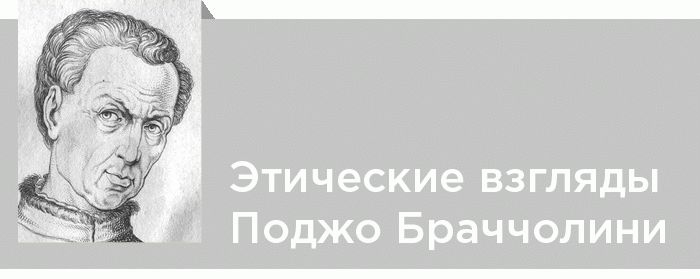Поджо Браччолини и проблема благородства в гуманистической литературе итальянского Возрождения XV в.

Н. В. Ревякина
Вопрос о благородстве, будучи одним из центральных в гуманистической идеологии Возрождения, тесно связан с проблемой формирования новой личности, осмыслением ее внутренней ценности, определением ее места в обществе и выработкой необходимых для этого критериев.
На первый взгляд тема благородства выглядит самой недискуссионной в проблематике итальянского гуманизма. Казалось бы, со времен Данте передовая мысль Италии ясно утверждала идею благородства, приобретенного собственными заслугами, и не менее красноречиво отвергала благородство наследственное. Однако уже Данте высказывается о благородстве неоднозначно (Convivio XV, 3, 16; Monarchia II, 3), понимая его как доблесть духа и одновременно принимая позицию Аристотеля, связавшего в «Политике» благородство с древними богатствами и добродетелью предков. Позже Салютати, комментируя в письме к Бандини канцону о благородстве из Дантова «Пира», натолкнется в своих рассуждениях на серьезное препятствие — Аристотелево представление о рабах, не способных по природе своей к добродетели и благородству, — и даст в итоге внутренне противоречивое решение.
Но дело, конечно, не только в античном материале, к которому обращались гуманисты и который, помогая в целом формированию новой идеологии, порой действительно приводил гуманистов к противоречивым выводам или сковывал живую мысль. Гуманистическая идеология возникает в обществе переходной эпохи, и мы вправе искать в гуманизме отражение усложненной картины социальной жизни того времени. Феодализм в Италии еще далеко не был изжит, и феодалы разными способами продолжали влиять на развитие общества. Но не они задавали тон развитию, а появлявшиеся в обществе новые социальные слои — носители зарождавшихся раннекапиталистических отношений. Гуманизм, будучи идеологией этих слоев, помогал утверждению в жизни купцов, банкиров, предпринимателей несредневекового размаха. Он способствовал утверждению и самого творца новой идеологии — гуманистической интеллигенции, впервые выходившей на историческую арену и энергично доказывавшей право на собственное существование и определенное место в обществе. Видимо, надо принимать во внимание все упомянутые обстоятельства, чтобы разобраться в гуманистических спорах о благородстве.
Познакомиться с этими спорами дают возможность гуманистические диалоги и среди них наиболее яркий — диалог Поджо Браччолини «О благородстве». Почти все работы Поджо — диалоги, в которых содержатся и иные, на первый взгляд, противоположные вышеназванным точки зрения, тоже высказываемые с энтузиазмом; иногда же в диалогах появляются и третьи, примиряющие мнения. Исследовать эти диалоги непросто. Подчас приходится искать общую основу в несовместимых на первый взгляд позициях спорщиков, прибегать к другим работам гуманиста, сопоставлять его труды с сочинениями гуманистов-современников, выявляя общие тенденции гуманистической мысли.
Диалог Поджо «О благородстве» (1440) не представляет в этом смысле исключения. Это острый диспут, где высказываются две разные точки зрения на благородство: Никколо Никшиш защищает благородство, происходящее от добродетели, а Лоренцо Медичи Старший ставит благородство в связь с родом и богатством. Сам Поджо, выступающий в роли слушателя, побуждает к спору участников диспута, но активного участия в нем не принимает.
В начале диалога автор говорит о важности темы, он отмечает несоответствие между ее малой освещенностью в литературе и широким распространением понятия «благородный» в жизни. Имений такое несоответствие и побуждает Поджо положить начало широкому обсуждению вопроса в надежде, что его продолжатели «ради общей пользы» напишут об этом предмете лучше. В диалоге ведется живой разговор о благородстве, в ходе которого четко вырисовываются разногласия, однако намечаются и пункты сближения, хотя каждый из участников и продолжает отстаивать свое мнение. Выводы читателю предлагается делать самому.
Диалог Поджо не был единственным в XV в. сочинением о благородстве. До Поджо на эту тему писал флорентийский юрист и писатель Буонаккорсо Монтеманьо, а после Поджо — Бартоломео Платина, чье сочинение тесно связано с трудом Монтеманьо. При изучении проблемы благородства мы будем опираться как на диалог Поджо, так и на сочинения Монтеманьо и Платины.
Труд Монтеманьо «О благородстве» появился до 1429 г. Он состоит из двух речей, воспроизводящих выступления в сенате двух римских юношей, добивавшихся руки Лукреции — дочери сенатора Фемистия Феликса. Поскольку Лукреция сказала, что выберет более благородного, то каждый из юношей пытается доказать право на это звание и излагает свое понимание благородства. Публий Корнелий Сципион, происходящий из знатного и богатого рода Корнелиев, защищает благородство наследственное, а Гай Фламиний, имеющий родителей менее знатных и богатых, но честных, — благородство, добываемое собственными заслугами. Окончательного решения ни сенат, ни Лукреция не выносят. В предисловии, где Монтеманьо говорит о своем намерении осветить предмет, в высшей степени достойный обсуждения, и где кратко изложено содержание работы, своей точки зрения на проблему благородства автор не высказывает. Видимо, поэтому М. С. Корелин, знакомый с трудом Монтеманьо, считает его незаконченным.
Труд Монтеманьо имел широкое распространение и дважды в XV в. переводился на итальянский язык. Возможно, он повлиял на диалог Поджо, хотя прямой связи и заимствований нет. Несомненно, однако, влияние труда Монтеманьо на диалог Платины «Об истинном благородстве» (1468). У Платины и Монтеманьо одинаковы не только идейные источники (кстати, на некоторые из них ссылается и Поджо), но есть общее в структуре изложения, в характере аргументации, в ее идейной наполненности, встречаются и словесные совпадения, хотя Платина на диалог Монтеманьо не ссылается. При всем том сочинение Платины не назовешь заимствованием из труда Монтеманьо. Оно содержит живой отклик на некоторые современные Платине проблемы, которые рождены в условиях, отличных от флорентийских, и воспринимаются сквозь призму жизненного опыта Платины (акцент на благородстве людей умственного труда, тема благодеяния и щедрости, актуальная для гуманистической интеллигенции, выпады против феодалов и др.); кстати, коснуться этих проблем ему помог и отход от античного антуража труда Монтеманьо.
В диспуте Платины два участника — выходец из знатного римского рода епископ Орсини и сам Платина. Свои соображения излагает сначала Орсини, который защищает благородство, идущее от знатного рода и богатства. Затем говорит Платина, ратующий за добродетели как источник благородства. Орсини, не споря с Платиной и побуждая его своими вопросами к дальнейшей речи, в конце диалога как будто бы соглашается с ним. В предисловии к диалогу излагается точка зрения самого автора на добродетель и благородство, тяготеющая к речи Платины — участника диалога, но позволяющая принять и некоторые соображения Орсини.
Задача нашей работы — выяснение социального смысла споров о благородстве и определение гуманистической позиции в отношении этого понятия. С целью ее решения попробуем взглянуть на диалоги как на общий поток гуманистической мысли и, не рассматривая каждое из названных выше сочинений в отдельности, выделим в них и изучим две достаточно четко обозначенные позиции — связывающую приобретение благородства с собственными усилиями человека и понимание благородства как основанного на родовитости и богатстве. Назовем условно первую позицию «гуманистической», а вторую «традиционной». Думается, что само содержание диалогов, где ясно просматриваются обе позиции, позволяет применить такой методический прием. Избранный нами способ анализа диалогов, имея свои недостатки (в частности, он не всегда в достаточной степени учитывает специфику каждого сочинения), тем не менее позволяет отчетливо представить каждую позицию, что дает, на наш взгляд, большую возможность приблизиться к уяснению социального смысла этих позиций.
С самого начала следует заметить, что в отношении определения благородства в диалогах особого различия между спорящими нет. Благородство трактуется как известность, слава, позволяющие одним людям превосходить других (Рг., р. 142; Pg., f. 30 v.; Plt., f. 58 v.) ; речь идет, разумеется, не о позорной известности, что подчеркивается Поджо и Платиной (Pg., f. 25 v.; Plt., f. 54 v.). Благородство, таким образом, сразу же получает социальную характеристику, означая отличие от других людей, особое место в обществе. Во всех работах спор идет о критериях благородства, о путях достижения этого особого положения.
Трактуя благородство как некое превосходство, славу, защитники «гуманистического» взгляда (Фламиний у Монтеманьо, Платина в диалоге Платины, Никколи у Поджо) связывают это превосходство с добродетелью, т. е. с высокими моральными качествами (Рг., р. 142; Plt., f. 58 v. —59 г., 67 г.; Pg., f. 25 v., ЗО V., 32 г.). Приобретается же добродетель с помощью знаний, образованности. Эта связь добродетели с «добрыми искусствами и дисциплинами» четко выражена в речи Фламиния и у Платины (Рг., р. 142; Plt., f. 58 v.), менее ясно у Никколи, который, идя в понимании благородства за Сенекой, повторяет его мысль о связи благородства с добродетелью и мудростью (Pg, f. 31 г.).
Из тесной связи благородства с добродетелью вытекает исключительная важность собственных усилий в его приобретении. «Благородство, подруга и спутница добродетели, приобретается собственным трудом, а не чужим, и с пороками оно несовместимо» (Plt., f. 61 v.; Рг., р. 150) — эта мысль, в сущности центральная в рассуждениях Фламиния и Платины, подтверждается примерами из древности. Но если все зависит от собственных усилий человека, то перед возможностью стать благородным все равны. У Фламиния при доказательстве этого тезиса сильны демократические ноты. Природа, «всеобщая повелительница вещей», всем смертным дала душу вне зависимости от рода, власти и богатства; эта душа чиста, свободна и расположена к восприятию благородства. И «нет такого бедного, ничтожного или презренного человека, кто от рождения не имел бы душу, равную с душами сыновей королей и императоров, кто не смог бы украсить ее блеском добродетели, а значит, и славой благородства» (Рг., р. 144). Эти мысли повторяет и Платина, говоря об одинаковом способе появления на свет сыновей простых людей и детей владык, хотя дети королей рождаются на пурпуре и во дворцах, а простые смертные часто в лачугах и на лохмотьях. Только добродетели делают одних благороднее других (Plt., f. 59 г.). В другом месте его труда говорится, что человек из низов (ex infima sorte) может стать благородным благодаря своим заслугам (Plt., f. 58 v.—59 г.).
Никколи у Поджо стоит на подобных позициях. Исходя из учения Платона о четырех источниках благородства (славные, добрые, справедливые родители; предки, прославленные военными подвигами; могущественные родители; собственная доблесть), Никколи признает важным только последний: «Мы славу и благородство зарабатываем собственными заслугами, а не чужими, и зарабатываем такими деяниями, которые проистекают из нашей воли. Ведь какое отношение имеет к нам то, что совершено за много веков до нас, без нашего труда? Эти деяния украсили и прославили их творцов, а нам указали путь для подражания... только за добродетелями следует признать первенство в благородстве» (Pg., f. 30 v.). Рассуждая об этимологии слова «благородство», Никколи замечает, что латиняне в отличие от греков понимают благородство как собственное приобретение, а не заимствованное от других. «Мы называем благородными по причине справедливо совершенных деяний и выдающейся славы и известности, лично принадлежащих какому-нибудь человеку» (Pg., f. 31 г.).
Поскольку в приобретении благородства все зависит от самого человека, от его добродетели, то судьба, случай и все внешнее не имеют власти над благородством. Ведь «благородным делает душа, а она может подняться над судьбой из любого состояния» (Рг., р. 162; Plt., f. 63 г.). И «кто не славен, пусть винит себя самого в этом и не ропщет несправедливо на судьбу» (Рг., р. 142).
При всей связанности благородства и добродетели эти понятия не равнозначны. Благородство не является только нравственным совершенством, составляющим внутреннюю ценность личности. Добродетель как совокупность высоких моральных качеств — это основа, предпосылка для благородства, дающая возможность человеку определенным образом проявлять себя в обществе. Каким же содержанием тогда наполнено понятие благородства? Фламишш у Монтеманьо говорит об этом так: «Когда человек, долго упражняя душу в наилучших искусствах, отличается справедливостью, благочестием, стойкостью, великодушием, умеренностью и благоразумием; когда почитает бессмертных богов, заботится о родителях, друзьях, родственниках, о государстве; когда взращен на священнейших занятиях литературой, тогда он несомненно считается по сравнению с прочими благородным, знатным, знаменитым и славным» (Рг., р. 142). Такое понимание благородства Фламиний наиболее последовательно демонстрирует на собственном примере: с самого детства он усердно изучал науки, с помощью которых приобрел высокие моральные качества и научился презирать пороки; он всецело посвятил себя родине, никогда не переставал думать о ее благе и величии, не страшился никаких трудностей, никакой опасности, чтобы содействовать ее славе и благоденствию; он ценил дружбу, помогал всем, чем мог, друзьям, нежно любил родителей и близких, благоговейно почитал религию (Рг., р. 156-158).
Очевидно, что благородство у Фламиния заключает в себе общественное содержание, являясь основанным на высоких нравственных качествах похвальным способом поведения в обществе, от чего неотделимы общественное признание, слава, почет. Свои претензии на благородство и на брак с Лукрецией Фламиний отстаивает, опираясь на такое понимание благородства, а право на благородство у своего соперника отрицает, ссылаясь на его бездеятельность и бесполезность для государства, на его моральную распущенность. В конкретных примерах из древности, которые приводит Фламиний, чтобы доказать независимость благородства от рода и богатства, общественный смысл благородства также выступает достаточно ясно.
Общественным содержанием наполнено понятие благородства и в речи Платины, хотя в отличие от Фламиния он не ссылается на личный опыт. Нравственное ядро человеческой души составляют у него четыре античные добродетели — справедливость, мужество, благоразумие и умеренность, проявляя которые в жизни, человек может стать благородным. В понимании этих добродетелей у Платины очень сильны социальные и деятельные мотивы. Так, он отмечает, что справедливость для человеческого общества важна так же, как душа для тела; справедливый отдает себя родине, заботится о сохранении ее законов, прав, обычаев. Человека справедливого почитают как бога, посланного с неба; добиться славы истинного благородства можно только, проявляя справедливость, без которой ничто не может быть похвальным (Plt., f. 64 г. — 64 V.). Мужественный человек, согласно Платине, стоек, умеет оставаться самим собой в любых обстоятельствах, приносит пользу обществу. В благоразумии для него важен деятельный элемент; отождествив мудрость с благоразумием, Платина, расходясь с Платоном и Аристотелем, тесно связывает созерцательную добродетель с практической, знание с действием (Plt., f. 66 г.). Вполне оправдано поэтому у Платины возвышение людей умственного труда (в отличие от Фламиния у Монтеманьо), деятельность которых общественно полезна; их благородство для Платины неоспоримо и даже более значимо, чем благородство прочих людей.
В отличие от Фламиния и Платины Никколи у Поджо настаивает на самодостаточности и личной ценности добродетели, а следовательно, и благородства как таковых; в целом гражданские мотивы у него выражены гораздо слабее. Однако в конце диалога под влиянием критики самодовлеющей добродетели оппонентом и Никколи отметит общественную пользу благородства. Он признает благородство государственных деятелей, пекущихся о благе государства, при условии их высокой нравственности, но к ним приравняет в благородстве ревнителей добродетелей и чести, ученых-философов, общественную ценность деятельности которых он, как и Платина, особо подчеркивает: «Я назвал бы не только благородными, но и благороднейшими, сколь бы ни удалялись они [от общества], также философов и ученых мужей, которые своими занятиями и бдениями совершенствовали человеческую жизнь с помощью различных искусств и которые своими Писаниями принесли нам пользу в устроении нравов и изгнании пороков» (Pg., f. 31 v.).
Мы вправе, таким образом, заключить, что во всех трех сочинениях у защитников «традиционного» взгляда достаточно ясно подчеркивается общественное содержание благородства; благородство как слава и признание основано на деятельности, полезной обществу, а предпосылкой такой деятельности служит высокая нравственность человека, его добродетели.
Развиваемый сторонниками «гуманистической» концепции взгляд на благородство является основой для критики ими наследственного и связанного с богатством благородства. Поскольку благородство добывается собственными усилиями, то невозможна его передача по наследству, поэтому «всякий, похваляясь [славой] рода, возвещает о чужой, а не о собственной славе» (Рг., р. 150). Потомки могут получить от славных предков кровь, кости и внутренние органы, но не благородство: оно заключено в душе и по наследству не передается (Plt., f. 61 v.). Невозможность передачи благородства от родителей к детям доказывается примерами отхода детей от славной жизни родителей. В этих примерах, как и в других, подтверждающих общественно-полезный смысл благородства, сильны гражданские ноты: приведены случаи именно общественных преступлений детей — государственной измены, участия в заговоре, расхищения общественных денег, а также моральной распущенности. Родители, прославившие государство, противопоставляются детям, ставшим позором для него. Подобные граждане государству не нужны, и если бы родители увидели своих детей такими, то они, пожалуй, отреклись бы от них или предали их смерти, как это сделали когда-то Брут, Кассий, Торкват (Рг., р. 150; Plt., f. 60 v.).
В критике наследственного благородства Платиной примечательны антифеодальные, выпады. Он порицает тех, кто считает благородным ничего не делать, облачаясь в праздничные одежды, пьянствуя и похмеляясь, нося золотые шпоры, украшая пальцы драгоценными камнями, умащая себя благовониями. Все это к благородству не имеет никакого отношения, равно как и атрии, заполненные изображениями предков, портики, украшенные знаками отличия и картинами (Plt., f. 59 г.—59 v.).
И Фламиний, и Платина наряду с родовитостью отвергают и богатство как источник благородства. Ведь благородство, основанное на добродетели, не подвержено никакой случайности, а богатство — это благо, достающееся человеку по прихоти судьбы и случая (Рг., р. 154; Plt., f. 61 v.). Поэтому благородство вполне совместимо с бедностью, что подтверждают примеры добродетельных мужей древности. Бедность Марка Агриппы, у которого не было имущества, подлежащего обложению, Валерия Попликолы, похороненного на общественный счет, Сципиона, не имевшего приданого для дочери, и других не помешала этим людям стать славными и благородными (Рг., р. 152; Plt., f. 62 г.— 62 V.). Платина в отличие от Фламиния у Монтеманьо всячески возвышает бедность и даже утверждает, видимо, в пылу спора, что истинно благородные — бедняки, презревшие блага судьбы и легко подавляющие все страсти.
И при бедности возможна щедрость как неотъемлемая черта благородства. Однако Фламиний, утверждающий это, понимает щедрость не только как раздачу собственных денег или имущества — такая щедрость ограничена рамками состояния; высшая же щедрость имеет общественный характер: это защита родины, расширение ее границ, помощь друзьям и согражданам, когда занимаешь общественные должности (Рг., р. 152-154). Платина повторяет эти мысли, восхищаясь щедростью древних, которые свято и честно действовали на общественном поприще. Ссылаясь на Платона, он говорит о четырех возможностях быть щедрым — с помощью денег, трудов, наук, речей в суде. Щедрость с помощью денег ценится им ниже всего, ибо деньги могут исчезнуть, и тогда — конец щедрости. А тот, кто приносит пользу трудом, советом, используя общественные должности, день ото дня становится тем щедрее, чем более имеет заслуг перед многими. Велика и щедрость ораторов: об их пользе говорят сами за себя речи Цицерона, Гортензия, Демосфена, с помощью которых часто удавалось вырвать бедняков из пасти могущественных людей. Но выше всего та щедрость, которая проистекает из наук и образованности, ибо исчезают деньги, меняются по воле властей должности, пренебрегают речами ораторов, а приобретенная мудрость устойчива и постоянна (Plt., f. 62 v.—63 г.). И для Платины она общественно значима. Аналогичное желание подчеркнуть ценность интеллектуального труда мы уже наблюдали в речи Никколи у Поджо; в сущности это позиция всех гуманистов, только раннему периоду гуманизма, видимо, более свойственно возвышение такого труда в синтезе с общественной деятельностью (это отражает труд Монтеманьо), а несколько позже появляется стремление подчеркнуть его самостоятельную ценность (здесь Поджо и Платина солидарны).
В отличие от Фламиния у Монтеманьо Платина обсуждает и тему щедрости как раздачи денег, затрагивая при этом вопрос о великодушии (magnificentia). Все это — частная благотворительность, предполагающая наличие больших богатств. Платина настаивает на разумном характере такой благотворительности (надо принимать во внимание время, основание для благодеяния, достоинство тех, кому оно оказывается, и т. п.), на ее общественном значении; на примерах из древности он показывает ее общественную пользу и в то же время предостерегает от вреда, который она может причинить, когда, например, тираны, отбирая имущество у законных владельцев, одаряли своих сателлитов и рабов. Великодушие богатого человека проявляется в строительстве театров, храмов и других зданий на пользу общества. Но и щедрость, и великодушие, замечает Платина, всего лишь покровы благородства, но не его nervos et colores (Plt., f. 64 v.). И тем не менее и это заявление, и восхваление бедности не мешают Платине признать личное богатство (и в этом он приближается к Орсини), хотя он и стремится подчеркнуть его общественное назначение.
Наиболее последовательно, глубоко и оригинально критика благородства дана в речи Никколи у Поджо; по сравнению с этой критикой позитивная часть речи Никколи выглядит слабее. Он критикует общераспространенные представления о благородстве, развенчивает, опираясь на доводы разума, само понятие «благородство» и опровергает мнение Аристотеля о благородстве.
Никколи исходит из того, что в его времена представление о благородстве повсюду разное. Обращаясь к опыту своей эпохи, он блестяще показывает различие представлений о благородстве у неаполитанцев, венецианцев, флорентийцев, генуэзцев, англичан, французов и др. За основу благородства принимаются то праздность и бездействие, то занятия сельским хозяйством, то торговля или военное дело. Но благородство, полагает Никколи, должно иметь разумное, устойчивое основание, быть одинаковым для всех и не зависеть от того или иного обычая (Pg., f. 26 г., 27 г.). Он последовательно отвергает такие общепринятые основания для благородства, как праздность, занятия торговлей, ремеслом, сельским хозяйством, богатство, должности, звания, древний род, так называемые благородные занятия, военные звания (Pg., f. 27 г.—27 V.). В его критике сильны антифеодальные ноты. Вот как, например, он говорит о неаполитанских дворянах: «Неаполитанцы, выставляющие в отличие от других напоказ свое благородство, видимо, полагают его в бездействии и праздности. Ведь только бездельники и празднолюбцы ведут жизнь за счет своих имений, сидя без дела и зевая. Благородным непозволительно прилагать старание в сельском хозяйстве или изыскивать собственные выгоды. Они расточают время, пребывая в безделье в атриях или прогуливаясь верхом на лошади. Даже если они бесчестны и глупы, то и тогда считаются благородными, поскольку происходят из старинных родов. Торговле как самому позорному и низкому занятию ужасаются. И до такой степени они чванятся своим благородством, что любой нуждающийся и бедный из них скорее умрет от голода, чем выдаст свою дочь за торговца, даже богатейшего. Они предпочитают заниматься воровством, нежели жить честным заработком» (Pg, f. 26 г.). Характерна отношение Никколи и к так называемым благородным занятиям: «Охота праздных бездельников на птиц и зверей так же отдает благородством, как благоухают логова зверей, ловлей которых они забавляются. Им было бы лучше заняться сельским трудом по примеру некоторых добродетельных мужей древности, чем в безумстве и исступлении рыскать по рощам и ущельям наподобие зверей» (Pg., f. 27 v.). Никаких военных заслуг и никакого благородства не находит Никколи у современных ему рыцарей. Некоторые, замечает он, носят на одежде знаки рыцарского достоинства, чванятся этим, а к военной службе не имеют отношения. «Но бездеятельным и далеким от всякой рыцарской службы [людям] никакая золотая шпора не принесет больше благородства, чем медная, никакая золотая перевязь для оружия не облагородит их больше, чем серебряная» (Pg., f. 28 г.). А относительно пожалования государя как источника благородства он скажет, что благородство не приходит извне, но происходит из собственной добродетели, а она не числится среди милостей государя. Вывод, к которому приходит Никколи, звучит уничтожающе: «Это ваше благородство — всего лишь некий блеск и пустое чванство, выдуманное людской глупостью и тщеславием» (Pg., f. 28 г.).
Углубляя аргументацию, Никколи показывает далее несостоятельность понятия благородства с точки зрения разума. Он искусно пользуется формально-логическими доводами, заключая, что благородство «ничего из себя не представляет, кроме пустого самохвальства», превращающего людей в безумцев; только это и надо учитывать, чтобы понять, «почему эта пустая сказочка до сих пор не устарела» (Pg., f. 28 г.—28 v.).
И наконец, Никколи отвергает мнение Аристотеля о благородстве. Авторитет Стагприта его не смущает: никакой авторитет не может помешать говорить то, что кажется ему ^истиной (Pg., f. 28 v.). Никколи уличает Аристотеля в противоречиях и объясняет это так: в «Этике», где Аристотель говорит то, что думает, он связывает благородство с добродетелью, а в «Политике», не следуя собственному убеждению и примыкая к общему мнению, он называет источником благородства добродетели и богатства предков (Pg., f. 28 v.). Но богатство как внешнее благо, зависящее от прихоти судьбы, не может быть, по мнению Никколи, источником благородства. К тому же оно делает человека высокомерным, властолюбивым, распущенным, что понимал и сам Аристотель (Pg., f. 30 г.). Несостоятелен и тезис Аристотеля о добродетели предков как источнике благородства потомков: ведь добродетель состоит в деятельности, а деятельность относится к действующему лицу, поэтому благородство принадлежит тому, кто сам упражняет добродетели (Pg., f. 29 г.). Эти соображения Никколи подкрепляет примерами из истории бедных, но прославленных мужей древности, а также примерами детей, отошедших от добродетели и славной жизни предков.
Критика Аристотеля перерастает у Никколи в полемику со взглядами, связывающими благородство с другими внешними благами помимо богатства. Он отвергает звания, почести, должности, триумфы как источники благородства; они несут с собой известность и словно бы тень славы. А род, место рождения, предки для него как бы трактирные вывески, указывающие, где продаются вина, но ничего не добавляющие к их сладости (Pg., f. 30 г.). Но вслед за этой деструктивной работой Никколи, опираясь на воззрения Сенеки, начинает обосновывать положительную точку зрения на благородство как проистекающее из добродетели.
В целом в позиции защитников «гуманистического» понимания благородства можно обнаружить ряд общих черт. Все они говорят о происхождении благородства из добродетели и отвергают его связь с богатством, родом и другими внешними благами, настойчиво утверждают роль собственных усилий как пути достижения добродетели, а значит, и благородства, подчеркивают общественный смысл благородства; примечательны в их позиции (у Никколи, Платины) антифеодальные выпады, особенно против праздности, роскоши, спеси феодалов.
Сторонники «традиционной» позиции (Публий Сципион у Монтеманьо, Медичи у Поджо, Орсини у Платины) связывают благородство с древним родом, с предками, исполнявшими в государстве высокие должности и бывшими в почете. Другим источником благородства признается богатство, выступающее как равноправный с родом фактор, даже если оно называется порой необходимым дополнением, украшением благородства (Кор., с. 60-61; Plt., f. 55 г.). При этом сторонники «традиционного» взгляда ссылаются не только на книжные авторитеты, но и на «общераспространенное мнение о благородстве и всеобщий здравый смысл», на «народ, обладающий в делах такого рода очень большим авторитетом» (Pg., f. 25 v.); мнение народа подается без оттенка пренебрежения в отличие от сторонников «гуманистической» позиции (Рг., р. 152). Подобные попытки представить свою точку зрения как общезначимую, заручиться поддержкой большинства известны в гуманистической литературе; вспомним хотя бы Валлу с его защитой наслаждения как всеобщего человеческого стремления.
Публий и Орсини утверждают, что благородство передается по наследству вместе с физическими свойствами. Унаследованные качества укрепляются семейными привычками, воспитанием, памятью о славных предках (Кор., с. 60; Plt., f. 55 v.). Главнейшее среди этих качеств у Орсини — жажда славы, которая является высочайшим видом благородства. Ссылками на примеры древних Орсини подчеркивает общественный характер славы: римляне, помещая статуи предков на форуме, стремились к тому, чтобы юноши, видя и читая на постаментах записи о славных деяниях, подражали славе героев и не отвергали ради спасения и достоинства родины никакой труд и никакую опасность (Plt., f. 55 v.). Гражданские ноты в этой аргументации усиливаются и другим доводом: сами родители ни о чем другом не мечтают, как оставить родине сыновей, подобных себе, чтобы родина — всеобщая родительница — могла воспользоваться их трудами как дома, так и вне его. Кроме того, родители видят в детях продолжение самих себя, и от этого в них такая любовь к потомкам, забота об их воспитании, пылкое побуждение их к славе, соучастниками которой родители надеются стать (Кор., с. 60; Plt., f. 55 v.). К подобным аргументам прибегает и Медичи у Поджо. И он говорит о славе рода, делающей знаменитым потомка, о воспитательном воздействии изображений славных предков, триумфов и т. п., о желании родителей остаться жить в детях после своей смерти (Pg., f. 30 г., 31 г.).
Другой важный источник благородства — богатство — составляет, по мысли сторонников «традиционной» позиции, условие самого существования благородства. «Сколько лучших мужей становились презренными и жалкими из-за отсутствия состояния»,— говорит Публий у Монтеманьо (Кор., с. 61). А Орсини соглашается с античным поэтом, писавшим, что «нелегко поднимаются те, добродетели которых препятствует бедность дома» (Plt., f. 56 v.). Ссылаясь на Аристотеля, Орсини утверждает, что человек при отсутствии у него состояния не может сделать ничего славного. Поэтому ради благородства надо стремиться к богатству, чтобы из-за недостатка средств человек не отстранялся от свершения деяний (Plt., f. 56 г.—56 v.). Богатство, полагает Медичи, поддерживает славу дома, сохраняет множество друзей, позволяет быть щедрым и великодушным, осуществлять благодеяния. В военное и в мирное время, когда у общества возникает необходимость в деньгах, благодаря богатству можно приобрести славу, из которой рождается благородство (Pg., f. 29 v.). Орсини приводит примеры из истории своего рода, когда его семья с помощью денег помогала решать вопросы войны и мира; он полагает, что его род не имел бы столько славных мужей, если бы презирал богатство (Plt., f. 56 v.). Признавая общественное назначение личного богатства, Орсини несомненно приближается к Платине.
Медичи еще сильнее, чем Публий и Орсини, подчеркивает социальную и гражданскую ценность богатства и в отличие от Орсини говорит о связи его и добродетели. В этом Медичи полностью согласен с Аристотелем, полагавшим, на его взгляд, что «для целей тех добродетелей, на которых основывается гражданская жизнь, необходимо состояние, которым добродетельный человек воспользуется благоразумно. Поэтому Аристотель и считал, что для облагораживания человека с добродетелью должно быть соединено богатство» (Pg., f. 30 г.). Богатство, рассуждает Медичи, само по себе не благо и не зло, все зависит от способа его использования. Попадая к доброму человеку, богатство прославит его и как бы выведет в бой, в котором засияют его добродетели. Он воспользуется богатством как орудием и, «практикуя добродетели, с необходимостью обратит богатство на поддержку друзей, на благотворительность, на защиту родины. Без богатства добродетели будут бессильны и слабы и их невозможно будет проявить. В самом деле, какую поддержку доставит мне в повседневной жизни щедрость стоиков? Ведь их добродетели состоят в душевном аффекте, а не в действии» (Pg., f. 30 г.). Итак, богатство у Медичи способствует проявлению добродетели, служит как бы материальным основанием ее, одной же добродетели для благородства мало.
Помимо богатства Медичи признает важными для благородства род, родину, а также такие признаки, как атрии с изображениями предков, портики, театры, зрелища, устраиваемые для народа, охоту. И хотя он утверждает, что потомки могут сохранить или утратить благородство в зависимости от того, сохранят они или утратят добродетели и наследие предков, все же, признавая, что благородство родителей переходит к детям, он склонен назвать благородным и того, чья добродетель себя еще не проявила. Сравнивая человека, украшенного добродетелью в небольшой степени, но происходящего из знаменитой семьи, с тем, кто происходит от безвестных предков, имевших различные добродетели, Медичи отдает предпочтение первому. Первому дорога к славе открыта заслугами предков, и слабый блеск его личных добродетелей станет ярче благодаря добродетелям предков; второй же будет с трудом продвигаться к славе по непроторенной дороге. Первый удерживает славу малым трудом; второму, борющемуся с безвестностью, для возвышения и достижения славы, из чего проистекает благородство, потребуется долгое время, напряженная работа, трудолюбие (Pg., f. 31 г.—31 v.). Медичи, как видим, не закрывает пути для второго, который тоже может подняться из безвестности к благородству, хотя и с большим трудом, чем первый. Значит, ценность личных усилий признается Медичи, но для него важнее обеспечить и удержать уже завоеванные позиции семьи, рода. Благородство для него — это видное место в обществе, известность, которые зиждутся на богатстве и славе фамилии; благородство как внутренняя ценность личности отодвигается на второй план, роль добродетели в нем, или своеобразного морального контроля, ослаблена, хотя Медичи и заявляет о связи добродетели и богатства. Естественно, что при таком понимании благородства Медичи может только критиковать самодовлеющую добродетель стоиков: «А эта твоя, Никколи, стоическая добродетель беззащитна, бедна и живет она не в городах, а, видимо, населяет пустыни и уединенные места; хотя многие ее хвалят, мало, однако, тех, кто стремился бы к ней. И сколько бы ни хотели они (стоики. — Н. Р.) от одной лишь добродетели вести благородство, они должны, однако, признать, если не бегут от гражданской жизни, что добродетель нуждается во многих опорах, таких как здоровье, богатство, родина и прочие вещи, в которых господствует судьба. Если же людская жизнь будет лишена их, то, право же, замерзнет и ваша добродетель, словно одинокая и бедная, и не послужит ни людскому сообществу, ни общей пользе, а рожденное из нее благородство окажется каким-то деревенским (rustica), лишенным всего благородного. И действительно, каким благородством будет обладать хотя бы философ, который, довольствуясь своими занятиями, скроется в библиотеке, неизвестный даже самому себе,или тот, кто, живя трезво, благочестиво, непорочно, мудро, проводит жизнь, удалившись на жалкую виллу, не прославленный людской молвой, неизвестный по имени. Я могу согласиться, что он обладает добродетелью, но никакого благородства у него нет; назову его ревностным в добродетели, но не благородным. К такому благородству стоиков немногие стремятся, еще меньшие достигают его. Я же стремлюсь к тому благородству и то одобряю, которое уже давно утвердил людской обычай» (Pg., f. 31 v.). Так Медичи, с таким же энтузиазмом, что и Никколи, спорящий с Аристотелем, развенчивает стоический идеал как общественно бесполезный. Вот тогда-то и вводит Никколи в свое суждение о добродетели и благородстве критерий общественной пользы, делая в этом шаг навстречу Медичи.
Итак, у защитников «традиционного» благородства достаточно ясно звучат гражданские ноты, признается социальная функция богатства как одного из источников благородства, высоко оцениваются роль славы как стимула для благородства, крепость родственных связей, забота о сохранении семьи и ее роль в обществе, взгляд на детей как на продолжателей жизни и славы родителей; характерно и стремление представить подобный взгляд как общезначимый.
К какому же итогу мы приходим? Какое социальное толкование можно дать спорам гуманистов о благородстве?
Гуманистические диалоги о благородстве отражают сложную социальную ситуацию итальянского общества переходной эпохи. Сопровождающая появление новых раннекапиталистических элементов социальная ломка традиционных отношений, возникновение новых социальных слоев, связанных с торгово-предпринимательской деятельностью, выход на историческую арену новой интеллигенции и ее самоутверждение объясняют рождение в идеологии представлений о личной ценности человека и о его общественном достоинстве, о том, чего человек может добиться усилиями в разных видах деятельности. Отсюда возникает идея самоценности добродетели и рожденного из нее благородства. Это один из видов благородства («гуманистический»), ясно и четко выраженный в диалогах. С позиций такого понимания благородства резко критикуется феодальное благородство как узаконенное право на праздность, роскошный образ жизни, на так называемые благородные занятия (охота и др.), высмеиваются спесь и чванство феодалов.
Благородство в понимании, свойственном сторонникам «традиционной» позиции, полностью не совпадает с феодальным. Гражданские и социальные идеи у защитников этой позиции, взгляд на богатство, славу, семью и детей — все это идеи и аргументы гуманистической окраски, встречающиеся у Бруни и Пальмиери, Манетти и Филельфо и у других гуманистов. В своей совокупности они придают «традиционному» пониманию благородства социальный и деятельный смысл, что отделяет это понимание от феодального. Поэтому можно говорить еще об одном взгляде на благородство, который вырисовывается в диалогах. Благородство, связанное с богатством и родом, — это новое благородство тех торгово-предпринимательских кругов, которые в XV в. уже заняли в итальянском обществе ключевые посты. Влиятельные в экономическом отношении и игравшие в обществе руководящую политическую роль семьи были заинтересованы в собственном укреплении и передаче наследникам завоеванного когда-то собственными усилиями и усилиями дедов и прадедов положения. Однако процесс социальной ломки в итальянском обществе не прекратился. В силу незавершенности социальных процессов, в силу социальной подвижности и понятие благородства в идеологии остается открытым.
Существование ростков новых раннекапиталистических отношений в плотном феодальном окружении и неизбежное в этих условиях сближение ранней буржуазии и феодалов, брачные связи, приобретение земельных участков, видимо, тоже как-то влияли на представление о благородстве как общественном положении, связанном с родом и богатством, и уж во всяком случае были благоприятной почвой для жизни этого старого понятия, хотя и наполнявшегося новым содержанием.
В сущности в диалогах оба понятия благородства (основанное на высоких личных добродетелях и личных усилиях и связанное с богатством и родом) как бы движутся навстречу друг другу. Только Монтеманьо разводит эти понятия, но его работа, возможно, не завершена. У Поджо оппоненты Медичи и Никколи приближаются друг к другу благодаря признанию социального характера благородства. У Платины эти понятия сближаются и в самом диалоге, и в предисловии к нему, где неразрывно связаны добродетель, гражданское благополучие и благородство (Plt., f. 52 v.).
Итак, гуманистические диалоги о благородстве отвергают феодальное его понимание, разводят «гуманистическое» и практическое («буржуазное») благородства, чтобы вновь сблизить их или свести в относительном синтезе, пронизанном мыслью о решающей роли социального начала в нем. Поэтому в итоге надо, видимо, говорить не о двух благородствах, а об одном, где есть место и гуманистической добродетели, и буржуазному богатству, но где и то и другое должно служить социальным началам — обществу и человеку.
Л-ра: Культура эпохи Возрождения. – Ленинград, 1986. – С. 201-217.
Критика