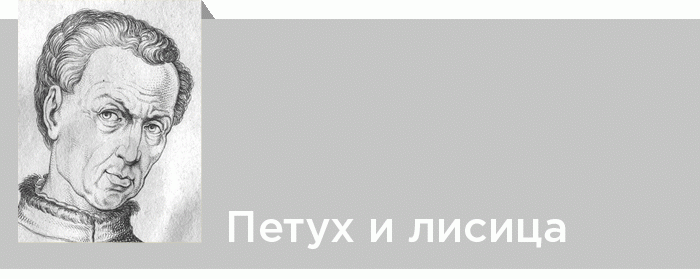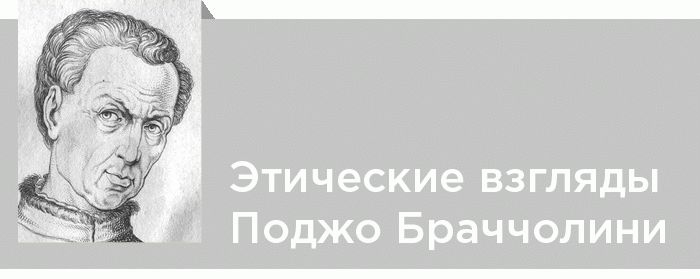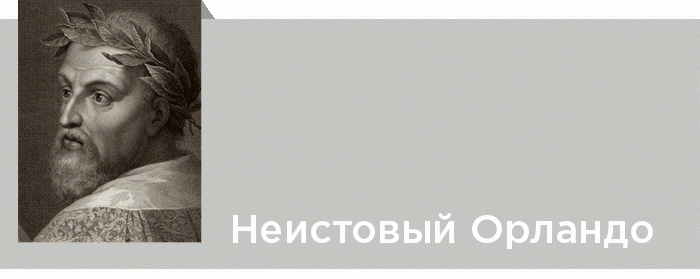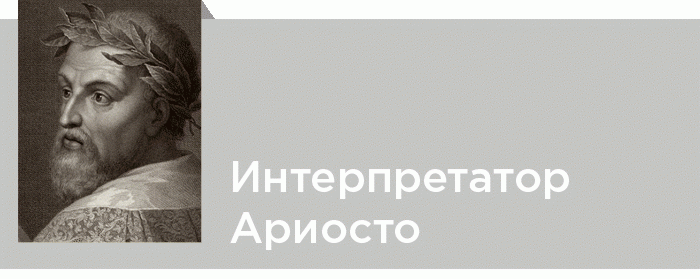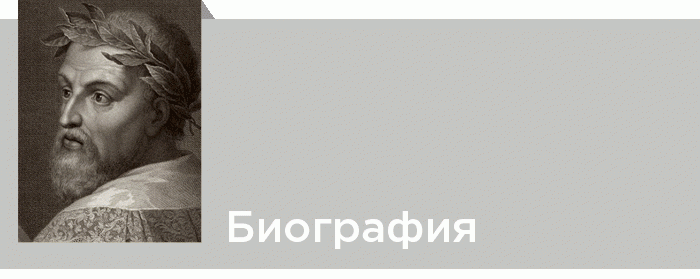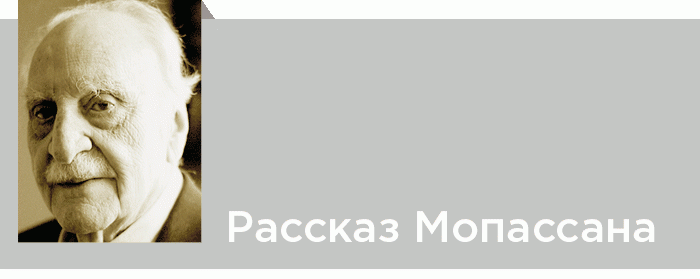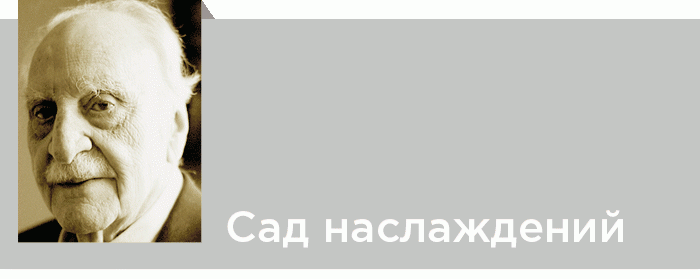Ренессансный миф о человеке

Л. Баткин
[…]
Откуда берется неиссякаемая увлеченность, с которой Ариосто рисует приключения своих персонажей, охваченных любовным или воинственным пылом, и в какой мере всерьез он относится к изображаемым чудесам? Это трудно понять современному читателю. Добрые феи и людоеды, великаны и карлики, заколдованные замки и летающие кони кажутся теперь однообразно-замысловатой оперной бутафорией.
Литературоведение, XIX века; увидело в фантасмагориях. Ариосто чистейший артистизм, игру самодовлеющих прекрасных форм, оттенённую комическим элементом. С этой точки зрения Ариосто серьезен лишь потому, что для художника нет ничего серьезней переливов его воображения, а его улыбка призвана напомнить, что перед нами разворачиваются события, обладающие смыслом только для беззаботного эстетического чувства. Де Санктис пояснял: «То, что Ариосто стоит над своим миром, держит в руках нее нити и управляет ими по своему желанию и рассматривает свой мир только как создание воображения, порождает причудливость и юмор. Однако поэт часто поддается своему воображению, забывается в этом вымышленном мире и придает ему законченность. Благодаря этому юмор принимает форму иронии и вы оказываетесь в неясной и все время меняющейся, обстановке...»
Никто лучше Де Санктиса не выразил ошибочного ощущения, производимого поэмой спустя несколько веков, когда тайна этого цельного мироощущения забыта, и мы пытаемся оценить аналитически то, что родилось, не ведая антиномии истины и воображения. Для нас вера в чудеса давно стала всего лишь суеверием. Знание и здравомыслие оттеснили ее в область атавистических эмоций (примерно так в Англия прошлого века относились к привидениям: соглашаться с их существованием неприлично, но забыть о них невозможно, о доме с привидениями положено, говорить шутливо, хотя продать его затруднительно).
Однако во времена Ариосто волшебство еще не было атавизмом. Оно, разумеется, продолжало жить в простонародном сознании, но также переосмысливалось сознанием просвещенным. Это была эпоха — в равной и внутренне однородной мере — технических изобретений и машин, географических открытий и утопий, когда художники увлекались математикой, а математики мыслили художественно. Ренессанс плохо различал вероятное и невероятное: не потому, что пренебрегал этим различием, а потому, что никто не мог бы сказать, где оно пролегает. Невероятным, например, считали (вслед за античностью) существование антиподов. Но оказалось, что антиподы, все же существуют. Были, невероятными: вращение земли, гелиоцентризм, бессчетность солнц, поражали нравы инков и ацтеков, и мощь аркебузы, и движение магнитной стрелки, и пророчества Савонароллы, и печатный станок, и гороскопы, и гений Микеланджело, и космос неоплатоников. Все было невероятным, однако же многое подтверждалось и свершалось воочию. Поэтому часто казалось: все возможно. Но этим ли чувством пронизаны чертежи и рисунки Леонардо, как, впрочем, и его живопись?
Границы мира непрерывно раздвигались, потому-то никто не решился бы установить их, определенно. Каждый час можно было ожидать ошеломляющих вестей.
И ариостовская Андроника восклицала:
«Но вижу я с годами: отплывают
От самой крайней западной земли
Язоны новые и открывают
Пути, которых раньше не нашли...
Другие уплывают за пролив,
Геракловыми созданный трудами,
И совершая круг за солнцем вслед,
Находят новый край и новый свет».
(Перевод А. Курошевой.)
Вот отчего вопрос: верит ли Ариосто в своих чародеев, гиппогрифов и пр.— нельзя ставить слишком однозначно. Конечно, Ариосто не настаивает на доподлинности деталей, но он ничуть не скептичен в отношении к самой стихии волшебства. Он как бы говорит: пусть то, о чем я рассказываю, вымысел, пусть этих чудес не было, но вообще-то на свете возможны всякие чудеса, вообще-то жизнь — Великое Приключение, и я подчас не знаю, что и думать о моих сказках...
Средневековье воспринимало колдовство буквально и до конца всерьез, у писателей нового времени — у Гофмана или Гоголя, Андерсена или Эдгара По — это только художество. У Ариосто, пожалуй, ни то, ни другое. Он далек и от доверчивости средневековья, и от новоевропейского аналитизма. Между фантастикой и серьезностью у него нет четкой грани.
Средневековье ожидало чуда, потому что нет ничего невозможного для бога; Возрождение допускало чудо именно потому, что безоглядно и восторженно утверждало земную реальность. Ибо нет ничего невозможного для человека, и природа — мать всяческого волшебства. Неоплатонический пантеизм, натурфилософская магия, кабалистическая математика, героическое искусство, идиллическая и приключенческая поэзия возникли из одной социально-психологической почвы.
Через сто лет после Ариосто будет сказано: «Есть много такого, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». В завязке шекспировской трагедии все очень взволнованы при появлении загробного призрака, но ничуть не удивлены. Волнует не то, что это призрак, а неизвестность недоброй причины, заставляющей его бродить по ночам. Теперь режиссеры ломают головы, как решить условные сцены с Гамлетом-стариком. Однако для Шекспира это не простая условность, как и ведьмы в «Макбете», или «Буря», или ариостовский по настроению и грации «Сон в летнюю ночь».
Волшебство для Возрождения нечто большее, чем литературный прием, это мироощущение, которое прокатывается через XVI век, и если его язык еще внятен Шекспиру, то Ариосто в его эпицентре. Даже «Дон Кихот» свидетельствует об очаровании приключенческого и магического мироотношения, которое Сервантес стряхивает с себя неохотно. Насмехаясь над «рыцарскими» романами, Сервантес расстается не столько со средневековыми суевериями, сколько с ренессансными иллюзиями. Ариостовский Орландо превратился в рыцаря Печального Образа, его гротескно-мощная и космичная ярость — в жалкое сумасбродство провинциального дона. Алонсо, конь Боярдо — в клячу Россинанта, орландовский шлем — в бритвенный тазик.
Что до средневекового рыцарского духа, то здесь Сервантес не опровергает Ариосто, а скорей завершает его. Де Санктис был прав, когда отмечал, что хотя Ариосто не ставил своей целью осмеяние рыцарства, он еще менее собирался его воспевать. Сфера рыцарских сюжетов (перемешанных с античными мотивами, с простонародными преданиями, вобравших весь известный тогда литературный материал) привлекла Боярдо, Пульчи, Ариосто не из-за какой-то приверженности к феодальной идеологии и не потому, что при итальянских герцогских дворах, в урбанизованной дворянски-бюргерской среде можно было наблюдать куртуазные нравы, имевшие, впрочем, уже мало общего со средневековьем (о чем свидетельствует книга Кастильоне «Придворный»). Миф рыцарства был оживлен и преобразован Возрождением, ибо «вызывал интерес не своими идеалами, а свежестью, разнообразием и необычайностью происходящих в нем событий». Возрождение оценило в нем не сословные традиции, а — на собственный лад — «свободную инициативу индивида», «так что недаром сюжетные линии называются приключениями, а рыцари — странствующими». Героика ренессансного рыцарского романа — это, что делает каждого рыцаря свободным человеком, добровольно подчиняющимся только законам любви и чести, то есть законам, которые он сам для себя установил.
Внешне в «Неистовом Орландо» мало следов какой бы то ни было исторической реальности и общественной проблематики. В нем нет проектов будущего. В нем вообще нет как будто серьезной идеи. Но дубинные свойства ренессансного мироотношения заключены в самой композиции и звучании стихов.
В этой необозримой поэме с двумя сотнями персонажей, в калейдоскопе сюжетных линий, то, на что в данный момент падает с обдуманной случайностью взгляд автора, отдельные эпизоды не могут быть поданы вполне серьезно. Без намеренно небрежной ироничной интонации этот хаос застыл бы, но он должен быть подвижным, все дело в мгновенных переходах от одного незавершенного события к другому, в нескончаемой вязи приключений.
У Данте сюжет «Комедии» двигался через множество остановок к неуклонной цели, наращивая мысль вверх, только вверх. Восхождение к полной истине, к богу совпадало и с восхождением сюжета, и с топографией загробных царств, так что флорентиец, даже спускаясь в воронку Ада, тем самым поднимался к подножию Чистилища. Сюжет «Комедии» строго пирамидален — как гора очищения — и завершается в ослепительной световой точке финала.
У Ариосто же — сюжет, кружащийся по прихотливой спирали.
Цель, конечная мысль, финал не имеют значения. Это perpetuimi mobile. Если поэма все же заканчивается, то лишь потому, что нужно же ее когда-нибудь закончить. Она обрывается на полуслове, на очередном поединке, в котором Руджьеро убивает Poдомонте. Но она может быть закончена иначе или тут же продолжена - подобно тому, как сам Ариосто продолжил Боярдо.
Поэтому, как уже было сказано, Ариосто необходима «ирония», которая гонит вперед волны октав. Амбивалентная интонация соответствует текучести действия. Ирония очуждает его ровно настолько, насколько это необходимо, чтобы провести сквозь хаос бдительную волю художника; чтобы сделать этот хаос тонко рассчитанным, а беспорядок мнимым, чтобы поставить в центре автора и с ним вместе читателя, чтобы выделить этот центр. Очуждение не разрушает мира приключений, а лишь отодвигает на необходимое расстояние, с которого его можно ясней рассмотреть.
И вот действие, как волшебник, «то в звездные возносится чертоги, а то земли касается порой». Оно вырывается на простор, мгновенно перелетает материки, уничтожает границы пространства и времени. Оно подобно одному из героев поэмы Бирену, который поднимает паруса и спешит тайком уплыть от жены Олимпии, побуждаемый духом непостоянства. Гиппогриф, не которого неосторожно сел Руджьеро, вдруг унес его на Восток, на остров Альчины, превращающей пленников в ружья, деревья, зверей. Руджьеро приобрел все — и гиппогрифа, и кольцо, и Анджелику, и все по воле случая, и все потерял столь же случайно и мгновенно. «Ах, жестокая и неблагодарная судьба!» Рок швыряет ариостовских персонажей, как щепку прибой, но в поэме нет фатализма. Герои продолжают хотеть, добиваться, искать удачи — как бы помимо любых волшебств, разражающихся над ними. Поэтому несчастный случай сменяется счастливый или наоборот, герои окунаются в реку фортуны и плывут изо всех сил, по течению или против течения, но плывут. «Я пою смелые предприятия».
Запомнить фабулу «Орландо», по-видимому, свыше человеческий сил, Здесь все неустойчиво, все видимость и чары, все способно к метаморфозам.Дворец превращается в пар, пехота в конницу; воды арденнских источников внезапно возбуждают и отвращают любовь.
В этой изменчивости, в этом буйстве энергии, в этой игре страстей, в этой неутомимой феерии, в этом царстве случая, в этой погоне за славой и счастьем от песни к песне возникает Ренессанс, каким он хотел себя видеть и каким он, следовательно, хотя бы отчасти был.
Такие поэмы надо бы читать в Телемском аббатстве. Ариосто, как и художники Высокого Возрождения, создал идеализированный, бесконечно длящийся, захватывающий все силы Вселенной, фантастически-реальный мир, в котором человек ничем не стеснен и потому божествен.
Что это — «только мечты»? Какое отношение это имело к тогдашним будням? У самого Ариосто посреди идиллии иногда вдруг проглядывают гнев и боль, он оплакивает Италию, взывает к ее гордости, проклинает оружие. В начале XVI века расхождение между чаемым и реальным обострилось. Изящная гармония Ариосто свидетельствует об этом более косвенно, но не менее симптоматично, чем трагизм Микеланджело и горечь Макиавелли.
Эпоха никогда не соответствует своим идеалам, зато идеалы всегда соответствуют эпохе. Они принадлежат ей не только генетически, но и функционально. Некая действительная историческая тенденция должна в них мысленно разрастись до неузнаваемости, иначе она не будет узнана современниками. Тем самым идеалы служат критическим коррективом движения, давая возможность постоянно сопоставлять сущее и должное. Они оказываются также средством социализации смутных потребностей и желаний индивида, помогая каждому узнать эти свои личные и частные желания в возвышенно-очеловеченной форме, сквозь призму общественных ценностей.
Известно, что самосознание — онтологический факт, позволяющий процессу быть не естественным, а естественноисторическим. Существенное свойство разума состоит в умении вспоминать и забегать вперед, конструировать небывалое.
Всякая культура — в той или иной мере — сублимация. Это не делает ее менее реальной, чем экономика или политика. Перед нами человеческая действительность, недействительная вне идеологических отношений, вне мифов, иллюзий, целей и надежд, растворенных в конкретном облике исторической среды. Поэтому, если спрашивают, какова «объективная реальность» ренессансной эпохи, следует напомнить, что эта реальность обладала разными уровнями и значениями: реальны и сукнодельческие мастерские, и заговор Пацци, и цены на зерно, и «Весна» Боттичелли.
[…]
Культура оказывается богаче своих материально-эмпирических истоков. Не только поэтому, но и поэтому она, в качестве отражения этих истоков, дает во многом превратную и нуждающуюся в критическом анализе картину. Противопоставление исторической действительности и поэтических или философских конструкций справедливо в жестких гносеологических рамках, поскольку действительность рассматривается как нечто наперед заданное и наличное, а работа логики и воображения — как следствие и констатация. Оно несправедливо, если под действительностью понимать все, что относится к человеческой жизни, целостное бытие, движущее индивидов и движимое ими, не только условия духовного существования, но и само это существование. Тогда именно способность «отрываться от действительности» выступает как наиболее историческое и действительное качество культуры, которая насыщается энергией эпохи, но также преобразует эту энергию и в конце концов сама становится ее генератором. Иллюзии — следствие опыта, но лишь в самом широком смысле; ведь опыт это не слепок, а интерпретация. Опыт включает также способность выйти за его пределы. Цели возникают из неудовлетворенности сущим. Всякие цели поэтому иллюзорны, но только их осуществление или неосуществление дает новый опыт. Не будь в культуре ничего «иллюзорного», человечество все еще оставалось бы в каменном веке. Культура — способ, которым пользуется человечество, чтобы приподнять себя за волосы.
Конечно, направление и характер «отрыва» культуры от внешней реальности нельзя объяснить без учета импульсов и противоречий этой же реальности. Иными словами, соответствие культурных ценностей конкретной социальной почве подтверждается своеобразием их несоответствия, зависимость влияет на форму независимости. Любая фантазия противостоит своим будням.
Легче всего сказать, что Ренессанс сам себя выдумал, что поиски блаженной Аркадии ни к чему не привели, что в те самые годы, когда Ариосто писал своего «Орландо», Италия через кровавые потрясения двигалась к жалкому упадку. И все же эпоха успела дать личности ранее неведомую меру самодеятельности. Жизнь не стала счастливей, но она тронулась с места. Человеческие возможности выросли — только тогда началось ускорение этого роста, приведшее к чудесам XX столетия.
Было бы плоско усматривать в сказочности Ариосто предчувствие последующего прогресса, и не о том речь. Но следует признать, что «ложное» самосознание возрожденческой эпохи кое в чем подтвердилось в исторической перспективе. Ренессансу было свойственно очень свежее и острое желание добиваться счастья, и в этом смысле то была счастливая эпоха для культуры, для человечности, вопреки ее прозаической и жестокой изнанке. Изнанка есть у любой эпохи, но не у любой эпохи высшие духовные эманации были столь же жизненны. […]
В одной из «Сатир» Ариосто шутил, что не хочет жениться, потому что тогда он не сможет принять духовный сан, и не хочет принимать священство, ибо тогда он не смог бы жениться, ежели бы захотел. Он стремился сохранить возможность выбора. Этот человек, более всего дороживший семейным уютом, независимостью спокойного существования, менявший занятия (правоведение, двор, военная служба), желал делать то, что его радует в данную минуту. И он имел любимую жену, домик, сладостный otium, сопряженный с трудом поэта и садовника. Ему в конце концов повезло. Этого не скажешь о многих других. Но коренное свойство Ариосто, которое он назвал в молодости «mea mobilitasi», свойство времени, внушившего людям жажду движения, жажду открытости судьбы, — это свойство исчезло, а перешло в поэтическое вдохновение. Создавая «Орландо», Ариосто продолжал делать то же, что делали путешественники, купцы, тираны, кондотьеры, живописцы, все, кто стремился «открыть доселе неведомую дорогу».
Л-ра: Вопросы литературы. – 1971. – № 9. – С. 124-131.
Критика