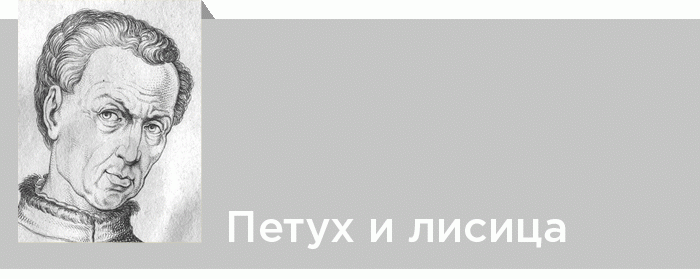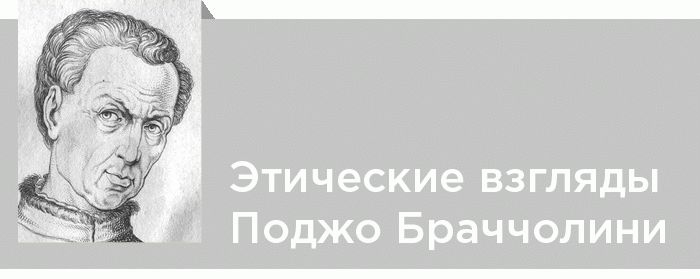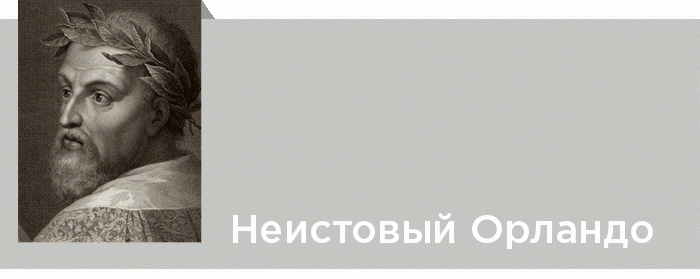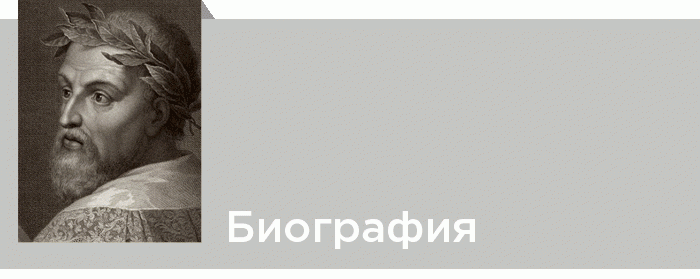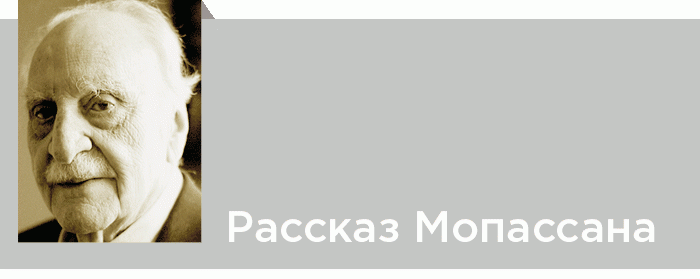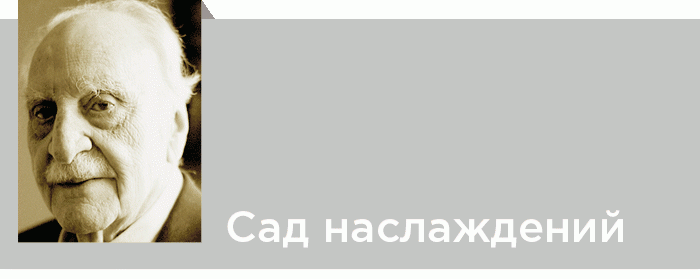Фрагонар как интерпретатор Ариосто
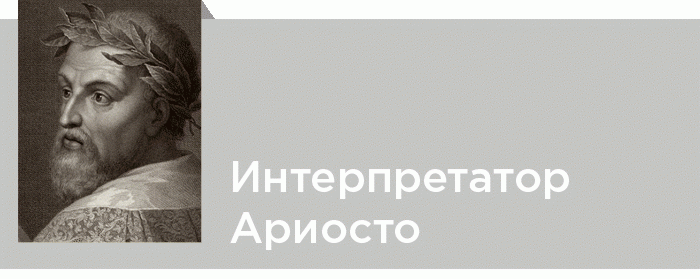
В. А. Мишин
При истолковании отдельного памятника историк имеет дело только с одним явлением искусства, в котором раскрывается вся породившая его культура, в ее индивидуальном, неповторимом преломлении. Серия рисунков Фрагонара к Ариосто — как самостоятельное произведение — обладает совершенно своеобразной поэтикой. Но категории и принципы этой поэтики так или иначе оказываются причастными к французской культуре XVIII века в целом. Более того, именно эта причастность к общему и придает единичному факту искусства как будто новое измерение и смысловую глубину. Правда, наш конкретный случай осложнен тем обстоятельством, что художник и поэт, которые вели между собой «диалог», принадлежали совершенно разным эпохам. Но в качестве предмета иллюстрирования итальянская поэма XVI века как бы включалась в новый культурный контекст. Вариант ее прочтения, предложенный Фрагонаром, — всецело плод «просвещенного столетия». Без сомнения, Фрагонар внимательно читал Ариосто. Именно поэтому было возможно определить сюжеты большинства рисунков. Но иллюстрирование для него — не «иллюминация» текста, а его активное переосмысление. Пользуясь языком своего искусства, художник берет на себя роль рассказчика. Созданная им графическая сюита — это его, Фрагонара, «Неистовый Орландо». Безусловно, дух поэмы был ему близок. В то же время в его интерпретации сказалось своего рода художническое актерство, сознательное подражание Ариосто. Не случайно в этом своем творении Фрагонар и похож и не похож на самого себя. Однако перевоплощение не было воссозданием исторически достоверного образа поэта; художник оставался в границах своего собственного мировоззрения. Проблема «Фрагонар как интерпретатор Ариосто» сводится, в сущности, к выявлению системы представлений, служившей как бы «призмой», сквозь которую художник смотрел на литературный источник.
В связи с этим требуется выяснить, как вообще воспринималось в эту эпоху произведение Ариосто. И при ближайшем рассмотрении оказывается, что «Неистовый Орландо» смог быть усвоен во Франции лишь постольку, поскольку ему нашлось место в существовавшей тогда системе жанров (хотя его смысл претерпел при этом неизбежную трансформацию). Именно с этой точки зрения надо подходить к проблеме «Ариосто в XVIII веке» и к иллюстрациям Фрагонара — в частности.
Говоря о системе жанров в XVIII веке, мы имеем в виду в равной мере и живопись и поэзию, ибо, как замечает Дюбо, «что справедливо для живописи, справедливо и для поэзии». Но это относится и к другим видам искусства. Разделение поэзии и живописи на жанры определялось в конечном счете сюжетом произведения. В системе классицизма каждый жанр имел вполне определенный, только ему подобающий круг сюжетов. Причем тот или иной сюжет должен был трактоваться в соответствующем его характеру стиле, иначе говоря, каждый жанр подразумевал определенный стиль изображения. Категория стиля занимала в эстетике XVIII века весьма существенное место. Дюбо употреблял выражение «Поэзия стиля» («Poésie du style»). Поэзия стиля в поэме, по его понятиям, — это то же самое, что выразительность в картине. «Поэмам различных жанров, — пишет Дюбо, — присущи свои особенности в Поэзии стиля». Понятие «стиль жанра» («genre de style») весьма последовательно разработано в эстетике Вольтера. По этому поводу он говорит: «Как стиль исполнения, избираемый художником, зависит от предмета изображения, как отличается стиль Пуссена от стиля Тенирса, архитектура храма от архитектуры жилого дома и музыка оперы-трагедии от музыки оперы-буфф, точно так же каждому роду словесности свойствен особый стиль и в прозе и в поэзии». «Совершенное искусство, — продолжает Вольтер, — в умении сообразовывать стиль с предметом изображения» (курсив везде мой. — В. М.). Именно взаимоотношение сюжета и стиля составляет механизм жанрообразования; с этой же точки зрения надо рассматривать проблему смешения стилей.
Жанры с их иерархией не оставались неизменными на протяжении XVIII века. Но старая, канонизированная классицизмом система жанров служила для этих изменений отправной точкой, тем фоном, на котором они были особенно заметны. Нечто новое могло возникнуть в результате смешения элементов разных жанров или в результате трактовки какого-либо сюжета в стиле, который, строго говоря, был ему не свойствен. Хотя каждый жанр подчинялся правилам, определявшим его границы, между жанрами было возможно взаимодействие. До известных пределов смешение стилей лишь обогащало произведение. Но если взаимопроникновение разнородных элементов заходило слишком далеко, разрушая установленные рамки, то рождалась форма, претендовавшая на роль нового жанра. Когда, например, в театре трагическая интрига стала разыгрываться между обыкновенными людьми, из этого сопоставления возвышенного стиля и обыденного предмета возникла «мещанская трагедия». Совершенно подобное явление имело место в живописи Грёза, который к сюжетам из домашней жизни применял формулы «maniera grande». Тем самым бытовой жанр облачался в одежды исторической живописи. Аналогично объясняется природа такого характерного для XVIII века явления, как пародия. В пародиях сюжеты известных трагедий, опер или поэм разыгрывались в «низком», буффонном стиле. Но комический эффект мог достигаться и обратным путем: когда тривиальный сюжет трактовался в высоком, героическом стиле.
Как же в этом смысле оценивался «Неистовый Орландо»? Судьба Ариостова творения во Франции богата событиями. Но достаточно будет отметить только те факты, которые особенно важны для истолкования иллюстраций Фрагонара.
В XVII веке, по мере того как формировался классицизм, Ариосто падал во мнении критики; его поэма рассматривалась лишь в ряду произведений «малых жанров», ее «неправильности» подвергались осмеянию в пародиях. Оценивая произведение Ариосто с позиций классицистической эстетики, его упрекали в беспорядочности, в несоблюдении правил правдоподобия, в смешении комического с серьезным, в экстравагантности. Понадобились существенные сдвиги в эстетических воззрениях, которые принес с собой XVIII век, чтобы к «Неистовому Орландо» стали относиться более благосклонно. По-прежнему появлялись пародии, так или иначе связанные с этим произведением, но теперь смеялись не только над Ариосто, но и вместе с ним. В «Неистовом Орландо» обращали внимание прежде всего на его буффонную сторону. Своей реабилитацией Ариосто обязан главным образом Вольтеру. Эволюция его взглядов на этот предмет весьма показательна. Воспитанный на традициях классицизма, сначала он относился к «Неистовому Орландо» с пренебрежением. Но позднее для старика Вольтера Ариосто стал кумиром.
Нас прежде всего интересует, какова, с точки зрения французского писателя, жанровая природа «Неистового Орландо». В первых изданиях своего «Опыта об эпической поэзии» (1728, 1733) Вольтер не признавал за Ариосто права называться эпическим поэтом. В тексте «Опыта» 1742 года появилась примирительная, компромиссная формулировка: «Ариосто — поэт очаровательный, но не эпический поэт». «Неистовый Орландо» казался Вольтеру сборником экстравагантностей, но, добавлял критик, он написан «в чарующем стиле». В эти годы Ариосто представлялся Вольтеру поэтом исключительно комическим и даже буффонным. Но впрочем, именно этим он и привлекал его. Задумывая (в конце 1720-х — начале 1730-х годов) «Орлеанскую девственницу», Вольтер имел в виду имитировать жанр и стиль «Орландо». Поэтому «Орлеанская девственница» дает представление о том, как образ Ариосто отражался в сознании французского поэта. Произведение Вольтера оказалось опытом героикомической поэмы, то есть своего рода пародией на «серьезную» эпопею. Это произошло потому, что тогда он и саму поэму Ариосто понимал лишь как травести классической эпопеи. Только позднее Вольтер преодолел эту односторонность, его восприятие «Неистового Орландо» стало более многогранным. В конце концов Вольтер раскаялся в том, что в «Опыте об эпической поэзии» дал Ариосто слишком низкую и упрощенную оценку, и он не упускал случая исправить ошибку своей молодости. В статье «Эпопея» из «Философского словаря» (1771) Вольтер признается: «Прежде я не осмеливался причислять его к эпическим поэтам, я рассматривал Ариосто лишь как первого поэта среди гротескных, но перечитав, я нашел его столь же возвышенным, сколь забавным, и нижайше воздаю ему должное». Теперь он расценивал «Неистового Орландо» как особую разновидность эпической поэмы. Своеобразие этого жанра проистекало из характера сюжета, «где серьезное переплетено с забавным». Прошло то время, когда эта многоликость и полное пренебрежение к цельности действия раздражали критиков. Вольтер восхищался в «Неистовом Орландо» именно «полнотой и разнообразием». «В его поэме, — пишет он, — почти столько же трогательных событий, сколько гротескных приключений, и читатель до того свыкается с этим пестрым чередованием, что переходит от одних к другим без всякого удивления». И в другом месте: «Каждая из этих песен — точно зачарованный дворец, прихожая которого выдержана всякий раз в ином вкусе — то в высоком, то в простом, то даже в гротескном». Особенностями сюжета определяется в конечном счете и стиль поэмы, отличающийся преизбытком фантастических образов; здесь могла проявиться та «плодовитость воображения», которой более всего восхищались в Ариосто критики XVIII века.
Влияние Ариосто на французскую культуру сказывалось особенно сильно в области театра.
Когда сформировалась французская классицистическая трагедия, причудливый мир рыцарских романов оказался за рамками этого жанра. Паладины надолго были изгнаны с трагической сцены — вплоть до вольтеровского «Танкреда». В XVIII веке сюжеты Ариосто можно обнаружить в трех театральных жанрах: опере (лирической или музыкальной, трагедии), пародии и комедии. Что касается комедии, ее не интересовала атмосфера фантастики и рыцарства; она черпала из «Неистового Орландо» только отдельные комические ситуации, которые разыгрывались в форме картин из современных нравов. Герои итальянской поэмы, со всеми ее чудесами, нашли прибежище в опере. Одна из первых французских опер была создана на сюжет Ариосто. Речь идет об опере «Роланд», в основу которой были положены история Анжелики и Медоро и эпизод безумия Орландо. Либретто принадлежало Кино, а музыка — Люлли — создателям жанра лирической трагедии. Первое представление состоялось в 1685 году в Версале. Постановка «Роланда» неоднократно возобновлялась на протяжении следующего столетия: в 1705, 1709, 1716, 1727, 1743 и 1755 годах. Но изменение эстетических вкусов во второй половине века потребовало обновления в духе времени и текста, и партитуры. Новая редакция либретто была осуществлена Мармонтелем, а музыка написана итальянцем Пиччини. В этом виде «Роланд» появился в 1778 году на сцене Королевской Академии Музыки и выдержал еще несколько постановок: в 1779, 1780, 1783, 1786 и 1792 годах.
Итак, именно с оперой, а не с трагедией связана судьба Ариосто в XVIII веке. Это объясняется тем, что в отличие от трагедии, где законы классицизма держались особенно упорно, опера подчинялась менее жестким правилам, имела свою особую эстетику. «Мы терпим все эти сумасбродства и даже находим в них удовольствие, — пишет Вольтер об опере, — ибо мы здесь в волшебной стране». Поэма Ариосто рассматривалась в XVIII веке именно как прототип оперного действия, поскольку поэтика оперы оказалась близка поэтике Ариосто. Вообще лирическая трагедия могла заимствовать мифологический, трагический или эпический сюжет. Для нас особенно интересен факт построения оперы на основе эпического сюжета, поскольку эпопея и опера, принадлежавшие разным видам искусства, воспринимались, по-видимому, как взаимосоотносимые жанры. «Опера, со всеми богатствами музыки и магией декораций, — говорит Вуазенон, — это не что иное, как эпическая поэма, приведенная в действие» («un poème épique mis en action»). Тот же смысл, в сущности, имеет и высказывание Вольтера о двух операх Кино и Люлли, «Роланде» и «Армиде»: «Эти оперы, сюжеты которых взяты у Ариосто и Тассо, были самой высокой данью уважения, которой когда-либо удостаивались эти поэты». Близость поэмы Ариосто и лирической трагедии была обусловлена прежде всего особенностями их сюжетов. В обоих случаях допускалось значительно преступать границы, отделявшие «правдоподобное» от «чудесного»: воображение высвобождалось из оков рассудка.
При этом стилистические, выразительные возможности лирической трагедии простирались от идиллического, пасторального тона до возвышенной патетики. Правда, определяло впечатление от спектакля стремление к торжественности и помпезности, которых требовал этот род пышного придворного зрелища. Однако величие часто обращалось в смешную напыщенность. Критики XVIII века многократно указывали на этот невольный эффект комического преувеличения, когда возвышенное превращалось в свою противоположность. «Трагические элементы, доведенные до крайности, — замечает Дюбо, — становятся нелепыми, и поэтому зрители, присутствующие на подобном представлении, скорее начнут потешаться над излишним пафосом действия <...> нежели рыдать от волнения». Оправданность этих преувеличений становилась тем более сомнительной, что любовная интрига, составлявшая главную пружину действия всякой оперы, была выдержана обычно в галантном вкусе, далеком от подлинного трагизма. По мнению Вольтера, «любовь, даже в наилучшем изображении, лишена той серьезности, возвышенности, значительности, которой требуют истинно трагические сюжеты». И хотя любовь проникла и в трагедию, любовная интрига оказывается, по существу, «более уместной в комедии, чем в произведении трагического жанра».
Таким образом, лирическая трагедия в значительной мере сохраняла внешние элементы высокого трагедийного стиля, не всегда, однако, сообразные с характером сюжета. В этом несоответствии таилось зерно комизма, обычно скрытое, но иногда становившееся явным. Так, эпизод безумия Роланда в опере Кино неизменно вызывал смех в зале, даже после того, как Мармонтель постарался смягчить экстравагантность этой сцены. Внутренняя противоречивость оперы уже давно вызывала критику. Во Франции требования реформировать лирическую трагедию раздавались преимущественно со стороны «философов». Но условности этой, по выражению Сент-Эвремона, «пышной нелепости» («sottise magnifique») были очевидны для всех. Впрочем, если говорить о Руссо, его инвективы были крайностью и не могли встретить широкого сочувствия. Французская публика, нисколько не заблуждаясь на счет странностей музыкальной трагедии, сохраняла, однако, страстную привязанность к этому «прекрасному чудовищу» («се beau monstre de l’opera»), как назвал однажды оперу Вольтер. Эта привязанность с оттенком иронии может показаться удивительной, но подобные парадоксы характерны для эпохи. Если при всем этом опера в целом все-таки выдерживала серьезный тон, это диктовалось законами жанра. Но псевдогероический мир оперы был, так сказать, чреват пародией. Каждая новая постановка оперы Кино «Роланд» немедленно давала повод для пародии на нее. Тотчас вслед за представлениями оперы в 1716, 1727, 1743 и 1755 годах, появились ее комические имитации (соответственно в 1717, 1727, 1744 и 1755 годах). «Роланд» в редакции Мармонтеля не избежал такой же участи: он был осмеян в год постановки в пьесах «Любовные истории» Депрео и «Любовная досада» д’Орвиньи. Подобного рода фарсы обычно сохраняли интригу «большой оперы», а характеры и стиль снижались до буффонады. Таким образом, герои Ариосто жили и на сцене Королевской Академии Музыки, и на Сен-Жерменской ярмарке, и отношение к ним человека XVIII века проявлялось одновременно в двух разных формах: в героическом тоне лирической трагедии и в уничтожающем смехе пародии.
Возобновление оперы «Роланд» в 1778 году и новый перевод поэмы Ариосто, осуществленный Трессаном в 1780 году, отмечают апогей славы, которой удостоился итальянский поэт во Франции. В этой атмосфере всеобщего увлечения Ариостовой эпопеей Фрагонар задумывал свою графическую версию «Неистового Орландо».
В иллюстрациях Фрагонара можно обнаружить все градации стиля, какие находил в «Неистовом Орландо» Вольтер, — от высокого до простого. В соответствии с чередованием эпизодов возвышенных, трогательных, гротескных или ужасных меняется и стиль, то есть их выразительное оформление. Способность Ариосто «перестраивать свою лиру» ценилась современниками Фрагонара, и не только Вольтером. Например, анонимный автор романа «Анжелика» (1780) восклицает во вступлении к своему произведению, вдохновленному итальянской поэмой: «О Ариосто <...> так хорошо умеющий извлекать героические звуки из трубы (то есть говорить высокопарным слогом. — В. М.) и бренчать на тамбурине глупости..!» В наших иллюстрациях преобладает приподнято-героический тон, звучащий уже в первом листе серии («Орландо и Анжелика прибывают в лагерь Карло», М. 124). Но обращаясь к эпизоду, когда Руджиеро, желая обнять Анжелику, снимает с себя доспехи (М. 70), или к сцене, где два рыцаря с девушкой расположились под деревом (М. 104), Фрагонар переходит на идиллический тон пасторали. А такие эпизоды, как «Брадаманта встречает Брунелло в гостинице» (М. 16), «Монахи принимают Руджиеро» (М. 26), трактуются в духе бытового жанра. Сцены же с отшельником и Анжеликой (М. 42-43) близки к буффонаде во вкусе «Орлеанской девственницы».
В изображениях, которые условно можно назвать «героическими», Фрагонар обращается к традициям барочного искусства, прежде всего — к традициям Рубенса и Тьеполо. Но можно ли в данном случае говорить о влиянии в собственном смысле слова? Фрагонар уже миновал пору ученичества, когда он в Италии усердно копировал великих мастеров монументальной живописи или когда он проводил долгие часы в Люксембургской галерее Рубенса. Почему же теперь, приближаясь к концу своей художественной карьеры и давно оставив юношеское намерение стать историческим живописцем, Фрагонар вдруг обнаруживает склонность к искусству «большого стиля», причем в самом камерном виде искусства — в рисунке? Иными словами, какой характер имеют его заимствования из арсенала барочных форм и какова природа героического в иллюстрациях к Ариосто?
Заимствования Фрагонара обычно касаются лишь общих композиционных схем, реже — движений и поз отдельных фигур. Ближайшим источником, к которому он за этим обращался, служил монументальный цикл картин Рубенса «Жизнь Марии Медичи». Что касается Тьеполо, то аналогичную роль для Фрагонара могли играть некоторые композиции итальянского мастера из палаццо Лабиа, из церкви Санта Мария дель Розарио в Венеции и другие. Однако в большинстве случаев нет смысла настаивать на том, что предметом подражания Фрагонару служило какое-то одно конкретное произведение — и никакое другое. Поскольку он чаще всего лишь приблизительно следовал своим образцам, таких произведений можно было бы указать слишком много. Причем для одного и того же листа можно отыскать прообразы одновременно и у Рубенса, и у Тьеполо. В сознании художника совмещались разные источники, элементы которых он комбинировал по своему усмотрению. Фрагонара интересовали не уникальные образцы, а, наоборот, самые распространенные, самые типичные схемы барочной композиции. Их он использовал как формулы «высокого стиля». Эти формулы — изобразительный эквивалент возвышенного, эпического тона, в котором Ариосто ведет свое повествование. Например, первый же лист серии, служащий как бы камертоном (М. 1), передает торжественность вступительных строф. Рисунок «Ринальдо воодушевляет британских рыцарей» (М. 120) отвечает патетическому строю речи Ринальдо. Впрочем, не стоит преувеличивать роль таких непосредственных соответствий между иллюстрацией и данным местом текста. Вернее считать употребляемые художником формулы барочного искусства и исторической живописи в целом изобразительным выражением эпического стиля в поэзии вообще, его постоянным атрибутом. К тому же на многих рисунках сами формы странно гипертрофированы, как будто перенесены в иное пространственное измерение: это стиль эпической поэмы. Существование такого рода осознанной связи между жанрами литературы и искусства подтверждается, в частности, одним рассуждением Дидро в его «Опыте о живописи». «Стиль, который зовется великим и грандиозным и который не имеет себе в природе образца» — так определяет он стилистическую природу исторической живописи. И далее, переводя свое сравнение жанровой живописи с исторической в план литературы, Дидро заключает: «Как видите <...> это спор истории и эпической поэмы <...>» Итак, остается сделать вывод, что именно стиль Ариостовой эпопеи был непосредственным предметом интерпретации художника, став в его руках чем-то наглядно «овеществленным».
Особо надо остановиться на понимании Фрагонаром гротеска. В XVIII веке имя Ариосто часто связывалось с именем Калло, поскольку оба считались мастерами гротеска. Но важно иметь в виду, что решающим моментом оказывался стиль, в котором трактовался гротескный предмет. Большинство иллюстраторов Ариосто второй половины XVIII века (Кошен, Эйзен, Моро, Грёз, Марилье и другие) если и изображали гротескные сцены, придавали им изящно-приглаженный вид. Подобным же стремлением «облагородить» итальянскую поэму отличались ее французские переводы, в которых все слишком «низкие», вульгарные слова заменялись выражениями, более отвечавшими утонченному вкусу французов. Что касается Фрагонара, он не боится гротеска. Так, он изображает разбойника Оррило, приставляющего на место отрубленную голову (М. 117), или Орландо, поднимающего шестерых проколотых копьем противников (М. 49). Пожалуй, в изображении поединка Ринальдо и Феррау (М. 2) можно даже распознать его отдаленные прообразы — аналогичные сцены у Калло, например, лист «Талья Кантони и Фракассо» из серии офортов «Балли ди Сфессания». Во всяком случае, в рисунке Фрагонара есть та острота, которой совершенно лишена эта же сцена на гравюре Марилье, где представлены два вялых и манерных кавалера. У Фрагонара в изображении поединка благородных рыцарей как бы угадывается драка двух масок итальянской комедии. И в этой способности в серьезном, даже героическом, разглядеть смешное Фрагонар верен и духу Ариосто, и своему собственному таланту. Однако очевидно, что и у Фрагонара гротеск, понимавшийся как низменно-комическое, не существует в непосредственной форме. Художник чаще всего остается на высоте эпического стиля, иначе говоря, он героизирует гротеск. Таким образом, гротескное событие выступает в совершенно новом обличии, не утрачивая при этом своей алогичности. Концепция героического гротеска, или, можно сказать, гротескной героики, часто выражается в трактовке подвигов, а также в изображении великанов (М. 74-75, 78-79, 98, 101).
Формулы «высокого стиля» в иллюстрациях Фрагонара приобретают различные оттенки смысла в зависимости от того, к какому сюжету они применяются. Но чаще всего эти «риторические» приемы мало соответствуют характеру сюжета, если и не гротескного, то во всяком случае далекого от подлинно трагического и возвышенного. Из этой несообразности между изображением и выражением, между сюжетом и стилем рождается тонкий комический эффект. Самый наглядный пример — рисунок, где полуобнаженная Анжелика на коне изображена по схеме парадного конного портрета (М. 73). Итак, героизация не уничтожает комизма: она достигает того же результата, что и пародия, только иным путем. Вместо того чтобы снижать свой предмет до низменно-комического, художник переводит его в план «высокого бурлеска», который представляет собой как бы пародию навыворот. В этом случае буффонада заключена в сюжете, а не в стиле. Но от сочетания того и другого возвышенно-героическая форма (часто намеренно утрированная) сама внутренне обесценивается и становится объектом иронии. Так что в иллюстрациях комизм выступает не открыто, а опосредованно, как бы просвечивая сквозь форму героического. Художник тем самым подражает возвышенно-ироническому тону Ариосто. В изображении «героических» сцен Фрагонар действительно имитирует эпический стиль «Неистового Орландо». Но после всего сказанного можно уточнить формулировку: речь идет о стиле самое себя пародирующей эпопеи. Именно так представляли себе жанровую природу этой поэмы во времена Фрагонара.
В этом свете становится понятно, что обращение Фрагонара к искусству Рубенса и Тьеполо в данном случае было вызвано отнюдь не ученическим преклонением перед ними. Это не что иное, как игра в барокко, его ироническая стилизация. При этом по существу Тьеполо ближе Фрагонару, чем Рубенс. Творчество фламандского мастера должно было казаться ему слишком серьезным, тогда как у Тьеполо барочная традиция была уже переосмыслена во вкусе XVIII столетия, стала более светской и просветленной, а главное, исподволь уже подверглась очищающему действию скепсиса. Судьба «Неистового Орландо» с XVI века была прочно связана с Венецией, где печаталось большинство изданий поэмы. Эта закономерность, получившая в XVIII веке особый смысл и обоснование, была подмечена Рейнольдсом. «Венецианцы, — говорит английский художник, — любят необузданные фантазии Тассо и Ариосто, то же смешение серьезного и смешного». Французским художник видел Рубенса как бы через Тьеполо, и поэтому даже те рисунки, в композиции которых он безусловно следовал фламандцу, выдержаны скорее в тьеполовском духе. Вообще в отношении мастеров «большого стиля» (особенно XVI-XVII веков) Фрагонар придерживался совета Буше, который как-то сказал своему подопечному перед его первым итальянским путешествием: «Ты увидишь в Италии произведения Рафаэля, Микеланджело и их подражателей, но я тебе говорю по секрету и как друг: если ты примешь их всерьез — ты погиб». Фрагонар избежал опасности, о которой предупреждал его Буше. Правда, он с легкостью усваивал чужой стиль — отсюда общеизвестная многоликость его творчества. Но при этом Фрагонар полностью сохранял внутреннюю независимость: он в любой момент готов был пренебречь образцами. То, что он заимствовал у своих «учителей», служило для выражения его собственных концепций, приобретая иное звучание, иной смысл.
Фрагонар смотрел на эпопею Ариосто сквозь призму оперной поэтики. Как уже говорилось, между «Неистовым Орландо» и лирической трагедией в XVIII веке существовала непосредственная связь. В сознании художника эти два источника накладывались друг на друга, и это делает объяснимым дух откровенной театральности, наполняющий иллюстрации Фрагонара. Особенно показательны в этом смысле сцены, представляющие Руджиеро у Альчины. В XVIII веке волшебный остров Альчины неизменно служил прообразом оперного зрелища. Не случайно, поэтому, рисунки Фрагонара, изображающие утехи Руджиеро и волшебницы во дворце (М. 30-33), переносят нас в атмосферу оперного театра. На листе «Руджиеро и Альчина присутствуют на представлении пьесы» (М. 30) Фрагонар прямо изображает часть зрительного зала и сцены; но и построение всех остальных рисунков этой группы носит чисто зрелищный характер, причем в них нетрудно узнать оперные декорации, известные нам по эскизам и старинным гравюрам. Очень часто герои Фрагонара ведут себя по законам сценической пластики: их движения размеренно-величавы, и они патетически жестикулируют. Причем театрализации подверглись и те сцены, в построении которых Фрагонар опирался на Рубенса. Это преображение тем более очевидно, что театральная патетика, по существу, совершенно несвойственна энергичному и здоровому темпераменту фламандца. Но что касается Тьеполо, его искусство само по себе сильнейшим образом театрализовано. В данном случае оба источника вдохновения Фрагонара настолько сливаются, что их трудно различить. Например, фигура Руджиеро в сцене, где его проводят в спальню (М. 33), с одинаковым успехом могла быть подсмотрена и на сцене театра, и на фреске Тьеполо «Ринальдо покидает Армиду» из виллы Вальмарана. Такое совпадение неудивительно, поскольку фрески Джованни-Баттиста на вилле Вальмарана построены по сценическим законам оперы-серна. Фрагонар не только использует, но сознательно заостряет откровенную условность оперного языка, когда героика стоит близко к той грани, за которой она превращается в пародию на самое себя, в псевдогероику.
Но в некоторых рисунках художник достигает подлинного драматизма в изображении чувства. Речь идет прежде всего о сюите из семи листов, которая посвящена Олимпии, оставленной вероломным Бирено на пустынном острове (М. 53-58, А. 1, 483). Ни один иллюстратор до Фрагонара не сумел использовать богатые возможности, заложенные в описании этой сцены. И дело не только в его таланте, но в тех откровениях, которые принес с собой сентиментализм. Эпизод с Олимпией дает Фрагонару повод проследить шаг за шагом постепенное развитие чувства и его неожиданные превращения. Каждый из семи рисунков запечатлевает один преходящий момент в переживаниях души, охваченной страстью. Раскрепощенное чувство открыто проявляется вовне, через пластику человеческого тела. Если изображение Олимпии в сцене, где Орландо возвращает ей Бирено (М. 51), выдержано в тоне напыщенной декламации, то рисунки, изображающие Олимпию на острове, — это живые картины страсти. Однако и в этом случае Фрагонар остается во власти театральной эстетики. Только это театральность иного рода. Ведь театр не стоял в стороне от общей эволюции искусства. В употребление входила невиданная ранее манера актерской игры. Новый тип актрисы представляла собой знаменитая Дюмениль. Ее исполнение трагических ролей было проникнуто взволнованной патетикой. Она играла инстинктом, почти безотчетно; современников поражала ее смелость в выражении естественных душевных порывов. Что касается оперы, реформа Глюка изменила ее в направлении драматизации музыки и действия, которые были призваны правдиво изображать сильные страсти. Так что некоторая экзальтированность чувств фрагонаровской Олимпии вполне в духе времени. Если обратиться также к литературным аналогиям, можно вспомнить, например, полную бурных эмоций сцену приезда Клары в дом Вольмаров из «Новой Элоизы» (часть 5, письмо VI).
Но между «предромантической» чувствительностью женевского философа и «сентиментальностью» Фрагонара имеется и существенное различие, в котором обнаруживается большее богатство содержания, нежели в их сходстве. Руссо способен вживаться в своих героев — вплоть до полного отождествления с ними своего авторского «я». Их переживания непосредственно отражают собственный душевный опыт писателя, обнажая самые интимные стороны его личности. Поэтому он глубочайше серьезен. Фрагонар же подсмеивается над своими героями, даже в самые ответственные моменты их судьбы. Его позиция аналогична положению театрального зрителя, со стороны наблюдающего сценическое действо. Именно театр дает Фрагонару отстраненную точку зрения — будь то доживающий свой век старый тип оперы времен Людовика XIV или новая театральность эпохи сентиментализма. Но в XVIII веке было обычным уподобление вообще всего мира — театру, поэтому отстраненность от предмета изображения — как художественная концепция — была в то же время отражением особого мироощущения эпохи. Это мировоззренческое кредо характеризуется, например, в «Племяннике Рамо» Дидро, в словах, обращенных к главному герою: «Бот и вы тоже, пользуясь выражением вашим или Монтеня, «взобрались на эпицикл Меркурия» и взираете оттуда на различные пантомимы человеческого рода». Авторские точки зрения Фрагонара и Ариосто совпадают: подобно итальянскому поэту, художник умеет «возвышаться над своим предметом» (выражение Вольтера). Именно в этой способности сознания сохранять свободу и некоторую отстраненность во взгляде на свои собственные вымыслы кроется источник его ироничности.
Это относится и к аллегорическим персонажам в иллюстрациях Фрагонара. В XVIII веке порою позволяли себе относиться без должной серьезности к древним богам, которые, став аллегориями, утратили даже «то призрачное подобие бытия, которым их наделяло в прежнее время суеверное воображение» (Дюбо). Амуры, Славы, речные божества, всякого рода олицетворения в рисунках Фрагонара — это химерические создания насмешливого ума.
В отношении иллюстраций к Ариосто можно говорить об эффекте неполной иллюзии, характерной, в частности, для эстетики театрального зрелища. В связи с этим уместно вспомнить воображаемый диалог Дидро с Гриммом в «Салонах» (Салон 1765 года) по поводу картины Фрагонара «Жрец Корез, жертвующий собой, чтобы спасти Каллирою» (Париж, Лувр). Дидро рассказывает сон, будто бы приснившийся ему. Он представляет себя в пещере среди зрителей некоего странного зрелища, где на полотне чередовались сцены, походящие на действительность. «Несмотря на очарование этого представления, — замечает, однако, автор, — некоторые из нас усомнились в его подлинности». В этом-то театре марионеток Дидро увидел сцену, напоминающую картину Фрагонара. Его сон — не что иное, как иносказательное описание этого произведения. Наконец полотно свертывается, и пещера исчезает. Гримм (в действительности — сам Дидро) комментирует это видение следующим образом: «В пещере вы видели только призраки (simulacres) живых существ, и Фрагонар на своем полотне показал бы вам всего только их призраки. Вам приснился чудесный сон, и художник изобразил не что иное, как чудесный сон. Когда на мгновение теряешь его картину из виду, всегда опасаешься, как бы его полотно не свернулось так же, как ваше, и эти <...> фантомы не исчезли подобно ночным видениям <...> Но не говоря уже об опасении, что все эти красивые призраки исчезнут, как только их осенят крестом, есть судьи с суровым вкусом, которые, наверное, почувствовали во всей композиции что-то театральное». Ознакомившись с этим текстом, Дидро, «настоящий» Гримм писал своему корреспонденту: «Вы очень остроумно отметили то, что придает всем этим образам скорее вид фантомов и привидений («spectres»), нежели реальных персонажей: ибо, в конце концов, весь этот чудесный сон, который вы мне рассказали, вы видели в Салоне, созерцая картину Фрагонара». Итак, уже в 1765 году Дидро проницательно заметил, — правда, пожалуй, не без доли осуждения — некоторые особенности поэтики Фрагонара — театральность и «призрачность» его образов. В иллюстрациях к Ариосто «воображаемость» образов, подчас граничащая с их призрачностью, оказалась вполне уместной и более органичной, чем в «Каллирое», поскольку она была оправдана характером сюжета. Ведь в XVIII веке «Неистовый Орландо» пользовался славой откровенного вымысла, феерического создания фантазии.
Натура и воображение, действительность и иллюзия — устойчивая оппозиция, определявшая художественное сознание эпохи. Но воображение понималось рационалистически, так что не оставалось места для какой бы то ни было мистики. Только кажется, будто оно творит новые представления, на самом деле воображение лишь сочетает образы, накопленные памятью. Оно не выводит за пределы реальности, но как бы отгораживает от нее зрителя иллюзорными декорациями. У Фрагонара колорит древнего рыцарства, со всеми его внешними атрибутами, или явления фантастического — это только стилистическая оболочка, как бы изнутри разрушаемая иронией. Художник создает воображаемый мир, в действительность которого он сам едва ли верит. Но, не обладая собственной реальностью, фантастическое у Фрагонара скрывает за собой другую, подлинную реальность. За экзотической декорацией то и дело проглядывает лицо современной художнику Франции, с ее представлениями и обычаями. Такого рода иносказательное мышление в высшей степени характерно для эпохи. Восемнадцатое столетие имело обыкновение скрывать свой автопортрет под маской — будь то условный ориентализм в традициях «Персидских писем» Монтескье или столь же условное средневековье. Так, Фрагонар многократно изображает поединки, бывшие самым выразительным проявлением рыцарства. Чтобы правильно оценить смысл этих композиций, надо помнить, что в «Неистовом Орландо» видели, в частности, пародию на рыцарство, подобную «Дон Кихоту». Более того, в таких сценах люди XVIII века, по всей видимости, узнавали пародию и на свое столетие. Вот что говорит Дидро о страсти к дуэлям героев своего «Жака-фаталиста»: «Заскок наших двух офицеров был в течение нескольких веков манией всей Европы, его называли «рыцарским духом» <...> Эти два офицера были лишь паладинами, родившимися в наши дни, но верными старинным нравам <...> Дуэли повторяются во всяких видах в обществе: среди священников, судейских, литераторов, философов; у каждого звания свои копья и свои рыцари, и самые почтенные, самые занимательные из наших ассамблей суть только маленькие турниры, где иногда носят цвета своей дамы — если не на плече, то в глубине сердца. Чем больше зрителей, тем жарче схватка; присутствие женщин доводит пыл и упорство до крайних пределов, и стыд перенесенного на их глазах поражения никогда не забывается».
Вообще, именно любовные переживания героев Ариосто особенно привлекали французскую публику. «Неистовый Орландо» в XVIII веке считался в такой же мере эпопеей, как и романом. Вольтер в той же самой статье из «Философского словаря», где он признает за Ариосто звание эпического поэта, называет его творение также и «романом в стихах». Фрагонар, в основном придерживаясь эпического стиля, в пристрастии к галантным темам остается сыном своего времени. Представление, полное любовных приключений, которое он разыгрывает в иллюстрациях, оказалось зеркалом, в котором его соотечественники не могли не узнать свое собственное отражение. Однако было бы напрасно искать в этих рисунках слишком откровенного изображения гривуазных ситуаций. Художник оставляет зрителю больше догадываться, нежели видеть воочию. От этого подобные сцены приобретают больше пикантности. Фрагонар, как никто другой, был мастером игривого намека и двусмысленного иносказания. В данном же случае он как бы имитирует наигранно-наивный тон Ариосто. При рассмотрении этой стороны иллюстраций приходится опираться не только на текст поэмы, но в равной мере на «иконографию» галантных сюжетов XVIII века.
«Романический» элемент фрагонаровской серии связан, в частности, с мотивом преследования женщины (М. 3, 11, 80-83, 88-89). Часто поводом для преследования становится исчезновение дамы в то время, как рыцари заняты поединком (М. 2, 9). В «Орлеанской девственнице» Вольтер обыгрывает этот случай, комизм которого очевиден (поединок Ля Тримуйля с д’Аронделем в VIII песне). Когда соперники замечают это исчезновение, начинается преследование (М. 3, 10-11), обычно безуспешное, — или потому, что оно направлено по ложному следу, или вследствие вмешательства волшебных сил. Но тем более комичным кажется его неистовый напор и бешеный темп. Чтобы заострить внимание зрителя на этом моменте, Фрагонар прибегает к сходным композиционным формулам, когда дело идет о близости сюжетных ситуаций. При этом нетрудно заметить связь подобных рисунков с такими картинами Фрагонара, как «Преследование» (Нью-Йорк, коллекция Фрик) или «Преднамеренное бегство» (Нью-Йорк, коллекция Данлэп).
Фрагонар не один раз изображает, как Анжелика ускользает от погони с помощью волшебного кольца, делающего ее невидимой (М. 71, 83, 89). Мотив кольца, одновременно и вводящего в обман, и разрушающего иллюзии, обладал в XVIII веке особой смысловой актуальностью. Неисчерпаемый источник комических ситуаций, он становился поводом для театральных постановок. В сущности, он объясняется в контексте более широкой проблемы, важной для этого столетия, — проблемы иллюзии (ср. мотив маски) и ее разоблачения (снятие маски). Художник упорно обращается к эпизодам, в которых герои находятся в плену иллюзии (М. 74-75, 80-82, 98-99). Руджиеро на острове Альчины — тоже жертва заблуждения чувств. Но вот Фрагонар изображает его в тот момент, когда волшебное кольцо показывает ему Альчину в ее настоящем виде, то есть старой и уродливой. В связи с этим вспоминается финал романа Шодерло де Лакло «Опасные связи», когда происходит разоблачение маркизы де Мертей. Болезнь, обезобразившая ее, получает в устах одной из героинь романа такое истолкование: «Болезнь вывернула ее наизнанку, и теперь душа ее у нее на лице». Это не что иное, как мотив снятия маски. Впрочем, все произведение Шодерло де Лакло построено на подобной логике — обольщения сменяются разочарованиями.
Мотив кольца связывался также с представлением о глупости. Так, Палиссо в сатирической поэме «Дунсиада» (1771) упоминает волшебника Мерлина, от которого автор якобы получил волшебное кольцо, открывшее ему глаза на человеческую глупость. Более конкретное значение этого мотива сводилось к понятию любовного безумия и ослепления. Фрагонару принадлежит несколько картин на распространенную тему «Игра в жмурки» (Les Colin-Maillard), например, картина из коллекции Ротшильда. Действие происходит у подножия статуи Венеры, что, разумеется, не случайно. Эта разновидность флирта состоит в одурачивании молодого кавалера с завязанными глазами, который пытается обнаружить двух дам, ускользающих от него. В то же время это не что иное, как переведенный в план «галантной иконографии» XVIII века классический мотив слепого Купидона. Символика повязки на глазах бога любви, имевшая давнюю историю, была в XVIII веке особенно любима. «Смысл этой остроумной и выразительной эмблемы общеизвестен», — замечает Кошен в своей «Иконологии». Повязка символизировала безрассудство любви, которая лишает человека способности правильно судить о вещах; тема слепоты сливалась здесь с темой безрассудства, глупости. Но кольцо Анжелики в иллюстрациях Фрагонара играет ту же роль, что и повязка на глазах кавалера в его картине, и имеет, следовательно, тот же аллегорический смысл. Тождественность их значений подтверждается, в частности, таким фактом. Во втором акте оперы Кино «Роланд» есть сцена, когда Роланд встречает Анжелику. Но как только та замечает его приближение, она кладет в рот волшебное кольцо и к великому отчаянию героя становится невидимой. Один из критиков того времени в стихотворном отзыве на оперу Кино пишет, намекая на этот эпизод: «Роланд, любовник Анжелики, собой являет жалкий вид, играет в жмурки он (joue à colin-maillard), с ней говорит, ее не видя». В таком же положении находится Руджиеро, ищущий невидимую Анжелику (песнь XI, 7-9). Рисунок Фрагонара, изображающий эту ситуацию (М. 71), может служить аналогией к картине «Жмурки», точно так же как соответствующая сцена у Ариосто очень похожа на описание такой игры: «Руджиеро оглядывается по сторонам и кружится, как безумный (come un matto) <...> Так ходит он ощупью вокруг источника, подобно слепому (come cicco). О, сколько раз обнимает он пустоту в надежде обнять, Анжелику!».
Один из характерных персонажей этой эпохи Амур с шутовской погремушкой вместо факела. (Известно, иго он изображался Фрагонаром более двенадцати раз.) ΊΊιιι Amour - Folie (Любовь - Глупость) - соединение двух иконографических мотивов: традиционного Купидона и аллегории Глупости. Но безобидный вид этого божества обманчив: в лице Орландо любовное безрассудство и глупость перерастают в безумие и неистовство. Эпизод помешательства главного героя отражен в нескольких иллюстрациях Фрагонара (А. II, 1136-1137; III, 1913). Этот же мотив находим в рассмотренных рисунках, посвященных Олимпии на пустынном острове. Надо полагать, эта тема казалась читателям XVIII века особенно значимой и современной и потому при чтении поэмы невольно выдвигалась на первый план. Недаром Вольтер сказал: «Самая красивая среди новых басен — басня о Безумии, которое, выколов глаза Любви, вынуждено служить ей поводырем». Интересно, что декорация Тьеполо «Станцы Неистового Орландо» на вилле Вальмарана венчается плафоном с изображением колесницы, которой управляет Амур с повязкой на глазах. Тем самым слепой Купидон — аллегория любовного безрассудства — приобретает значение символического ключа к пониманию всей системы росписей и поэмы Ариосто в целом. В венецианском иллюстрированном издании «Неистового Орландо» 1772 года аналогичную роль играет фронтиспис. Он изображает Амура с завязанными глазами, который ведет за собой на веревке рыцаря. Рядом приплясывает женщина с флюгером в руке и в шутовском одеянии — персонифицированная Глупость. Такого же рода эпиграфом к иллюстрациям Фрагонара мог бы служить рисунок из Безансона «Ариосто, вдохновляемый Любовью и Глупостью» (А. I, 452); связан ли он непосредственно с нашим циклом — неизвестно. Ариосто часто называли гениальным сумасбродом («un fou plein de génie», по выражению Дора). Таким он и выглядит на аллегорическом «портрете» работы Фрагонара. Увенчанный лавровым венком, с комически-глубокомысленной миной поэт внимает наставлениям Амура и путти, держащего погремушку. В этом шутливом панегирике запечатлен образ мифического Ариосто — каким он представлялся восемнадцатому столетию.
Л-ра: Советское искусствознание’79. – Москва, 1980. – Вып. 2. – С. 170-191.
Критика