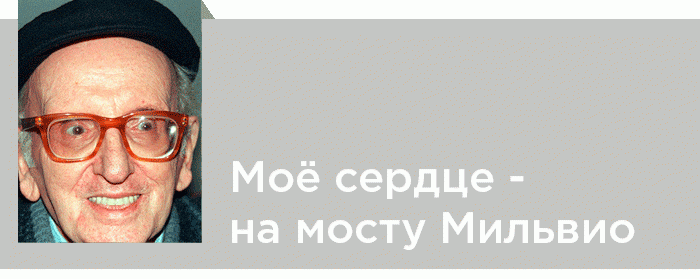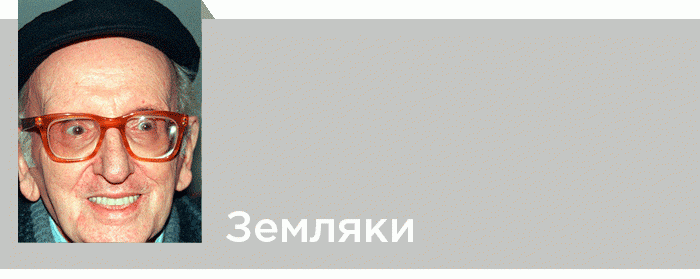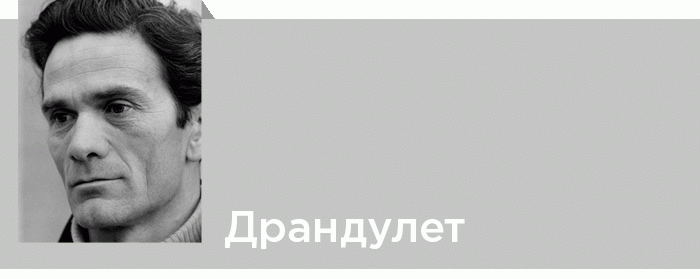Пьер Паоло Пазолини. Трилогия жизни. Дикий отец. Лютеранские письма. Обзор
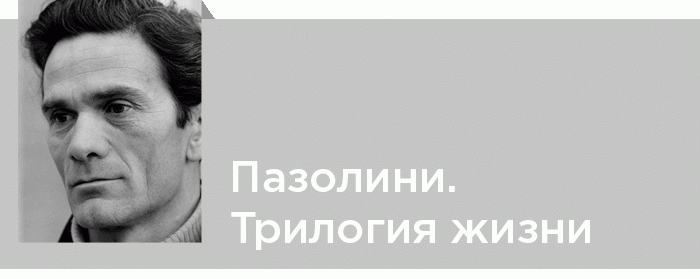
Н. Котрелев
Начать разговор о сценариях Пазолини «Трилогия жизни» и «Дикий отец» имеет смысл, на наш взгляд, с двух статей, вошедших в «Лютеранские письма» и ближайшим образом связанных с рецензируемыми книгами: «Мой «Побируха» на телеэкране после геноцида» и «Отречение от «Трилогии жизни». «Лютеранские письма», посмертный сборник публицистических статей последнего года его жизни, каждой страницей обвиняют, позорят, клеймят, заклинают современность, мир окончательно, навсегда и повсеместно — как ему казалось — восторжествовавшей буржуазности. Весы-коромысло, на которых взвешивается доброе и злое в мире, превратились у Пазолини в пружинные, с одною чашкою, на которую и брошен весь без изъятия мир.
Две названные статьи важны для нас потому, что позволяют почувствовать глубину трагедии этого многогранного художника. Вскоре после суда над убийцей Пазолини влиятельнейший критик А. Азор Роза говорил: «Пишущий это более десяти лет назад выразил мнение, что идеология Пазолини не столько реакционна, сколько всем своим существом устремлена вспять. Не думаю, чтобы его последующее творчество опровергло это суждение: скорее подтвердило... В борьбе за новое Просвещение, которую ведут между собой в Италии силы рабочего движения и силы обскурантизма и реакции... положение Пазолини было двусмысленно: с мечом в руках он выступал против лицемерия господствующего класса, но борющемуся пролетариату он умел предложить только возврат к истокам, в утробу великой Земли-матери, где классовые противоречия утихают и наконец-то вновь обретается счастье бытия. Поэтому порой и пролетариат, приемлющий капиталистическую индустриальную цивилизацию, и даже потребительство... должен был представляться ему пособником тех сил, с которыми он боролся, и значит, врагом» («Унита», 7 мая 1976 г.).
В работе «Словесность и народ у Пьера Паоло Пазолини», которую Азор Роза имеет в виду, он сопряг такие, казалось бы, взаимоперечеркивающие оценки Пазолини: «гениальный писатель, быть может, последний великий писатель итальянской традиции, со всеми ее особенностями и типическими заблуждениями» — с одной стороны, и — отметим — последние слова перебрасывают мостик к тому, что, с другой стороны, по мнению критика, Пазолини «принимает свое литературное страдание за страдание человеческое... себя, декадентского и явно консервативного писателя, — за писателя прогрессивного, способного воспринять самые широкие драмы современного мира». Эти формулировки, на наш взгляд, достаточно точно очертили перспективу, в которой марксистская критика видит творчество художника. И сам Пазолини, когда в полемике вынужден был цитировать своих оппонентов, пользовался сходными выражениями; приведенные утверждения Азор Роза согласны и с главными положениями на сегодня основной отечественной работы о Пазолини — статьи В. Баскакова «Обличитель и жертва» («Искусство кино», 1977, № 1).
«Устремленность вспять» идеологии Пазолини предопределила и личную трагедию художника, и мученическое одиночество, диктовавшее филиплики и иеремиады его лихорадочных статей, и даже жуткий его конец.
Азор Роза привязывает Пазолини к итальянской литературной традиции «...со всеми ее особенностями и типическими заблуждениями: эгоцентризмом, отчаянной чувственностью, технико-стилистической утонченностью, идеологическими притязаниями...» Но Пазолини мог бы счесться и с русской традицией: его «Побируха», «Мама Рома», герои «Трилогии жизни» — изоморфны (в целом его мировоззрения) мужику Марею, Платону Каратаеву, пушкинским цыганам, бабелевским налетчикам. А Челкаш и другие босяки Горького уже едва не двоюродные Побирухе, как Мальва — Маме Рома. Контрапункт сходный, но на том, правда, сходство и кончается: некоторая положительная характеристика, воплощенная в данном художественном образе, во-первых, утверждается как эмпирически наличная конститутивная черта народа и, во-вторых, именно как таковая, народная (поскольку простонародная) у Пазолини выставляется обвинительным актом тем, кто сдался соблазнам «общества потребления».
Упоение миром римских плебейских кварталов, «боргат», — вот главная тема первых романов Пазолини, его фильмов «Побируха» и «Мама Рома»; недаром он выделял в «Побирухе» две составляющие: абсолютно точное, этнографическое воспроизведение натуры и «мой похоронный эстетизм». Когда В. Баскаков говорит, что в первых фильмах Пазолини «гнев, направленный против общества, которое мучает и подавляет человека, извращает его природные свойства и отчуждает его даже от общества себе подобных», что один из героев там «развращен большим и безжалостным городом» — он, безусловно, прав по отношению к реалиям этих лент Пазолини. Сам же художник видел в этих реалиях нечто иное. «Разврат большого города» — это для него культура, в вековой самозамкнутости «выработавшая абсолютные ценности и модели поведения», вечные в своей неподвижности, но постоянно стихийно-творчески обновляющиеся; что же до «извращения природных свойств», то, «как автор и как итальянский гражданин, — пишет Пазолини, — я вовсе не осуждал этих персонажей преступного мира: все их недостатки казались мне недостатками, свойственными всем людям, простительными, кроме того, что они — социально — могут быть вполне оправданы», ибо это недостатки людей, которые подчиняются «другой шкале ценностей — по отношению к буржуазной». Пожалуй, «похоронного эстетизма» мало, чтобы на место благородного разбойника, из большой литературы Шиллера и романтиков ушедшего в массовое чтиво, поставить благородного сутенера Побируху. Статья Пазолини о «Побирухе», из которой мы давали выдержки, появилась в газете «Унита» 8 октября 1975 года, и автор, говоря, что «трудно себе представить людей столь привлекательных... как люди из мира «Побирухи», т. е. из мира субпролетарской и пролетарской римской культуры, какою она была десять лет тому назад», словно бы забыл, что за полгода перед тем в «Отречении от «Трилогии жизни» он пришел к самым неутешительным выводам на их счет. Как бы то ни было, исчезновение этого веками хранившего себя мира под натиском буржуазной массовой культуры Пазолини назвал «культурным геноцидом», одним из тех, что «предшествовал гитлеровским геноцидам физическим» (словом «культурный геноцид» Пазолини уравнивает «народную культуру» — высшее понятие на шкале ценностей новоевропейской демократической традиции — и субкультуру, воспитавшую, например, в Побирухе органическую неспособность трудиться или его отношение к женщине). Мир римских боргат исчез. «Молодые люди, — писал Пазолини, — лишены своих ценностей и своих моделей поведения — как крови, и превратились в личины, сколки другого образа бытия и понимания бытия: мелкобуржуазного».
Начав цитировать «Отречение от «Трилогии жизни», мы забежали вперед — не без умысла, с тем чтобы не терялся из виду страшный жизненный итог Пазолини. Его, вероятно, в какой-то мере предощущал и сам художник, когда задумывал и начинал работу над триптихом, ибо говорит в «Отречении», что уже тогда стал вырисовываться «культурный и антропологический кризис». И в этом «начинающемся торжестве ирреальности «масс-медиа» и тем самым массовой коммуникации» художнику «последней цитаделью реальности» предстали «невинные тела с архаичной, полной жизни яростью их половых органов». Отсюда — «Трилогия жизни».
Это — три фильма, исходным литературным материалом для которых Пазолини выбрал три шедевра средневековой новеллистики: «Декамерон», «Кентерберийские рассказы» и «Лучший цвет тысячи и одной ночи». В западной и арабской (сколько нам известно по заметкам в итальянской печати) легковесной и коммерческой критике часто говорили о «замечательной верности» и т. и. Постараемся возразить им на примере «Декамерона»; сколько можно судить по сценарию, именно в нем Пазолини ближе всего к принципу собственно «экранизации», сохраняющей подлинник: в двух других фильмах натиск его собственной темы (особенно в «Тысяче и одной ночи») совсем заглушает оригинал.
Уже тематическое ограничение «Декамерона» — центральной темой фильма стала эротическая — было предательством по отношению к Боккаччо. Вопреки своему «свободомыслию» и заявленной «прогрессивности» Пазолини подверстывался к вековой цензурной традиции, зачислявшей шедевр прозы по рубрике порнографии и — реже — кощунства; тут было недалеко и до читателя, слюненным карандашом подчеркивающего в публичной библиотеке нескромности вольных новелл. Впрочем, эротика фильма (тут мы не можем не говорить о сценарии осуществленном: предельная скупость изданного текста позволяет разговор только об общих принципах; в «Трилогии» нет даже эмоционально окрашенных ремарок, какие можно встретить в «Евангелии от Матфея», в «Диком отце» и других ранних сценариях Пазолини) — эротика фильма парадоксальным образом оказывается слишком серьезной для Боккаччо. Не поводом к смеху или улыбке, а каким-то в конечном счете надоедливо важным жизненным отправлением. Литературный аристократизм Боккаччо снижается до буржуазности (не этого ли более всего и боялся Пазолини!) Руссо с его мифом о естественном человеке.
Что говорить о верностях антуража, костюмов, грима и париков, отмечаемых всеми критиками, в том числе и В. Баскаковым, когда нет верности духу источника и времени. Пазолини не захотел считаться с тем, что для Боккаччо и его современников такая, казалось бы, нестесненная и скоромная эротика — только культурная условность, позволительная игра, но никак не образ жизни, тем более не суть ее (а бытовой разврат — монастырский и городской, Жиля де Ре или Цезаря Борджиа, безвестных горожан или крестьян — если фиксировался на письме, то никогда не бывал поводом к веселой шутке или досужему восхищению: это была материя летописцев, полемистов, проповедников, инквизиционных протоколов). Пазолини не заметил, что в известном смысле именно «заветные» новеллы Боккаччо — самые «литературные», вторичные, небытописательские, поскольку представляют собою развертку поговорок. «Загнать дьявола в ад» (новелла о Рустико не была отснята, но сценарий по ней был написан и печатается в приложении к основному), «поймать соловья», «пристроить кобыле хвост», «о курах и петухе» в новелле о монастырском садовнике — все это эвфемизмы, несомненно ходившие в языке до «Декамерона», и соответствующие новеллы — лишь «фантазии» на тему о происхождении этих речений.
В угрюмую серьезность, прорастающую сквозь всю живописность, сочность и лиричность, загоняла Пазолини преданность мифу о «естественном человеке» и «народе» — хранителе «естественного здоровья» (или «здоровой» естественности). Этот миф, как зеркальное и с обратным знаком отражение христианской картины мира, обещает свой «рай». И требует, чтобы; жизнь, которой живет человек, была бы беспрестанной борьбой за этот «рай». Зато и явлен человеку прообраз «полного самораскрытия собственной сущности»: ведь писал же в «Отречении» Пазолиии, не отрекаясь от этого пункта своего кредо: «Да я и не могу перечеркнуть искренности и необходимости, которые привели меня к изображению тел и их высшего символа, пола». Вся трилогия и есть образ рая. Не случайно и в «Кентерберийских рассказах» и в «Лучшем цвете тысячи и одной ночи» даны и собственно эдемские картины с нагими адамами и евами, уже не знающими стыда. Три ленты вытягиваются в одну, в единый образ непрерывного, вечно длящегося блаженного соития, отнесенного в некое время, когда будут сброшены проклятия мучительного чадородия и добычи хлеба насущного в поте лица. Не случайно эпиграфом к «Лучшему цвету...» выставлена фраза из «Тысячи и одной ночи» (звучащая и в конце сценария): «Истина не в одном-единственном сне, по во многих снах»; сон, рвущийся на отдельные новеллы, — дань земной невозможности непрерывного, бесплодного наслаждения.
На сновидческой теме фильма автор настаивает. Он выбрал себе роль великого художника Джотто, введя в свой «Декамерон» соответствующую новеллу. Он разорвал ее на несколько фрагментов, поставив их между другими новеллами, чтобы те были видениями художника, и закончил фильм: фразой Пазолини-Джотто: «Зачем осуществлять произведение, когда так сладко просто грезить о нем».
Тема художника позволяет нам обратиться к неосуществленному сценарию Пазолини «Дикий отец», поскольку там она — основная. Фильм должен был рассказать о двух художниках. Один — Дэвидсон, юноша негр, переживающий муку своего рождения как поэта. Другой — белый, учитель-словесник с идеями «несколько наивными и сбивчивыми», старающийся вылепить в мальчиках-африканцах самосознание свободных людей и пробуждающий в Дэвидсоне неведомое тому призвание. Идеи учителя сбивчивы в высшей степени. Он с самого начала признается, что «не знает про Африку ничего, кроме того, что прочел в книгах», но в Африку его привел «демократизм», ненависть к буржуазной культуре и желание убедить африканцев в том, что они свободны. По-видимому, его соблазнил замысел строить новую культуру на новом месте: африканцы для него только что вышли из «доисторического состояния», значит, они еще не заражены микробом буржуазности, а если заражены, то в минимальной степени — усилиями его предшественников-педагогов. Как будто бы педагогический метод, безымянного учителя демократичен: он добивается, чтобы его воспитанники умели видеть родную природу, свою действительность собственными глазами, чтобы они судили о своей жизни от себя, от собственного разумения, а не по заносным моделям. На деле же он навязывает модели сознания и поведения не менее деспотические, чем те, что принесли с собою его предшественники. Пазолини со своим учителем-«демократом» оказывается колониалистом, зеркальным повторением просветителей-иезуитов с их латынью, еще столетия назад нашедших африканцев детьми, требующими воспитания: по выглаженной восковой дощечке — tabula rasa — можно писать только усилием, насилием заостренной палочки.
При такой «наивности» учительского мировоззрения и малого доверия нет к утверждению, будто Дэвидсон (на летних каникулах в родной деревне со всем народом участвующий в языческих кровавых обрядах, в резне соседей и белых, а потом вернувшийся в школу, к цивилизации XX века) вдруг постиг «тяжкое чувство разумной страсти» — основу поэзии. Когда Пазолини говорит, что эта поэзия «разумной страсти — ... не поэзия радости, «чистой жизни»; нет — боли, разочарования и критики, вот именно, критики», то сразу ясно: речь идет о собственной музе. А «разумное» в сценарии «Дикого отца» оставлено на так и не наступившее для этого сценария потом: диалоги, важнейшие идеологические рассуждения учителя почти все кончаются двумя-тремя словами с отмахивающимся от рассудка «и т. д.». И господствует, как собственно авторское и сквозь хрусталик Дэвидсона, до наслаждения напряженное и болезненное любование материей, африканским пейзажем, бессловесностью и наивностью чернокожих героев. То самое неутолимое наслаждение наблюдением жизни — сном о жизни, — которому предается Джотто-Пазолини. И сны там и тут, в сущности, об одном и том же, ибо для Пазолини римские или неаполитанские окраины, Ближний Восток, Африка — все это мир, еще вчера живший в доистории...
Но всякий сон рассеивается. И трагично было пробуждение Пазолини. Он несколько лет отдал восхищению «невинными» телами и половыми органами, видя в них высший символ «красоты естественного человека», человека «подлинной», «небуржуазной», «народной» культуры, и вдруг увидел, что ничего подобного нет. И заговорил о «геноциде», о том, что «массовая культура» убила «народную», убила народ... Нельзя без боли читать его «Отречение от «Трилогии жизни». И не восхищаться его мужеством. Ведь в этой короткой статье, быть может в одном из самых беспощадных свидетельств переживаемого Италией и итальянской интеллигенцией кризиса, в статье безжалостной, вплоть до признания собственного духовного краха и краха целой жизни, Пазолини сам себе и читателю доказывает, что символ его веры, мир римских боргат с их «побирухами» и «культурой», каким он предстал художнику и каким художник его проповедовал, был бесчеловечен, был страшным обольщением. Что это так — Пазолини судил по тому, сколь страшно новое поколение «побирух», когда по новой реальности сделал заключение о реальности прежде бывшей: «Если те, кто тогда (т. е. прежде, в эпоху героев «Трилогии», в Средние века. — Н. К.) были такими вот и такими, а теперь могли стать такими вот и такими... значит, и самое их бытие, каким оно было тогда, обесценено — настоящим. Молодые люди, ребята из римского субпролетариата — то есть те самые, которых я высветил на фоне старого и нерушимого Неаполя, а потом — бедных стран Третьего мира, — если теперь они отбросы человечества, значит, и тогда уже это было заложено в них... Крах настоящего влечет за собою и крах прошлого...» Снова и снова в «Лютеранских письмах» Пазолини говорит о том, что молодое поколение, каким он его видит, — его личная трагедия.
А настоящее, таившееся в прошлом, в «культуре», столь дорогой Пазолини, под его пером выглядит устрашающе: «Они (художник говорит о своих бодрящихся критиках. — Н. К.) не замечают лавины преступлений, в которой тонет Италия... Они не замечают, что нет границы между преступниками в собственном значении этого слова и непреступниками и что модель наглости, бесчеловечности и безжалостности — одна для всей молодежи... Они не замечают, что телевидение и в еще большей, быть может, степени обязательное образование разложили, превратили всю молодежь в капризных, закомплексованных буржуйчиков-расистов последнего разбора... Они не замечают, что сексуальная либерализация, вместо того чтобы дать парням и подросткам легкость и счастье, сделала их несчастными, замкнутыми и, следственно, дурашливо самоуверенными и агрессивными...» Апокалиптика очертя голову: итальянская коммунистическая пресса, глубоко обеспокоенная кризисом итальянского общества, глубоко анализирующая его и ведущая борьбу за его преодоление, еще при жизни Пазолини выступила с резкой критикой идеологии социального отчаяния.
Вину за «перерождение», «необратимую», как он говорит, «антропологическую перемену» в молодом поколении художник принимает на себя, записывает на счет своего поколения. Склонный социально-исторические факторы представлять безличными абстракциями («власть» и т.п.), Пазолини на этот раз говорит справедливо о вине собственной, вине собратьев по ремеслу и искусству. Во многом, однако, Пазолини вопиюще не последователен. Так, пережив крушение своего мировоззрения, отрекаясь от «Трилогии», он все еще не находит в себе силы «перечеркнуть» собственную «искренность и необходимость» в изображении «невинных» тел и сексуальных отправлений.
Пазолини продолжает защищать «два основных момента прогрессивной борьбы 50-х и 60-х годов», борьбу за «право на самовыражение» и за «сексуальную либерализацию», суть которой будто бы извратила «массовая культура» с ее «пермиссивностью» (от латинского «разрешаю»; но не лучше было бы этимологию этого слова вести от надписи над входом в «Ад» у Данте: «Per me si va...»?)...
В статье «Несчастная молодежь», открывающей «Лютеранские письма», Пазолини пишет, что долгое время не умел понять, почему в греческой трагедии дети должны расплачиваться за вину отцов, долгое время — пока его чувство отвращения (а для него «чувство» и есть суть «исторического») к молодежи, принявшей идеалы массовой культуры, не высветило ему по-новому рок отчей вины. Многие мемуаристы, друзья художника, пишут, что в нем в последние годы перед гибелью тайно жила жажда конца. В названной статье он заявил, что «уже неумолимо принадлежит к поколениюотцов» и, стало быть, по его рассуждению, неизбывно виновен. «Вину» свою он, разумеется, преувеличивал и мистифицировал, но судьба как бы подыграла художнику. Пал он от руки нового Побирухи, представителя нового поколения, выросшего в том мире, в той субкультуре, которая была когда-то средоточием всех жизненных и эстетических чаяний Пазолини.
Л-ра: Современная художественная литература за рубежом. – 1978. – № 5. – С. 53-58.
Произведения
Критика