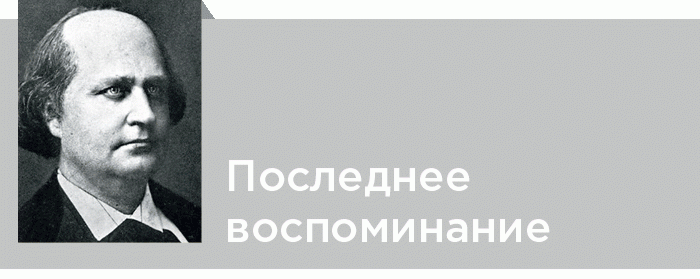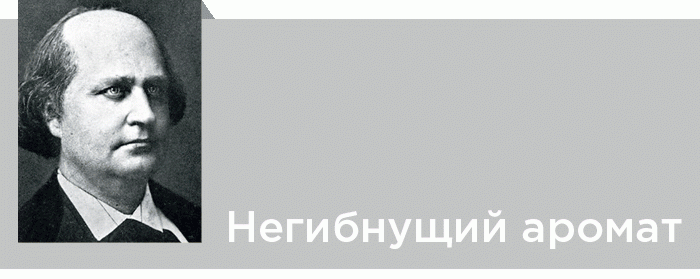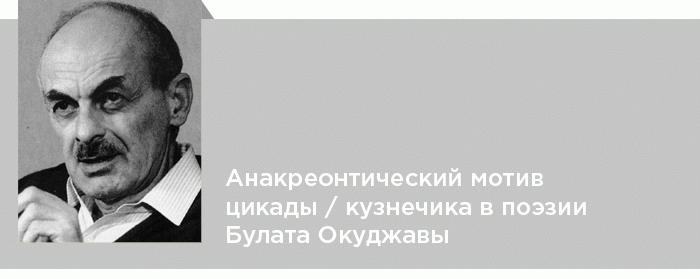Эльза Моранте. История любви

Страна была столь дикой и унылой, что ни один иностранец никогда не перебирался сюда на жительство. Только путешественники проездом посещали большую древнюю церковь — своими колоннами и голыми стенами она напоминала известняковые пещеры, сотворенные природой и временем. Каменная церковь казалась особенно красивой в зимние дни, когда небо было затянуто облаками; тогда ее фасад с черными высокими дверьми, простые, величественные формы, барельефы, ее просторный неф и стрельчатые витражи — все являло взору чудо, застывшее в неподвижной белизне света. Каменный алтарь был совершенно лишен украшений, будто не создан для торжественной мессы; скамеек для молящихся не было, так что верующие опускали колени прямо на пол. Однако, входя в этот храм, образчик великой архитектуры, оказавшись наедине с фигурами на барельефах, одухотворенными и полными внутреннего движения, человек испытывал странное блаженство.
Земля в тех краях походила скорее на пыль и была черной, словно перемешанной с углем; на фоне бескрайних просторов виднелись древние каменные сооружения, приземистые, мощные, в тени которых лошади щипали траву. В глазах этих животных, рожденных для быстрого бега, поджарых, с красивыми, сильными ногами, было что-то злое и темное, как у местных людей. Дома тоже были приземистые, почти все — небольшие, в несколько окон; жители, даже зажиточные, отличались скупостью, неприхотливостью в еде и одежде. Женщины, привлекательные, но по-дикарски застенчивые, носили широкие юбки красно-коричневого цвета, из грубой ткани, и эта одежда, шитая золотом, подчеркивала скрытую в них царственную гордость.
Однажды богатая дама по имени Джованна решила остановиться в тех краях. Она отправилась в путешествие в сопровождении пожилой экономки, слуги, старого и высохшего, изнуренного прожитыми годами, и молодого учителя, нанятого совсем недавно, он обучал даму местному языку и был переводчиком. Джованна сняла у богатой семьи одноэтажный дом, пустовавший уже много лет, двери которого издавали долгий скрип, когда их открывали. Но как только с мебели стерли пыль, постирали занавеси, а на сундуки и кровати постелили роскошные шелковые покрывала местной выделки, как только зажгли все керосиновые лампы, дом с его толстыми, шершавыми стенами, низкими потолками и полом, выложенным алой и изумрудно-зеленой плиткой, наполнился теплом и уютом.
Джованна родилась в другой стране, далекой и очень красивой, от родителей, влюбленных друг в друга. В детстве она стала сиротой, но почти не заметила этого. Боль утраты не затронула ее, словно испугавшись испортить ее прелестное личико. Всякий раз, когда она прогуливалась по улицам города, люди останавливались, чтобы полюбоваться ею, а те, кто посмелее, кричали: «Боже, до чего хороша!» У нее были изящные руки, узкая, маленькая ножка, а кожа — точно фарфор. Личико, на котором светилась ангельская улыбка, обрамляли пушистые, нежные локоны, подобные цветам. Величавость соединялась в ней с детской непосредственностью, и все, кому доводилось повстречать Джованну, не могли отвести от нее глаз. Брови ее никогда не хмурились, а рот лишь изредка кривился от обиды, как у детей. Всего три короткие линии рассекали ее ладонь. Друзья и родные, будто соревнуясь, придумывали для Джованны ласковые прозвища, называя голубкой, ангелочком и лилией. Каприз руководил ею; сама не зная, какое счастье выпало ей на долю, она видела обращенные к ней лица, бледные от волнения, и затуманенные глаза, но это не будоражило ее кровь. Ей не было и пятнадцати, когда ее выдали замуж за прекрасного юношу из состоятельной семьи. Через несколько месяцев после свадьбы молодой супруг сбежал, говорили, что он сильно исхудал и стал неузнаваем. Джованна быстро о нем забыла. Она была так беспечна, что нисколько не заботилась о том, чтобы выглядеть красивой; ей было достаточно ощущать красоту вокруг себя, естественную и сияющую, как солнечный день. Часто ее видели с неприбранными волосами, без колец и ожерелий, а порой она одевалась небрежно и выбегала в сад прямо босиком. Случались дни, когда она ни разу не смотрелась в зеркало.
Именно поэтому Джованна не сразу заметила, что с ней произошло. Между тем ее тело перестало быть молодым, кожа сделалась дряблой — и в одночасье старость овладела ею. Возможно, старость явилась ночью и осторожно, чтобы не разбудить Джованну, коснулась ее лица, погубив его цветущую юность и превратив в безжизненную, безобразную маску смерти. Работа эта была проделана внезапно; все черты лица ото лба до губ исказились: прелестный румянец на щеках сменился бледностью; коварные морщины рассекли посеревшую кожу, а сухие губы сложились в жалкую ухмылку. Только глаза остались по-прежнему живыми, и они молили о помощи — взглянув как-то раз на себя в зеркало, Джованна увидела лик старухи.
Эта перемена поразила ее. Словно зачарованная, она вновь и вновь гляделась в зеркало и всякий раз, увидев себя, вздрагивала от ужаса. От нее отшатнулись все, кто восхищался ее красотой, и у Джованны защемило сердце. Прежде искренняя любовь других не удивляла и не радовала ее. Разве та, кто рождена королевой, признательна своим слугам? Теперь же безразличие, а то и отвращение окружающих, издевательства и насмешки причиняли ей боль. Поначалу Джованне случалось забывать о своем новом облике, и тогда ее смех звучал так же нежно и звонко, как в годы юности. До поздней ночи она не смыкала глаз, натираясь мазями, бальзамами и благовониями, после чего засыпала в надежде, что благодатный сон сотрет с ее лица старческое безобразие и возродит первозданные свежесть и красоту. Но во сне ей являлись блеклые, потускневшие образы — больные, поломанные деревья, гниющие листья и истощенная, скудная земля. Проснувшись, она встречала в зеркале все ту же старуху.
Напрасно Джованна всматривалась с робкой мольбой и надеждой в лица прохожих, пытаясь прочесть на них знаки прежней любви; она научилась избегать людей, будто чувствуя свою вину перед ними. Старость захватила ее в плен. Несчастье представлялось ей злой собакой, которая с остервенением грызла ее изнутри, и одновременно безмолвным призраком, что неотступно следовал за ней повсюду Она боялась взглянуть правде в глаза и назвать вещи своими именами, а между тем речь шла о смерти: Джованне казалось, что можно спастись от смерти бегством и что, убегая, она позабудет о своем преследователе. И вот она решила отправиться в путешествие.
Не только люди, но весь мир глядел на нее с отвращением. Ее присутствие оскорбляло стройные оливковые рощи, и ласточек, которые вили гнезда в тихих, уединенных местах, и даже воздух, наполненный их беспечным щебетанием. Джованне ничего не оставалось, как отправиться в суровый, мрачный край.
В пути она познакомилась с молодым учителем. Он давал частные уроки и целыми днями ходил от одного ученика к другому. Джованна повстречала его в убогой лачуге, где-то на севере. Сквозь щели в оконных рамах сочился туман и плотным облаком оседал на предметах, однако благодаря присутствию юноши у Джованны создалось странное ощущение, будто в комнате растет дерево. Молодого учителя звали Паоло, он был высокий и худой — из-за этого его фигура выглядела нескладной и угловатой; дни напролет он проводил за книгами, и его плечи ссутулились, а тело, от природы гибкое, стало скованным. И все же походка его была легкой. Светлые, мягкие волосы всегда торчали непослушными вихрами, так что возникало желание расчесать их и уложить красивыми локонами, как это делают матери своим детям. Близорукость и робость словно бы не позволяли юноше воспринимать мир во всем его многообразии, и казалось, что он до сих пор не вышел из детства. Нерешительный, застенчивый, он краснел от каждого вопроса, а отвечая — смущался, растерянно улыбаясь, и улыбка обнажала зубы, неровные, но белоснежные. Из-за его отрешенности от мира возникало впечатление, будто юноша полон то ли презрения, то ли безразличия ко всему; его устремления были столь возвышенны, что только чье-то сострадание или великодушие могли бы вернуть его на землю. Разумеется, он преследовал какую-то цель. Возможно, страстно хотел выдержать конкурс и занять профессорскую кафедру? Во время урока его голос становился спокойным, уверенным, лицо — сосредоточенным, от прежней робости не оставалось и следа; казалось, он с блеском исполнял любимую роль.
Увидев его, Джованна сразу подумала: «Я предложу ему сопровождать меня и учить немецкому и английскому». Она даже не подозревала, почему в глубине души ей так хотелось сделать Паоло своим спутником. Без гроша в кармане и сирота, он недолго думая согласился. В доме, где поселилась Джованна, ему выделили комнату рядом с каморкой прислуги, стены ее были выложены выцветшим красным кирпичом. Там он проводил большую часть своего времени и штудировал книги. К уроку он спускался с воспаленными, ввалившимися глазами, сутулясь, в плохо выглаженном платье. Однако то, как презрительно юноша кривил рот, выдавало в нем высокомерие, тайную гордость и тщеславие. Они усаживались за маленький столик, и Паоло начинал урок, уверенно и терпеливо, как старый, опытный учитель. Если же кто-то неожиданно прерывал их занятие не относившимся к делу вопросом, застенчивость вновь возвращалась к юноше, он заливался краской и не знал, куда деться от смущения. Но Джованна старалась не задавать посторонних вопросов. Эти уроки успокаивали ее, давали возможность забыть о недуге, погубившем ее молодость, и о смерти, что неотступно преследовала ее. Внимательно, с прилежанием школьницы она выслушивала объяснения Паоло, запоминала правила и новые слова. Отрешенность юноши, его нежелание даже взглянуть на нее не обижали Джованну; казалось, он так увлечен предметом и его мысли витают так далеко, что он просто не видит людей, которые находятся рядом.
Однажды, когда они занимались при свете керосиновой лампы (день выдался дождливый, и сумерки подкрались рано), Джованна заметила, что Паоло зачарованно смотрит на ее нежную, точеную руку. В действительности же он не сводил глаз с кольца, украшенного бриллиантом в форме креста: в ограненном камне преломлялись свет лампы и отблеск угасавшего дня, и бриллиант блестел загадочно и тревожно, подобно озеру в сиянии луны. Паоло любовался кольцом, а Джованна с замиранием сердца подумала, что он не может отвести глаз от ее руки. Рука еще сохранила былую красоту: изящная, с длинными тонкими пальцами, с ухоженными, ровными ногтями, гибким запястьем. Ни единая морщинка не обезобразила ее, а ладонь рассекали все те же три линии, что были даны Джованне от рождения. По окончании урока она долго рассматривала свою руку и ночью уснула, счастливая и опьяненная иллюзией. На следующий день перед занятием она опрыскала руку духами, натерла мазью, что делает кожу белее снега, умастила эфирными маслами, а потом украсила ее золотыми кольцами и браслетами, как божество. На уроке она плавно водила этой рукой по страницам тетради, поглаживала книги или задерживала ее на красном шелке платья. Юноша вновь как зачарованный смотрел на драгоценности, а Джованна не помнила себя от радости, полагая, что он любуется рукой.
Так продолжалось много дней. На какие только ухищрения не пускалась Джованна: то она оплетала каждый палец золотой нитью, то надевала кольцо с зеленым камнем, то доставала из шкатулки старинные украшения из золота и серебра, на которых были выгравированы причудливые узоры. Когда учитель переводил взгляд с книги на сверкающие драгоценности, словно пытаясь проникнуть в их восхитительную тайну, она трепетала, уверовав в то, что Паоло влюблен в ее руку. И вот как-то раз Джованна решила слукавить и ничем руку не украшать. Она, конечно же, не обошлась без мазей и благоухающих масел, но не надела ни колец, ни браслетов. Придя на занятие, она в нетерпении положила руку в круг света от лампы. Юноша бросил на руку рассеянный взгляд и тут же вернулся к своей книге. И тогда Джованна поняла, что Паоло любовался не рукой, а, как всякий простолюдин, игрой света на драгоценных камнях.
В тот вечер Джованна плакала. Теперь, привыкнув тешиться грезами, она уже не могла обойтись без иллюзий. Полагая, что ее волосы все еще хороши, она начала менять прически: завивала локоны, заплетала длинные косы, а иногда укладывала волосы искусными волнами. Она украшала их цветами, втыкая стебельки так, чтобы только бутоны оставались на виду, а иногда надевала на голову венок из зеленых листьев. Джованна использовала черепаховые гребни, золотые заколки и диадемы. Навсегда утратив красоту, она молила хотя бы о любви к своим чудесным драгоценностям. Но, видимо пресытившись, юноша больше ни на что не смотрел. Она пыталась придать своему хриплому голосу прежние звонкость и нежность, подводила глаза, красила губы, улыбалась, как молодая и слегка пьяная особа. Паоло ничего не замечал; он продолжал старательно объяснять грамматику, а закончив урок, молча закрывал книги и вставал из-за стола. Он не выказывал по отношению к Джованне ни отвращения, ни интереса: его голубые глаза рассеянно блуждали по комнате, а мысли, похоже, были заняты наукой и кафедрой. Для того чтобы юноша наклонился и увидел ее черную туфельку, Джованна будто нечаянно уронила книгу; Паоло тотчас поднял ее, даже не взглянув на дивную ножку. Собравшись с духом, Джованна подошла к нему и положила руку юноше на запястье; он пришел в замешательство, точно пойманный на месте преступления, и залился краской.
Оставшись одна, Джованна зарыдала; она не знала, как обрести хоть толику надежды. Однажды утром, лежа в кровати и всхлипывая, она услышала, как в соседней комнате двое слуг, прибираясь, болтали между собой о женщине по имени Ассунта, вдове, которая умела готовить приворотные зелья. Джованна вскочила с постели, приложила ухо к двери и вся превратилась в слух, утирая слезы краем ночной рубашки. Она знала Ассунту и знала дом на окраине, где та жила. Подслушав случайно разговор слуг, она поняла, что делать: необходимо любой ценой заполучить самое сильное зелье. Вечером, надев шубку и бархатную шляпку, набив сумку деньгами, она вышла из дома.
Дверь дома Ассунты была со стороны кухни и выходила на улицу, заросшую пыльным кустарником. Пока Джованна шла, подол ее платья запылился, и она долго отряхивала его. Молодая колдунья дремала у очага, когда гостья толкнула дверь — та заскрипела, и хозяйка открыла глаза, взгляд ее был кротким, как у ягненка.
Большие, выразительные глаза Ассунты поражали своей голубизной — у женщин в тех краях были совсем другие глаза. Ростом она, как и все местные, была невелика, лицо изможденное, бледные щеки в веснушках. Она казалась испуганной и встревоженной, как ребенок, привыкший к побоям. Едва Джованна сказала, что в тех краях ее считают колдуньей, Ассунта задрожала.
— Неправда, — возразила она, закрывая лицо руками и падая на колени. — Я не занимаюсь колдовством, нет-нет.
Джованна пообещала ей много денег, на которые можно купить красивых платьев.
— Разве вам не стыдно ходить в таком рванье? — спросила она Ассунту. — У вас красивая головка, а из-за растрепанных волос никто этого не замечает. Вам бы причесаться как следует да приодеться, а потом сесть на коня, поскакать в город и свести там с ума всех мужчин.
— Сколько вы заплатите? — робко поинтересовалась Ассунта.
Джованна открыла сумку, полную денег.
— А вы никому не расскажете? — прошептала девушка. Она объяснила, что ее уже сажали в тюрьму, где обращались грубо и допрашивали о тайных знаниях и снадобьях.
— Да вы с ума сошли! — воскликнула Джованна. — Неужели вы думаете, что я способна на это? Разумеется, я никому не скажу.
— Вам нужно слабое приворотное зелье или посильнее? — спросила Ассунта, и от смущения ее лицо залил румянец, столь яркий, будто ей надавали пощечин.
— Самое сильное из всего, что у вас есть! — выпалила Джованна, радуясь тому, что богата и в состоянии заплатить.
Тогда вы должны дать мне еще и кольцо в придачу, — тихо сказала Ассунта, с восхищением глядя на кольцо, украшенное сверкающим бриллиантом в форме креста.
— Хорошо, пусть будет по-вашему, — сказала Джованна и со вздохом сняла кольцо с пальца.
Девушка взбежала по лесенке на второй этаж и вернулась с маленькой бутылкой, оплетенной соломой, — такие можно встретить в тавернах. В бутылке колыхалось вино — густое, темно-красное, почти черное, какое пили в тех краях. Джованна разочарованно посмотрела на него.
— Похоже на обычное вино, — пробормотала она.
— Это и есть вино, — ответила Ассунта. — Я заговорила его. Вы должны дать человеку выпить его до наступления ночи, иначе заговор потеряет силу. На вкус — обычное вино, не горькое и не сладкое.
Джованна взяла бутылку, протянула девушке деньги и кольцо. Обе остались довольны сделкой, каждая думала, что она в выигрыше. От волнения они не осмеливались взглянуть друг на друга.
Радость переполняла Джованну, когда она с зельем в руках возвращалась домой. Она чуяла подле себя дух смерти, но смерти блистательной, героической, какой ее изображают на батальных полотнах: лошади, копья, фанфары. И в то же время ей было жаль себя.
Урок должен был превратиться в таинственное любовное свидание. Несколько часов Джованна наряжалась. Каждое движение, каждый жест — натягивала ли она черные шелковые чулки или застегивала крючки лифа — доставлял ей необычайное удовольствие; ее не огорчало даже то, что она немолода. Джованна затянулась в тесный корсет, наложила тени на веки и припудрилась. Надела драгоценности — и будто стала выше ростом, ее осанка сделалась царственной. Она поставила бокал и добытое вино на стол с книгами и рассмеялась, как ребенок, задумавший шалость.
Все занятие Джованна сидела как на иголках, сгорая от нетерпения. «Как заставить его выпить вино?» — размышляла она. Приглядевшись к учителю, она заметила, что он особенно бледен, и спросила, не болен ли он.
— Я, синьора? — переспросил он, запинаясь.
— Да, вы очень бледны, — сказала она, понимая, что должна совершить задуманное и назад пути нет. — Выпейте бокал вина. Это вернет силы. Я принесла его специально для вас.
Паоло покраснел и хотел отказаться, но робость помешала ему. Внутренне сопротивляясь, он сжал бокал побелевшими пальцами, поднес к губам и одним глотком осушил. Джованна почувствовала, что вот-вот потеряет сознание, хотя никогда еще она так не упивалась жизнью казалось, ликовала даже материя, из которой было сшито ее платье.
Поначалу она не приметила в поведении юноши ничего особенного, лишь голос его стал звонче, а слова, срывавшиеся с губ, приобрели странный смысл благодаря интонации, с какой Паоло произносил их. Спустя несколько минут, пораженный изменившимся тембром своего голоса, он замолк, будто прислушиваясь к странному постороннему звуку. Собственный голос отдавался у него в ушах подобно морскому прибою, который шумит в раковине. Он даже потряс головой, желая прогнать наваждение.
— Форма множественного числа, о которой мы говорили, употребляется и в моем диалекте, — продолжил он, объясняя грамматику.
Едва он произнес слова «в моем диалекте», как его потянуло в родной город, занесенный снегом почти круглый год. Обычно снег вселял в него уныние, но теперь, на расстоянии, представлялся Паоло сверкающим, точно россыпь алмазов, от этого снежного блеска над городом поднималось голубое сияние. Все короткое лето, днем и ночью, это сияние не гасло, а в зимние дни, звеневшие безмолвием, оно казалось творением святых. Он вспомнил реку, затянутую льдом, со скрепами железных мостов, и заснеженные площади: город манил его, как мираж. Прежде Паоло никогда не поверил бы, что можно воспылать страстью к каменному призраку.
В этом городе жила его сестра Сигрид, монахиня, девушка простодушная, толстая и неуклюжая. Родители решили отправить ее в монастырь именно потому, что она некрасива и бедна; но не было человека счастливее Сигрид. Она купалась в счастье, даже не отдавая себе в этом отчета. Паоло громко рассмеялся, представив, как она, неповоротливая, нескладная, бродит по монастырю, а душа ее между тем взошла на верхнюю ступеньку лестницы Иакова и радуется встрече с ангелами.
Он вздрогнул, смутившись от собственного смеха. Что он делал, пока в его голове вертелись эти мысли? Неужели продолжал занятие? Паоло ужаснулся, вообразив, что сказал вслух то, о чем думал. Позабыв об уроке, который казался ему бессмысленным, юноша произнес те страстные, высокопарные слова, из-за которых теперь сгорал от стыда. Джованна не отрываясь смотрела на него, и он почувствовал себя актером на сцене. Однако порыв угас, в душе образовалась пустота, и эту пустоту стало постепенно заполнять то, чему он сперва не мог дать названия, — потом он догадался, что это стыд расползается у него внутри темным, липким пятном. Ни в коем случае не следовало высказывать синьоре свои сокровенные мысли и вести себя, как мальчишка. Отзвук собственного смеха был для Паоло словно удар хлыста.
Он уставился на Джованну, молча изучая ее. «Какая безобразная и вульгарная женщина, — думал он. — У нее и так темные круги под глазами, а она еще густо накрасила веки. Кожа до того бледна, что румяна на щеках выглядят нелепо и наводят на мысль о чахотке. Морщин столько, что все лицо словно исказила страшная гримаса. Золотое колье сдавливает шею, которая из-за этого кажется совсем дряблой. Моя госпожа похожа на ряженый скелет. Да, ее плоть умирает».
То, что думал Паоло, было столь оскорбительно по отношению к сидящей перед ним женщине, что он немедленно раскаялся. За раскаянием пришла жалость, такая щемящая и пронзительная, что юноше показалось, будто его хлещет ветер и обжигает пламя. Жалость пробудила в нем незнакомое прежде чувство: она превратила его из мальчика в мужчину, придав уверенности; Паоло казалось, что отныне эта женщина в его власти.
— А почему бы вам тоже не выпить? — спросил он.
Джованна покачала головой и голосом, в котором сквозило отвращение, ответила:
— Я не пью.
Эти слова привели его в легкое замешательство. Паоло думал, что вино сблизит их, но Джованна не разделяла его мыслей и сидела напротив — бледная, чистая и такая далекая. Он чувствовал себя до боли одиноким, и его влекло к этой женщине. Паоло отчетливо видел каждую морщинку на ее лице, и ему хотелось нежно прикоснуться к этой иссушенной, поблекшей коже.
— Дай мне поцеловать твою руку, — попросил он.
Джованна вздрогнула и, побледнев еще сильнее, отдернула руку. Он понял смысл этого жеста, и по спине у него пробежал озноб, а губ коснулась смущенная улыбка: к Паоло вернулась прежняя застенчивость.
Обретя небывалую ясность восприятия, он читал все, что творилось в ее душе.
Джованна понимала, что ее заветное желание исполнилось, но ее ужасало то, что она сама все это подстроила. С детства она верила, что слеплена совсем из другого теста, чем остальные, — возможно, даже высечена из сверкающего алмаза, — поэтому люди вызывали у нее отторжение и брезгливость. Сейчас эти чувства были так сильны, что Джованна едва не упала в обморок.
Юноша по-прежнему не сводил с нее глаз; он сидел, положив руки на колени и открыв рот от изумления.
— Что вы себе позволяете? — проговорила она, задыхаясь от возмущения.
Он провел рукой перед глазами, будто отгонял насекомое, и, сам того не желая, пылко произнес:
— Сжальтесь надо мной.
Он сам поразился собственным словам. Разве не эта женщина мгновение раньше вызывала у него сострадание? Теперь Паоло было жаль самого себя, и эта жалость унижала его, лишала мужества и превращала в трусливое животное. Настала ночь, умолкли крики крестьян, которыми те подзывали лошадей; лишь изредка слышалось ржание — что-то снилось коням в их диких, беспокойных снах. Керосиновая лампа ярко освещала Джованну, но свет падал только на фигуру, а лицо оставалось в тени, и разглядеть его было невозможно. Драгоценные камни при малейшем движении отбрасывали ослепительные отблески на лицо Джованны, на миг выхватывая его из мрака. Платье из зеленого бархата, с изящным поясом, не скрывало недуга, что терзал ее тело, она казалась несчастной и словно взывала о помощи.
«Боже, как она красива!» — подумал Паоло. Внезапно его пронзила острая боль, от которой сердце бешено заколотилось и перехватило дыхание.
— Госпожа, погаси свет, — попросил он смиренно. — Я больше не в силах смотреть на тебя.
Он даже не заметил, как обнял Джованну и стал целовать ее жесткие кудри и увядшие щеки, которые пахли пудрой; юноша изнемогал от страсти, захватившей в плен его душу и лишившей покоя.
Глухой стон вырвался из груди Джованны; она затрепетала, как птица, пойманная в силки; неистовый пыл юноши вызвал у нее отвращение, хотя она видела, сколь нежен Паоло, и понимала, что он неспособен причинить ей зло. Она быстро вырвалась из его объятий.
— Уходите, — приказала она, и на ее лице было написано презрение. — Вон отсюда!
Юноша стал искать упавшие на пол очки, согнувшись, он ходил по утонувшей в ночном мраке комнате и шарил руками перед собой. Отыскав очки, он поспешно ушел в свою комнату. Джованна в который раз увидела его сутулую спину и плечи, худые, узкие, как у подростка, который слишком быстро вырос. Паоло заперся у себя, всю ночь его преследовал, лишая сна, призрак Джованны, чарующий и прозрачный.
В скромной комнате юноши были только грубый черный стол, заваленный книгами, высокий узкий шкаф с мутным зеркалом на дверце, пара соломенных стульев, кровать из орехового дерева да ночной столик, на котором лежали Библия и фотография Сигрид. Я нарочно упоминаю все эти предметы мебели, поскольку среди них, то прячась и сливаясь с ними, то возникая снова, всю ночь мелькал призрак Джованны — безобразный, но в то же время манящий и болезненно трогательный. Призрак, сотканный из безграничной нежности и жестокости, был так похож на Джованну, что Паоло узнавал каждую ее черточку Едва он пытался заключить призрак в объятья, как тот с презрительной усмешкой протекал сквозь него. Юноша переменил тактику, стал почтительным, не смея коснуться призрака, он отчаянно боролся с собой, поскольку каждая клеточка его тела, как пламя к небу, стремилась к Джованне. Невероятных усилий стоило ему обуздать свой пыл, и он почувствовал себя изможденным. Ночь напролет Паоло метался на влажных от пота простынях, надеясь, что призрак не догадается о его томлении. Он выбился из сил, однако не прекращал разговаривать со своей возлюбленной, и голос его был звучен, как бывает звучен всякий голос, что заставляет нас пробудиться ото сна.
Паоло умолял призрак не покидать его и выслушать; но тот, желая поиздеваться над юношей, несколько раз притворялся, будто исчезает, а потом появлялся в углу комнаты, глядя на Паоло пристально и задумчиво. Это можно было бы сравнить с детской игрой, не будь лицо призрака таким изможденным и печальным. Паоло продолжал разговаривать с ним, хотя понимал, что это бессмысленно — все равно что обращаться к камню. Юноше было известно, что призрак не знает его языка, тем не менее он не мог сдержаться и говорил без умолку.
Иногда Паоло поверял призраку сокровенные мысли, хотя понимал, что они тому глубоко безразличны.
— Знаю, тебе нет до меня дела, — прерывал сам себя юноша, будто извиняясь, — и все же позволь говорить с тобой.
Он рассказывал призраку о своем детстве, о далеких и давно канувших в прошлое эпизодах, которые теперь всплыли в памяти. Он вспомнил, например, как однажды на Пасху отец случайно наступил сапогом на его любимого цыпленка и раздавил бедняге голову. Паоло положил умирающего птенца на подоконник, куда падало солнце, в надежде, что цыпленок поправится. Разговаривая с тенью Джованны, юноша вспоминал мельчайшие подробности своей жизни, и они представали перед ним в новом свете, обретая значительность и глубокий смысл; ему казалось, что он извлекает их из самых потаенных уголков своей души — это было болезненно, но вслед за болью приходило чувство невероятной легкости. Паоло признался, что с детских лет мечтал стать героем, и прочитал от начала до конца стихотворение, которое написал в двенадцать лет.
Призраку явно наскучили эти откровения. Юноша видел, как тот зевает, готовый вот-вот заснуть и раствориться в темноте, и будил его громким криком.
От одной мысли, что двойник Джованны, пусть даже призрачный, может исчезнуть, его бросало в холодный пот. Еще совсем недавно он и представить не мог, что станет рассматривать всю свою прошлую жизнь как непрерывный поиск той удивительной женщины, к которой его теперь так влекло. Потребность в дружбе, общении, любви, богатстве, желание славы, в котором он не признавался и самому себе, стремление совершить благородный поступок, а также прочие желания, продиктованные то ли себялюбием, то ли великодушием, — все это слилось в трепещущий огненный ком, из которого выплывало одно-единственное лицо, непохожее на другие. Паоло жаждал, чтобы ему принадлежали эти глаза и губы, чтобы его плоть всегда хранила след от их прикосновения, но чувствовал лишь влажные от пота простыни. Призрак манил юношу к себе, пробуждая в нем одновременно сострадание и алчность, ненависть и обожание. Чтобы выставить себя в более выгодном свете, Паоло поведал призраку о своих планах на будущее. Подробно рассказал о своем открытии в области философии, которое касалось устройства Вселенной, — эту новую концепцию он думал изложить в нескольких томах, убежденный, что таким образом прославится. Он признался также, что, вернувшись на родину, создаст школу, окончив которую, люди станут мудрыми и отважными, он даже присмотрел место для этой школы — неподалеку от монастыря Сигрид.
— Ты поедешь со мной? — спросил он.
Паоло распахнул перед призраком свою душу, поделившись самыми дорогими воспоминаниями и мечтами. Однако, натолкнувшись на полное безразличие, юноша в конце концов пришел в отчаяние и стал выкрикивать оскорбления, сыпать бранью и колкостями. Вскоре, опомнившись и желая загладить вину, он заговорил с Джованной ласково и нежно, изобретая слова наивные и смешные, похожие на те, что придумывают матери, качая ребенка на коленях. В то же время Паоло хотелось уничтожить призрак, чтобы освободиться от его власти раз и навсегда.
Целую ночь Джованна не могла преодолеть своей подавленности, иногда ей казалось, что у нее замирает дыхание, но потом она вздрагивала, словно в приступе безудержного смеха. Голова ее клонилась набок, как у тряпичной куклы, тело ломило, а ноги бессильно подгибались. Паоло между тем молил ее о пощаде и просил не уходить, остаться подле него — так, как просят о милости Господа Бога.
Но к чему так долго рассказывать об этой ночи? С первым криком петуха призрак исчез, как это случается на рассвете со всеми призраками. Он поник, как марионетка, которую заставляла двигаться рука актера и которая после спектакля становится безжизненной тряпкой. Призрак Джованны был проглочен последней каплей тьмы, что осталась в углу комнаты. Юноша встал с постели — накануне, даже не заметив того, он лег одетым.
Паоло казалось, что вся тяжесть его жизни стекла в колени, отчего каждый шаг давался с трудом. Тело налилось тяжестью, это мешало, сковывало и было сродни недугу, какой овладевает человеком во время болезни. Каждая мышца ныла, была напряжена, каждое движение доставляло тупую боль. Однако мозг продолжал работать, словно механизм, приводимый в движение обезумевшими шестеренками, — он вновь и вновь перемалывал ночной сон, отчетливый и причиняющий невыносимую боль.
Паоло подошел к двери спальни Джованны, и на мгновение в нем пробудился юношеский пыл: ему захотелось жить, совершать подвиги, нестись на крыльях надежды. Нежный, сладостный огонь обжег ему губы, когда он прижался ими к двери с такой силой, что на дереве остался кровавый след.
Небо было затянуто тучами, забрезжил рассвет, разливая по небу едва заметное сияние. Послышались людские голоса, лошади, стряхнув в себя сон, бродили среди каменных надгробий.
В церковь вошел пономарь с длинным смоляным факелом в руке и зажег свечи на алтаре; отблески пламени метнулись на пол, где, преклонив колени, плакал Паоло. Он заламывал руки и по-детски всхлипывал — крестьяне, собравшиеся в церкви на утреннюю мессу, смеялись, глядя на него. Они совсем отвыкли от смеха, суровые, изможденные лица словно трескались от улыбок — их скрывала тень от широкополых шляп, из-под которых выбивались черные кудри. Мраморные статуи, замершие на широких постаментах, с одинаковым выражением лиц, столпились вокруг Паоло, впившись в него слепыми глазами. Юноша с трудом поднялся — он уже знал, что плакал напрасно. Он был похож на запутавшуюся в паутине муху, которая отчаянно пытается вырваться, но обречена на гибель. Паоло пошел лугами, по утренней росе, мимо черных скал, шатаясь, как пьяный. На губах его блуждала странная, рассеянная улыбка, прядь светлых волос падала на глаза. Он шагал, ничего не замечая вокруг.
Говорят, что на пути его ждали необычайные приключения. Кто-то видел, как он, изо всех сил напрягая мышцы, с молодецкими криками бил кулаками в громадные скалы. Вероятно, вместо камня Паоло видел могучего противника, которым он с детства восхищался и чьей силе завидовал, — он поклялся, что однажды победит его. Тот являлся ему в образе солдата, лицо которого — бледное, усталое, с густыми бровями — сияло особенной, ни с чем не сравнимой красотой. Этот человек, явившийся Паоло на безлюдной равнине, воплотил в себе все, что юноша любил и ненавидел.
Паоло одолел противника и упал на растрескавшуюся землю. Вскоре мимо прошла лошадь; поравнявшись с Паоло, она встала на дыбы, как делают животные, наткнувшись на мертвеца.
Юношу похоронили на следующий день, скромно, без поминок: в той далекой стране он не успел завести друзей. В воскресенье днем Джованна вышла на прогулку, надев широкое светло-коричневое платье и шляпу с белыми перьями. Весь мир, казалось, ликовал, радуясь ее появлению, — точно так ликует все вокруг, чувствуя присутствие существ, родившихся совсем недавно, — младенцев или молодых деревьев. В ее жилах будто текла новая кровь, своим стремительным и легким бегом напоминавшая чистую воду в реке. Лицо утратило былую свежесть, однако это украшало Джованну, добавляя прелести выразительным глазам и губам. Никто не узнавал ее. Трудившийся в поле крестьянин, позабыв на миг о работе, воскликнул: «Боже, до чего ты красива!»
Она спрятала благодарную улыбку за красным кружевным веером и залилась нежным румянцем.
Критика