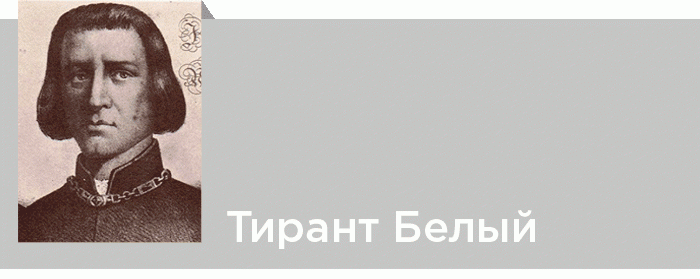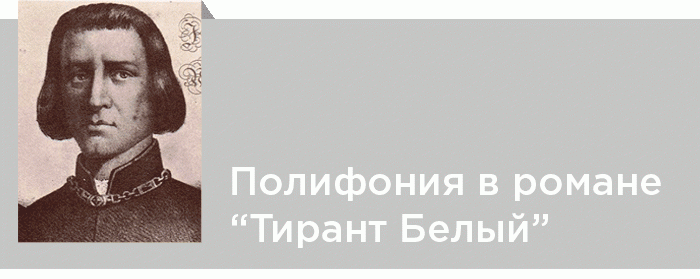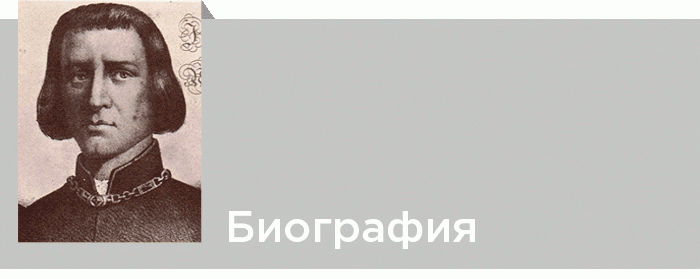Особенности авторской позиции в «Трагикомедии о Калисто и Мелибее» Фернандо де Рохаса

А. Г. Османова
Для литературы средневековья характерна известная «жесткость» авторской позиции по отношению к действующим лицам: персонажи ведут себя в соответствии с литературным «этикетом» и амплуа в данном литературном жанре, их поступки обусловлены авторскими намерениями, а не логикой развития характера.
В литературе эпохи Возрождения начинается процесс «освобождения» действующих лиц от авторской воли. На первоначальной стадии подобная «автономизация» означает отход от устоявшихся амплуа, нарушение «этикетных» закономерностей в поведении персонажа, в связи с чем он становится способен на «неожиданные» по сравнению со своим средневековым прототипом поступки.
Эта закономерность отчетливо прослеживается в «Трагикомедии о Калисто и Мелибее» (1499-1502) испанского писателя Фернандо де Рохаса (ок. 1476-1541), известной более под названием «Селестина», — произведении, созданном в период перехода испанской литературы от средневековья к Возрождению. В частности, нарушение средневековых нормативов наблюдается у Рохаса в трактовке образа автора.
Проведем границу между авторской позицией Фернандо де Рохаса и «образом автора» или «голосом автора». В «Селестине», произведении по форме драматическом (оно написано диалогами), высказываются только действующие лица и никто, кроме них, никакой «автор» или рассказчик участия в действии не принимает. Тем не менее в «Трагикомедии» имеется ряд «авторских» высказываний, ряд проявлений непосредственно «авторского голоса»: это вводный и заключительный фрагменты, в совокупности создающие своего рода «обрамление», в котором и возникает «образ автора». «Обрамление» включает четыре компонента: во-первых, предваряющее «Селестину» послание «Автор своему другу», во-вторых, акростих, имеющий целью сообщить сведения об авторе произведения (первые буквы каждой строки складываются в слова «Бакалавр Фернандо де Рохас закончил комедию о Калисто и Мелибее и родом происходил из деревни Монтальван»), в-третьих, следующий за ними «Пролог», а также помещенное по окончании «Трагикомедии» стихотворное заключение «Автор заканчивает, предназначая эту книгу для той цели, для какой он ее завершил».
«Обрамление» возникло не сразу. В первом известном издании «Селестины» (Бургос, 1499) оно отсутствует; однако в связи с тем, что в единственном сохранившемся экземпляре этого издания не хватает первой страницы, было высказано предположение, что послание «Автор своему другу» имелось уже тогда. Следующее издание (Севилья, 1501), в целом аналогичное предшествующему, включает как послание, так и акростих. И наконец, исправленное и дополненное пятью новыми актами севильское издание 1502 г. содержит помимо послания и акростиха еще «Пролог» и стихотворное заключение, т. е. все «обрамление» целиком. Можно сделать вывод, что в процессе работы над «Трагикомедией» Рохас стал придавать «образу автора» все большее значение.
В послании «Автор своему другу» Рохас рассказывает историю создания книги. Будучи студентом, он прочитал начало этого произведения, написанное неизвестным автором. Этот отрывок так понравился Рохасу, что он «набрался дерзости» написать продолжение. Все сочиненное «старым автором» Рохас объединил в I акт, а далее работал сам, и настолько увлеченно, что закончил «Комедию» за 15 дней каникул. Для нашего исследования наибольший интерес представляют те места послания, в которых Рохас поясняет, чем именно ему понравилось творение «старого автора»: «Я увидел, что оно не только пленяет своим повествованием или общим замыслом, но что на одних страницах пробиваются сладостные роднички философских рассуждений, а на других встречаются забавные шутки, советы и предостережения против льстецов, дурных слуг и лживых женщин-колдуний».
Подчеркивая значение дидактических высказываний, которыми столь богата «Селестина», Рохас повторяет, что неизвестный сочинитель «достоин вечной памяти за искусную выдумку, за обилие мудрых мыслей, вкрапленных в книгу под видом прибауток».
Те же соображения Рохас высказывает и в акростихе, сообщая, какие достоинства найденной им анонимной рукописи побудили его писать продолжение. И далее, в «Прологе» он вновь указывает, что «тот, кто стремится к подлинному наслаждению, отбросит занимательность повествования и выделит его суть; он воспользуется выводами, посмеется остротам, а изречения и мысли философов сохранит в памяти, и они пригодятся ему для собственных его поступков и намерений». В заключительном стихотворении Рохас шутливо рекомендует читателю самому «отобрать хорошие зерна от плевел» и извлечь серьезный урок из вольной истории.
Мы видим, что Фернандо де Рохас устами «автора» неоднократно повторяет, что ценность своего произведения он усматривает в нравоучении, получающем двоякую реализацию: обличение дурных слуг и сводней, с одной стороны, с другой — набор поучительных сентенций и «мудрых» мыслей. В XX в. подобной точки зрения, разумеется, с привлечением новейших исследовательских данных, придерживался выдающийся французский филолог М. Батайон, защищавший гипотезу о назидательных по преимуществу намерениях Рохаса и соответственно дидактическом характере жанра «Селестины». «Трагикомедия», по мнению Батайона, представляет собой грандиозный «exemplum», или «моралите», преследующий главным образом цели улучшения нравов, хотя и использующий для этого «в большей мере литературную развлекательность, чем пуританские проповеди». В свете подобной концепции послание «Автор своему другу» и акростих выступают как вполне закономерное выражение авторских намерений, однако «Пролог», в котором писатель излагает срои философско-мировоззренческие взгляды, представляется Батайону не более чем «риторической прелюдией».
На наш взгляд, однако, значение «Пролога» для правильного понимания художественной системы «Селестины» и идейно-художественного замысла Рохаса очень велико. «Пролог» представляет собой как бы одну гигантскую, разросшуюся сентенцию, обширное «философское рассуждение», подробное изложение «мудрой мысли». Он открывается изречением Гераклита «Все сущее творится в распрях или битвах» и содержит пересказ ряда положений, заимствованных в основном из I книги морально-философского трактата «О средствах против милостивых и враждебных судеб» Франческо Петрарки. Центральная мысль «Пролога» в том, что мир природы и людей является ареной непрерывной и бесконечной борьбы, всего и вся, да и «сама жизнь человеческая, если приглядеться к ней, с детских лет и до седых волос есть не что иное, как сражение».
Само решение писателя предварить свое произведение некоторым «теоретическим обоснованием» свидетельствует, на наш взгляд, о том, что, осознавая нетрадиционность своей интерпретации дидактических «клише», Фернандо де Рохас счел необходимым во всеуслышание заявить: он опирается на опыт наиболее уважаемых мыслителей своего времени, и в частности такого общепризнанного авторитета в области нравственно-философской проблематики, как Петрарка. Вместе с тем, декларируя, что максимы «традиционной премудрости» составляют главную ценность «Трагикомедии», писатель сознательно вступает в противоречие с собственной художественной практикой, так как принцип «всеобщей борьбы», определяющей, по мысли Рохаса, отношения между людьми, регламентирует, в свою очередь, значение сентенций и афоризмов в художественной ткани его произведения.
Таким образом, «обрамление» в «Селестине» предназначено для «проницательного читателя», который сумеет в дальнейшем отделить истинный замысел автора от декларированного. Указание Рохаса на то, что «мудрыми изречениями» читатель должен руководствоваться и в собственной жизни, следует воспринимать отнюдь не буквально: ведь «теоретические познания», которыми щедро наделены главные действующие лица «Трагикомедии», не помогли ни одному из них избежать гибели.
Изобилие в «Селестине» афоризмов, сентенций и реминисценций из античных и средневековых философов и писателей в разные эпохи вызывало к себе различное отношение. Для современников Рохаса и читателей XVI-XVII вв. они представляли, бесспорно, большой интерес. Критика XIX — начала XX в. (в частности, Хуан Валера и М. Менендес Пелайо) отмечала, что в эпоху «золотого века» испанской литературы эта «премудрость» весьма ценилась, однако современного читателя она утомляет, поэтому к ней должно отнестись со снисходительностью, учитывая литературные условности того периода, когда была создана «Трагикомедия».
Ряд филологов XX в. рассматривает «афористичность» «Селестины» как принадлежность ее стилистики. Такого мнения придерживаются итальянские ученые Б. Кроче и К. Самони, близкую точку зрения высказала и аргентинская исследовательница М. Р. Лида де Малькиель: «Эрудиция является одним из аспектов изысканного языка всех действующих лиц, это искусственная и приятная, условность, художественный прием, подобный тому, что персонажи комедии Золотого века говорят стихами или же участники оперы поют». Однако и эта исследовательница признает, что «для современного читателя изобилие цитат, сентенций, мифологических и исторических аллюзий в «Селестине» резко диссонирует с живостью и выразительностью ее как драмы», да и вообще нагромождение эрудиции в целом противоречит рохасовскому художественному идеалу «realismo verosímil», «жизненного правдоподобия». В особенности недоумение как, Лиды де Малькиель, так и Кроче и Caмони вызывает тот факт, что афоризмами и реминисценциями изъясняются все действующие лица, независимо от их социального положения и образовательного уровня. Высказывания древних мудрецов звучали бы убедительно в устах героев благородного происхождения: Калисто и Мелибеи или же родителей девушки, но никак не в устах слуг и проституток, а тем более сводни Селестины, которой отнюдь не пристало цитировать Аристотеля, Сенеку, римских поэтов и Евангелие.
Вместе с тем, как мы уже отмечали, для испанской литературы XV в., да и вообще для позднесредневековой и раннегуманистической литературы ученые реминисценции были привычны и даже желательны, они исполняли очень существенную в стилистическом отношении амплификативную функцию.
Ученые реминисценции в амплификативной функции в испанской литературе XV в. встречаются, например, в прозе Переса де Гусмана, в поэзии Франсиско Империаля, маркиза де Сантильяны и др. Интересную параллель к стилю «Селестины» можно найти в «Строфах на смерть отца» Хорхе Манрике:
...Октавиан в удаче, Юлий Цезарь в победах И сражениях,
Африкан в добродетели, Ганнибал в мудрости И трудах...
...En ventura Otaviano Julio Cesar en vencer y batallar
en la virtud Africano Aníbal en el saber y trabajar...
У Рохаса же Селестина следующим образом описывает Мелибее Калисто:
«По щедрости он — Александр; по отваге — Гектор, по внешности — король, остроумен, весел, никогда не унывает, благородной крови, как тебе известно; большой любитель турниров, а наденет доспехи — прямо святой Георгий! Что же до силы мужества, то у самого Геркулеса было меньше. А какие черты лица, какая осанка, учтивость, непринужденность — нет, мой язык не сумеет этого описать! Все вместе взятое — ангел небесный! Право, не так был красив прелестный Нарцисс, который влюбился в собственный образ, увидев его в водах источника».
Это один из примеров того, как с помощью использования ученых реминисценций для сравнений и параллелей язык Рохаса приобретает художественную завершенность в духе стилистических рекомендаций и нормативов своего времени. В качестве примера другого рода можно привести аналогию в построении монологов Лериано — героя «сентиментальной повести» «Темницы любви» (1492) Диего де Сан Педро и персонажа «Селестины» Плеберио, отца Мелибеи. Свою предсмертную речь «Лериано против Тефео и всех, кто дурно отзывается о женщинах» герой Сан Педро строит на перечислении доводов и рассуждений о верности и добродетели женщин, а в разделе «Примеры в доказательство женской доброты» он перечисляет имена как персонажей Библии и античной литературы, так и имена реальных женщин, известных в истории Испании, сопровождая каждое коротким рассказом о деяниях героини.
«Порция, дочь благородного Катона и жена Брута, доблестного мужа, когда узнала о смерти своего супруга, то, удрученная тяжким горем, покончила с жизнью, проглотив горящие уголья, чтобы принести в жертву самое себя...
Юлия, дочь Цезаря, первого в мире императора, будучи женой Помпея, так его любила что, когда однажды принесли его окровавленные одежды, она решила, что он погиб, и сама упала наземь и внезапно умерла...»
В заключительном монологе-плаче Плеберио есть фрагмент, в которой он сравнивает свою беду с подобными несчастьями в жизни известных исторических лиц:
«В моем горе не найти мне себе подобного, сколько ни перебирает моя измученная память всех, кто страдал в древности и в наше время. Меня не восхищают стойкость и терпение римлянина Павла Эмилия, который потерял в течение семи дней двух сыновей и сам утешал друзей, вместо того чтобы выслушать их утешения: ведь у него оставалось еще двое приемных детей. Разве годятся мне в товарищи Перикл Афинский или мужественный Ксенофонт — ведь они лишились сыновей, находившихся вдали от них...
Еще труднее тебе будет, о мир, исполненный зла, сравнить меня с Анаксагором; он сказал, потеряв единственного сына: «Я знаю, что я смертен, а следовательно, обречен на смерть и тот, кто был мною зачат».
Рохас использует цитаты и реминисценции и в других формах. Приведем один из случаев перевода-пересказа, указанных Ф. Кастро Гисасолой. Калисто в V акте, ожидая в нетерпении прихода Селестины, произносит следующую фразу: «Теперь мне ясно, что смертного приговора ожидать тягостнее, нежели смертного часа». Как установил испанский филолог, эти слова восходят к овидиевой жалобе покинутой Ариадны («Героиды», X, ст. 62): Morsque minus poenae quam mora mortis habet. Они использованы также Сенекой Риториком («Controversias», III, 5): Crudelius est quam mori semper mortem timere, — и фигурируют среди «Пословиц», приписываемых Сенеке: Mortem timere crudelius est quam mori.
Вместе с тем использование цитат и афоризмов действующими лицами «Трагикомедии» не всегда носит безличный, механический характер. Наряду со стилистически-аплификативной функцией, оно, по мнению М. Р. Лиды де Малькиель, бывает обусловлено характером и намерениями персонажей. Так, Селестина, совращая слугу Пармено, юношу проницательного и склонного к нравоучениям и морализации, использует целый «арсенал» премудрости: афоризмы Алонсо Тостадо, Сенеки, Вергилия, Аристотеля, библейские изречения и пр.; в разговоре с Мелибеей, утонченной и образованной девушкой, старуха, апеллируя к ее доброму сердцу и жалости, приводит цитаты из Библии, из произведений Петрарки и античных авторов. Для совращения же проститутки Ареусы ей нет нужды в столь «высоких материях», достаточно нескольких народных пословиц и поговорок да указания на пример ее подруги Элисии. «Эрудиция старухи, — делает вывод Лида де Малькиель, — выступает как один из методов ее стилистического приспособления к собеседнику, с помощью которого она добивается доверия того, с кем имеет дело».
Однако, на наш взгляд, значение цитат и афоризмов в «Трагикомедии» ни в коем случае не ограничено двумя функциями. Ведь если рассматривать всю эту «премудрость» независимо от ее значимости в идейно-художественном контексте произведения, то «Селестина» может превратиться в некий «свод» дидактики XV в. Необходимо, напротив, интерпретировать этот элемент поэтики произведения в неразрывном единстве с общей мировоззренческой концепцией Рохаса.
Для осознания специфики употребления Рохасом ходячих сентенций и клише «премудрости» своего времени уместно использовать категорию «поливалентности» художественного текста, которая подразумевает наличие в нем отсылки к некоему предшествующему тексту, заключенные в нем возможности вызывать у читателя в большей или меньшей степени определенные ассоциации с предшествующими способами построения высказывания.
Если обилие учёных реминисценций рассматривать в качестве механических «заимствований», а не как проявление поливалентности «Селестины», то произведениё неминуемо превратится в свод морализации своего времени,
в энциклопедию позднесредневековой нравственной философии, и за этим пропадет ее целостность и значение как художественного произведения. В «селестиноведении» имеются образцы подобного позитивистского подхода к тексту «Трагикомедии». Наиболее последовательно этот подход выявился в книге Ф. Кастро Гисасолы «Наблюдения над литературными источниками «Селестины», представляющей собой подробнейший этимологический анализ ученых цитат и реминисценций в произведении. Эта книга и сегодня остается ценнейшим пособием справочного характера, но не более того, ибо никаких выводов или обобщений касательно художественного метода Рохаса испанский филолог не сделал.
В целом не свободна от аналогичного подхода книга английского испаниста А. Д. Дейермонда «Петрарковские источники «Селестины», являющаяся итогом очень тщательной текстологической и источниковедческой работы, в результате которой Дейермонд уточнил размеры и источники рохасовских заимствований у Петрарки и провел их количественный, тематический и сравнительно-стилистический анализ. Он показал, что заимствования Рохаса имеют своим источником «Индекс» к собранию латинских сочинений Петрарки (Principialium sententiarum ex libris Francesci Petrarchae collectarum summaria Annotatio. Basle, 1496. Издано в качестве дополнения к «Opera» Петрарки), а также его сочинения «De remediis utriusque fortunae», «De rebus familiaribus» и «Bucolicum carmen».
Выводы английского исследователя касаются в основном мировоззренческих аспектов творчества Рохаса; по мнению Дейермонда, влияние Петрарки в философском содержании «Трагикомедии» очень значительно, особенно в том, что касается трактовки тем судьбы, любви и дружбы, «вплоть до того, что к большей части произведения применим эпитет «петраркистская» (petrarchan)». В осмыслении ряда философско-этических проблем, например проблемы смерти, между Петраркой и Рохасом существуют и расхождения. В целом книга Дейермонда отличается доказательностью, однако убедительности его интерпретаций мешает то, что в его исследовании происходит сравнение сочинений принципиально различного типа. Поскольку Рохас заимствует сентенции из философских и морально-этических трактатов Петрарки, а «Селестина» является произведением художественным, идейно-философский анализ этих заимствований не следует проводить в отрыве от анализа их структурно-стилистического значения в художественной ткани произведения. Между тем аспекты, если можно так сказать, «поэтики» заимствований остались у Дейермонда на втором плане, несмотря на ряд интересных наблюдений в этой области. Так, ученый отмечает, что Рохас чаще не буквально переводит высказывания Петрарки, а свободно их пересказывает; непосредственная ссылка на Петрарку имеется только один раз в «Прологе», а цитаты Рохас очень часто вводит словами «говорят», «известно» и т. п., указывая, таким образом, на широкую распространенность этих мыслей. «Тем самым Рохас сочетает атмосферу непринужденной беседы с демонстрацией того, что изречения принадлежат признанному авторитету», — отмечает Дейермонд.
Более методологически плодотворными поэтому нам представляются рассуждения о связях Рохаса и Петрарки у Ст. Джильмана. По мнению американского филолога, следует говорить не столько о «влиянии» Петрарки на Рохаса, сколько о том, что обоих писателей волновали одни и те же или близкие моральные и философские вопросы. Именно поэтому Рохас и обращался столь широко к трактатам Петрарки; однако цитаты и высказывания, заимствованные у итальянского автора, следует воспринимать не как мнения самого Рохаса, но как объект одновременно философского осмысления и художественного отображения, как «тему» произведения, если использовать термин Джильмана. Рассуждая о художественном значении философских реминисценций, ученый называет их «общими местами» и считает, что, как правило, традиционное содержание подобного высказывания противоречит его действительному использованию в развитии действия. В контексте каждой данной ситуации «общие места» получают новые оттенки значений, тем самым подвергается ревизии их традиционная семантика. Таково, к примеру, рассуждение Селестины о дружбе в I акте, обращенное к Пармено:
«И вообще, кто согласится жить без друзей, обладая богатством? А у тебя-то, оно, слава богу, есть. Неужели ты надеешься сохранить его без помощи друзей? И не думай, что твоя близость к этому сеньору даст тебе покой; чем больше денег, тем меньше покоя. Но во всех превратностях помогают друзья. А где же еще ты найдешь сочетание трех видов дружбы, а именно: дружбы полезной, дружбы выгодной и дружбы приятной?..
В дальнейшем от акта к акту Пармено как будто послушно следует советам Селестины: действительно, с Семпронио у них завязывается «дружба» полезная (ибо вдвоем им легче обманывать Калисто), выгодная (ибо они рассчитывают оба хорошо поживиться) и приятная (ибо они могут проводить время со своими возлюбленными Элисией и Ареусой). Однако эта дружба, или, вернее, сообщничество, приводит их к гибели. Ирония Pоxaca проявляется еще и в том, что Селестина, сама способствовавшая сближению Пармено и Семпронио, становится затем их жертвой. Как отмечает Джильман, безусловно справедливое, казалось бы, суждение может в определенной ситуации выражать у Рохаса свою противоположность. На примере этого и других «общих мест» отчетливо выступает критическое отношение Рохаса к непререкаемости «авторитетных высказываний». Их значение в «Селестине» обусловлено теми конкретно-жизненными обстоятельствами, в которых они используются. Можно сделать вывод, что отношение Рохаса к максимам современной ему моральной философии отличается своеобразной «диалектичностью», а традиционные истины преподаются писателем не в качестве непреложного абсолюта, но в противоборстве их отвлеченно-умозрительного и конкретно-жизненного применения, в динамике абстрактного обсуждения, с одной стороны, и спонтанной жизненной реализации — с другой.
Уже в I акте задан тон для восприятия философских клише и сентенций. Вот Семпронио убеждает Калисто не поддаваться любовному чувству. Калисто на это возражает: «Тому, кто учит другого, не пристало лгать; ты-то сам превозносишь свою подругу Элисию». На что слуга отвечает: «Следуй моим добрым советам, а не моим плохим делам». Вскоре после этого разговора следует длинный монолог Семпронио, обличающий хитрость и уловки женщин и составленный целиком в традициях средневекового «женоненавистничества». Но все эти мудрые рассуждения не могут помешать слуге самому очень скоро быть запросто одураченным Элисией.
Селестина говорит Семпронио: «Предоставь мне Пармено, он станет нашим, и мы уделим ему часть заработка: добро не радует, коли им не поделишься». Однако для самой Селестины эта истина несостоятельна, ибо, получив награду, она вовсе не захочет делить ее со своими сообщниками.
Приведенные цитаты в достаточной мере выявляют третью, наиболее существенную, на наш взгляд, функцию «эрудиции» в «Селестине», функцию, тесно связанную с общим идейно-художественным замыслом Рохаса. Морально-философские клише выступают у него не в качестве абсолютных и непререкаемых истин, напротив, они становятся предметом художественного осмысления.
Мы не случайно объединили проблемы рассмотрения «образа автора» и нравоучительных сентенций в «Трагикомедии». В «селестиноведении» существует тенденция рассматривать эти сентенции как «голос», как непосредственное выражение позиции писателя. На самом же деле они выражают мнения не Фернандо де Рохаса, но «автора-рассказчика», являющегося самостоятельным образом в произведении и ни в коем случае не сливающегося с действительным автором «Трагикомедии». Непосредственно от имени «автора» в «Селестине» написано «обрамление», а далее мы улавливаем его интонации в нравоучительных и морализующих сентенциях. Морализация — это голос «автора», «позиция же самого Рохаса относительно «премудрости» — это позиция наблюдателя «извне», позиция, позволяющая размышлять и сомневаться. Писатель «диалектически» оценивает непререкаемые клише традиционной морали и проверяет их истинность применительно к живым человеческим характерам и реальным жизненным обстоятельствам.
В трактовке дидактических высказываний как раз и выступает принципиальное различие между «Селестиной» и предшествующей ей испанской литературой XV в., например, такими ее образцами, как любовная «сентиментальная повесть» Диего де Сан Педро или дидактический трактат «Бич» Альфонсо Мартинеса де Толедо. В творчестве Сан Педро и Мартинеса, несмотря на жанровые, стилистические и идеологические различия, назидательные сентенции получают прямое и однозначное толкование, они служат выражением авторского замысла и актуализируются в поступках и размышлениях действующих лиц; морализация, независимо от своего конкретного содержания (феминизм и куртуазность или осуждение женских пороков) носит бесспорно-нормативный, догматический характер.
В «Селестине» же нравственные постулаты подвергаются проверке и переосмыслению, а отношение к общепризнанным истинам — критическое, а не пиететное. Уже не априорные сентенции определяют поведение персонажей, а, напротив, каждое действующее лицо использует эти сентенции по своему усмотрению, согласно со своими личными, эгоистическими целями и намерениями. С этим кризисом традиционной системы моральных ценностей, который очень остро ощущал писатель, и связана рохасовская пессимистически-безысходная концепция человеческого существования. А в критическом отношении к средневековому догматизму, «этикетности» проявляется специфика «Селестины» как произведения раннеренессансного. Герои Рохаса не укладываются в рамки средневековых «типов» или «амплуа», им свойственны выраженный индивидуализм и самостоятельность мышления и поведения, им тесно в границах предписаний традиционной морали. Стремление показать человеческий характер не односторонне, а в его сложности и противоречивости и делает Фернандо де Рохаса одним из зачинателей испанского Возрождения.
Л-ра: Филологические науки. – 1981. – № 2. – С. 44-50.
Критика