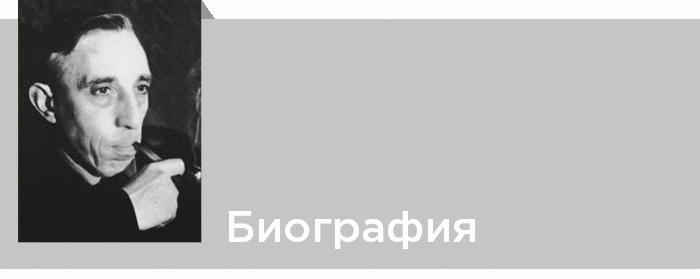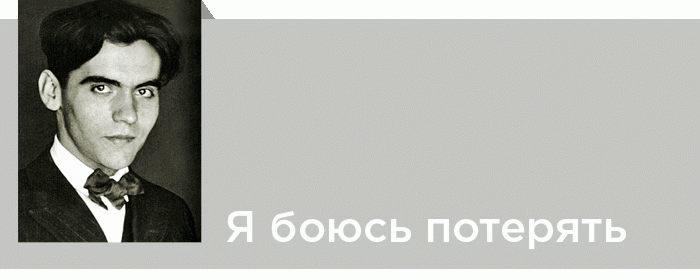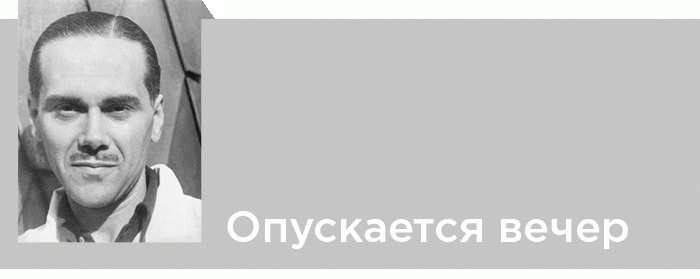Голос под маской: Луис Сернуда и другие

Борис Дубин
Предположим, ... что Шекспир, создатель стольких глубоко человечных персонажей, надумал бы поразвлечься сочинением стихов, которые мог бы написать каждый его герой... А кстати ... неужели, по-вашему, человек не может заключать в себе более чем одного поэта?
Как раз наоборот, в том и вся трудность, чтобы человек заключал в себе не более чем одного поэта.
Антонио Мачадо. «Хуан де Майрена»
...в любом поэтическом произведении... можно услышать не один голос.
Т. С. Элиот. «Три голоса поэзии»
Поэт вмещает много голосов: Мы слышим их переплетенье в хоре, Где тот, который кажется ведущим, - Один из многих, только и всего.
Луис Сернуда. «Испанский диптих»
Чем притягивает поэзия? Что заставляет вглядываться-вслушиваться в слова поэта? Вопрос, кажется, настолько понятный, что стоить чего-то может лишь соразмерно трудный на него ответ. Поэтому я попробую по возможности усложнить себе задачу. И буду, во-первых, иметь в виду не то, что стихи значат, а почему и чем они оказываются значимы, какими средствами добиваются авторитетности слова и удерживают внимание читателя-слушателя. Во-вторых, я хочу обратиться, казалось бы, к заведомо крайнему примеру, когда лирик не только до предела ограничивает себя аскетически сдержанным, бедным, никаким стилем, но и отказывается от своего, как привычно после романтиков думать, первого и последнего достояния, главного, будто бы неотторжимого и неисчерпаемого ресурса — прямого авторского «я». Поскольку же заданный в начале вопрос, понятное дело, слишком отвлечен и многозначен, то ответ я намерен искать — и это в-третьих — на вполне конкретном материале, последовательно стараясь сузить его даже не просто до творчества одного избранного поэта — испанского лирика XX столетия Луиса Сернуды (1902-1963), но, того больше, сводя им написанное лишь к одному жанровому образцу, или своеобразному циклу. В результате следующие ниже рассуждения будут иметь вид конкретно-исторического разбора, однако по замыслу они — частный случай теории литературного воздействия, общей прагматики поэтической речи.
По стихотворным переводам на русский язык отечественным читателям последних десятилетий могло показаться, будто испанская поэзия давно закончилась, оборвавшись на Лорке. Отчасти так оно, вероятно, и есть: с его гибелью, ставшей предвестием и символом падения Республики, завершилась героическая эпоха испанской литературы XX века, пора общего молодого взлета. Но лишь отчасти. Вслед за эмиграционным исходом и рассеянием начались будни инобытия, для поэзии — более рефлексивные, более индивидуализированные, в этом смысле, видимо, более сложные, а потому и менее яркие. Изо всех путей испанской лирики последующих десятилетий я выделю здесь только один: явный поворот 50-70-х годов «в сторону» Луиса Сернуды, направление и суть которого отметил в 1962 году, еще при жизни поэта, представитель следующего поэтического поколения, дебютировавшего — после затяжного перерыва, исторического спазма — уже в пятидесятые годы, Хосе Анхель Валенте (он родился в 1929-м).
Эта новая траектория, самым решительным образом определившая движение испанской поэзии и поэтической мысли вплоть до нынешнего дня, во многом связана с особенностями «медитативной поэзии» зрелого Сернуды. Я имею в виду его отстраненную от частного, биографического «я», объективную, даже «безличную», по собственному выражению поэта, стихотворную манеру — то обогащение поэтической субъективности, расширение возможностей поэтического голоса, которое Сернуда сделал одним из творческих принципов в поздних стихах. Сам автор в качестве примера приводил такие свои драматические монологи, как «Лазарь», «Кетцалькоатль», «Королевский трон», «Цезарь» (к перечисленным можно добавить большое стихотворение «Людвиг Баварский слушает «Лоэнгрина», а также некоторые другие вещи 40-50-х годов), а в очерке «Биография одной книги» (1958) пояснял истоки и смысл своей новой поэтики: «У английских поэтов, и прежде всего у Браунинга, я ... научился переносить свой эмоциональный опыт на драматизированную ситуацию, историческую или легендарную... чтобы тем самым придать своим переживаниям большую объективность, как в драматическом, так и в поэтическом смысле слова».
Подобный подход, развивающий в лирическом высказывании выразительные свойства как бы отстраненной от самого поэта и переданной театральному персонажу драматической реплики, зародился у Сернуды значительно раньше, еще в начале сороковых годов. Думаю, здесь сказалось осознание им опыта своего изгнанья (говоря его словами, «vivir sin estar viviendo») — особое раздвоенное самоощущение и визионерская оптика эмигранта, жизнь в кругу неродной речи и, напротив, преподавание материнского языка и испанской словесности людям другой, англосаксонской культуры (в Великобритании, а затем в США). Но не только это: значимы были и собственно литературные обстоятельства и традиции, попытка осмыслить уже их. Так, комментируя стихотворение «Кетцалькоатль» при его устном исполнении в 1946 году, Сернуда отмечал: «...устав от непомерной субъективности нашей нынешней лирики, я решил время от времени вводить в свои стихи условного персонажа, помещая его в определенные обстоятельства, с тем, чтобы выразить через его голос собственный опыт». Исходное тут — чувство оскомины от непомерной, безудержной и, в известном смысле, безответственной свободы поэтического субъекта в лирике эпигонов испаноязычного «модернизма», о которых, как можно полагать, здесь идет речь.
Субъект высказывания в такой лирике по-своему парадоксален. Его «я» призрачно, поскольку определено только одним: своим же собственным переживанием здесь и сейчас, о котором и даже «от лица» которого и ведется речь. Переживание в данном случае — не только предмет стихотворения, но его, можно сказать, своеобразный «герой», поскольку никого и ничего иного тут, собственно говоря, нет. Исключительность положения переживающего и говорящего «я» странно сочетается в подобных ситуациях с ограниченным кругозором всемогущего протагониста. Поэтому такое переживание легко устает, скоро сменяется депрессией, а несущее его слово с той же быстротой тривиализуется, требуя, соответственно, нового и нового лексического подхлестывания, интонационного взбадривания, эмоционального допинга.
Осип Мандельштам в похожем случае, полемизируя в 1913 году с поэтами русского символизма, говорил об их недальновидном «отказе от собеседника», страхе перед ним, за которые сам непонятый и непризнанный партнер мстит ответным равнодушием; Мандельштам, в стихах и прозе которого позже, в тридцатые годы, «собеседник» станет болезненно-острой темой, в той ранней статье подчеркивал: «Нет лирики без диалога». Томас Стернз Элиот в итоговой лекции начала 50-х годов называл самопоглощенное высказывание «первым голосом поэзии» — голосом поэта, общающегося с самим собой или ни с кем, а намного раньше (кстати, почти одновременно с Мандельштамом, в 1919 году, и столь же полемически заостряя свою мысль) писал: «Поэзия — это не простор для эмоции, а бегство от эмоции, и это не выражение личного, а бегство от личного... Эмоции, выраженные искусством, безличны».
Старшие испанские поэты («поколение 1898 года») вместе со сверстниками Сернуды («поколением 1927 года») искали, каждый по-своему, выход из герметичной «модернистской» поэтики с ее нередкой — особенно у основоположника Рубена Дарио — зачарованностью собой и с характерным для подобного нарциссизма культом музыки стиха, магической «певучести», гипнотизирующей и поэта, и его читателя. Так Хуан Рамон Хименес, сгущая смысл и напрягая слово, шел к анонимизированной лапидарной поэтике в духе средневековых гномов Сим Тоба или греческой «антологической» лирики. Антонио Мачадо пробовал опереться то на пласт средиземноморской языческой мифологии (поэма «Олива у дороги»), то на традицию испанской народной песни и эпического романса, выдвигал вместо авторского «я» фигуры гетеронимов — Абеля Мартина, Хуана де Майрену — которым как бы «передоверял» собственное слово (свою, особую труппу гетеронимов, принадлежащих, к тому же, к разным культурам и пишущих на нескольких языках, параллельно и, кажется, независимо от испанского поэта создавал в Португалии той же постсимволистской эпохи Фернандо Пессоа). Свой поиск нового оправдания слова (в том числе — подходя в книге «Поэт в Нью-Йорке» к самому краю его разрушения) вел в лирике и в поэтическом театре Федерико Гарсиа Лорка.
У Луиса Сернуды здесь — особый путь.
Один из своих жанровых «источников» в данном случае Сернуда указывает сам в цитате, которая уже приводилась: это Роберт Браунинг. Первую статью об английском поэте Сернуда написал еще в 40-е годы, браунинговскую поэму «Токката Галуппи» он перевел в 1956 году, а его поэтику охарактеризовал в своей лекции 1958 года «Поэтическая мысль в английской лирике» почти теми же словами об утомительной субъективности и условном, как бы заслоняющем поэта персонаже, что цитированы выше (замечу, что в 1943 году — и тоже, кстати, развивая Браунинга — Хорхе Луис Борхес пишет свой первый драматический монолог «Воображаемые стихи», за которым позже последуют «Хранитель книг», «Тамерлан»). Второй более чем вероятный «источник» драматических масок Сернуды — Шекспир: перевод его «Троила и Крессиды» Сернуда закончил как раз к 1946 году, когда и выступал с чтением своей поэмы «Кетцалькоатль» и ее комментарием, тоже цитировавшимся выше. Еще один более чем вероятный источник — теоретическая и практическая поэтика Элиота с его «Странствием волхвов», «Песнью для Симеона», поэтическим театром 30-50-х годов и концептуальным эссе «Три голоса поэзии», где интересующий нас сейчас «третий голос» — а именно он, по-моему, прежде всего характерен для поэтики зрелого Сернуды — определен как «голос поэта, воплощенный в драматическом персонаже, говорящем стихами». Это «не то, что сказал бы сам автор, а только то, что может сказать воображаемый персонаж другому воображаемому персонажу». И наконец, к числу источников Сернуды принадлежат — полученные им опять-таки через Элиота и его журнал мировой литературы «Крайтерион» — поэзия и поэтика греческого лирика постсимволистской эпохи Константиноса Кавафиса (Кавафи). Кавафиса — наравне с Йейтсом и Рильке — Сернуда в 1959 году причислит к «лучшим мировым поэтам нынешнего дня», а его стихотворение «Дионис покидает Антония» назовет «одной из наиболее бесспорных и прекрасных вещей, которые мне известны в современной поэзии» (добавлю, что именно благодаря стихам Кавафиса — вместе с Браунингом и Элиотом — драматический монолог как жанр появляется к середине столетия в лирике Чеслава Милоша, а далее и вообще в польской поэзии второй половины XX века — у Збигнева Херберта, Тадеуша Ружевича, Виславы Шимборской и других, так же как — в первую очередь с лирикой и поэмами Иосифа Бродского, росшего на стихах перечисленных поэтов, — проникает он и в русскую поэзию).
В этом смысле можно сказать, что найденное Сернудой решение — не только его индивидуальный выбор, но одна из общих линий в развитии европейской поэзии XX столетия как таковой. Не случайно Октавио Пас выделял Сернуду как единственного в тогдашней Испании «европейского поэта», поэта Европы.
Как построен драматический монолог (или драматическая «маска») у Луиса Сернуды? Кто здесь произносит «я» и к кому его слова обращены? «Я был там...» — начинается «Кетцалькоатль». «С престола я смотрел...» — таков incipit «Королевского трона». «Я, Цезарь...» — называет себя герой одноименного стихотворения. Первое, что мы здесь слышим, это голос — голос Другого, и уже этот голос говорит далее «я» («Я — это другой», по знаменитой формуле Рембо). В отличие от романтической поэтики и в разрыве с романтизмом, из которого вышел, Сернуда — вместе с другими названными ранее поэтами — делает центром своей поэтики не столько собственное «я», сколько именно Другого. Причем этот Другой не заполняет, не замыкает и не исчерпывает собой смысловое пространство стихотворения, как часто бывает, например, в драматических монологах Браунинга или как это происходит в борхесовском «Тамерлане» (герой которого, что характерно, — пациент современной психбольницы, самоучка, перечитавший книг и вообразивший себя Тамерланом то ли из расхожего учебника истории, то ли из ренессансной трагедии Кристофера Марло). У Браунинга адресат сказанного существует лишь в словах говорящего, он как бы находится здесь же, внутри стихотворения, обставленный, окруженный чужим словом, чуть ли не замурованный в этой чужой речи, — так похоронена в своем портрете отравленная героиня браунинговского стихотворения «Покойная герцогиня». Если говорить о жанре, у Браунинга перед нами — новелла в стихах.
У Сернуды — иное. Его герой, произносящий «я», как бы чувствует себя увиденным или даже окликнутым откуда-то из-за пределов собственного мира, как бы из-за границ стихотворения— так в некоторых поздних романах Набокова (например, «Bend Sinister») или новеллах Борхеса (скажем, «Диалог мертвых», «Диалог о диалоге») герои ощущают рядом с собой и над собой чье-то иное, более сложно устроенное сознание, сознание автора. Именно так у Сернуды вводится в действие, как бы призывается к существованию чудом воскрешаемый герой стихотворения «Лазарь»: свидетели случившегося post factum рассказывают евангельскому персонажу, как его позвал по имени чей-то неведомый им всем голос, носитель которого, замечу, по имени так дальше и не назван:
Они услышали спокойный голос,
Который звал меня, как друг зовет...
Так мне рассказывали те, кто видел.
А я — я помню только холод,
Нездешний холод из глубоких недр...
Говорящий здесь от первого лица как будто постоянно ограничивает себя и свое слово в правах, отсылая то к одной, то к другой внешней позиции и тем самым шаг за шагом усложняя картину происходящего, делая оптику действия более объемной. Высказывание становится все условнее, но, как ни парадоксально, тем сильней вовлекает читателя в действие. Читающий тут не отрезан от происходящего прозрачной лишь для него «четвертой стеной», он не чувствует себя посторонним, незатронутым, а, наоборот, ощутимо для себя включен в происходящее. Он — не только заинтересованный зритель, но и сам, в свою очередь, предмет наблюдения и действующее лицо, к которому обращено сказанное. «Читатель вглядывается в Сернуду, который вглядывается в призрак, — описывает Октавио Пас коммуникативную топологию, мебиусову поэтику Сернуды. — И каждый ищет в воображаемом персонаже свою собственную реальность, свою правду. Своего демона, если пользоваться выражением Сократа».
Стихотворение-высказывание разворачивается в сознании поэта, слово за словом разворачивает это сознание. Но Сернуда выстраивает речевой поток таким образом, что он — не пассивно отражающее зеркало, а формирующееся и умножающееся у нас на глазах пространство, которое существует и меняется во времени. «Поэт, — писал Элиот, не выражает некую «личность», но служит своего рода медиумом... средой» («медитация — это медиация», — в своей характерной манере отмечал Октавио Пас). Между нами и поэтом возводится своего рода живая среда, в которую на равных правах встроен и он, и мы. Так в стихотворении «Кетцалькоатль» перед говорящим разворачивается загадочный древний город, в расположении и строениях которого пророчески воплощено будущее время того, кто держит речь:
Вид города с холма приоткрывает
Бегущих улиц потаенный курс.
Так время открывает в прожитом
Предвестье, что казалось нам потерей,
а соединяющая в себе прошедшее и грядущее империя из стихотворения «Королевский трон» есть само время, вырастающее, строящееся здесь и сейчас в формах пространства.
Вообще размышление, постижение, приближение к смыслу — развитие стихотворения от слова к слову и от строки к строке — чаще всего воссоздается у Сернуды как движение в пространстве и переход, даже целая система, анфилада переходов, из видимого в невидимое. Труд этого движения, внятный для читателя, задан у поэта еще и чисто стихотворными средствами. Одно из них — взаимодействие, соревнование, борьба между шагом стиха и ходом предложения: «В некоторых моих вещах, представляющих собой драматический монолог, — поясняет Сернуда этот свой принцип в «Биографии одной книги», — стихотворный метр как бы приглушен полновластным ритмом фразы». И лучший пример подобных пространственных переходов — конечно, «Рассветная река», где стены университетских корпусов в Кембридже сменяются аллеей вязов у реки, а голос птицы заставляет поднять глаза в небо, так что мысль поэта, охватывая мир на границе зимы и весны, дня и ночи, конца и начала, в заключительных строках снова возвращается к неподвижной воде, в которой вот-вот отразятся звезды:
С закатом, уступившим пышноцветье
Звериному неистовству зари,
Ты обладаешь только тем, что отдал,
И луч откладывает свой клинок
На этот миг вне сроков и пределов,
Деливших прежний мир на день и ночь.
Миражный ветер в вязах шелестит
Опавшею и свежею листвою.
Дрозд задремал. И ни одна звезда
Еще не отражалась в тихих водах.
Здешнее «еще не...» значит сейчас, сегодня и никогда, навсегда. Мы втянуты, вобраны в нынешний день и миг говорящего, в его самодостаточный мир («...не отражалась») и вместе с тем перенесены во вневременные, а потому как бы чисто пространственные пределы. Но подобные пространства (будем внимательны!) — это пространства мысли, памяти, воображения. Ментальные реальности, они возводились автором в нематериальной геометрии его сознания и вводятся теперь в наше, изменяя, перестраивая его. При этом переход здесь не уничтожает границу между автором и читателем, а, напротив, подчеркивает существующий между ними смысловой барьер, который необходим, потому что конструктивен. Этот рубикон — указание на повышенную авторитетность высказываемого-происходящего, символическое удостоверение его сверхэмпирической значимости (а только символическим оно и может быть). «Его слово, — пишет о Сернуде Октавио Пас, — никогда не действует на нас непосредственно, напрямую: между им и нами находится взгляд поэта, мысль, которая создает дистанцию, чем и порождает подлинную коммуникацию... мысль разворачивает пространство сознания, наделяя слово особой весомостью. Сознание — вот тот элемент, который делает все написанное Сернудой единым целым».
Отсюда — ровная, могущая показаться бесстрастной интонация в драматических монологах Сернуды, где поэт выступает уже как бы распорядителем, модератором голосов, их своего рада дирижером, композитором-симфонистом. В представлении зрелого Сернуды о своеобразной «обсерватории мира» — сам он подчеркивал тут свою близость к картине мира у английских поэтов-метафизиков XVII столетия, которых изучал и переводил в те же 40-50-е годы — испанский мыслитель одного с ним поколения, пережившая сорокапятилетнюю эмиграцию Мария Самбрано (1904-1991) нашла сходство с античной натурфилософской поэзией, с драматическим восприятием природных стихий у греческих философов-досократиков (их Сернуда открыл для себя по англоязычным источникам в США и Мексике конца сороковых). Самбрано увидела «своего рода бесстрастие классики — скажем, Лукреция — в этой дистанции, которая не уничтожает чувств, в этом взгляде смотрящего, который стоит перед лицом своей жизни и всей жизни мира, удерживая ее на этот миг своим взглядом и своей страстью, бесстрастной страстью философов и отдельных, редких поэтов». Вместе с тем эпическое самоустранение поэта, его «незаинтересованное, как бы безличное созерцание вещей» выдвигает здесь на первый план саму поэзию как особый образ мысли о мире, даже как некую новую природу человека. «И тогда, — подытоживает Мария Самбрано, — поэзия становится такой, какова она есть, становится самой собою».
Л-ра: Литературное обозрение. – 1999. – № 4. – С. 33-37.
Критика