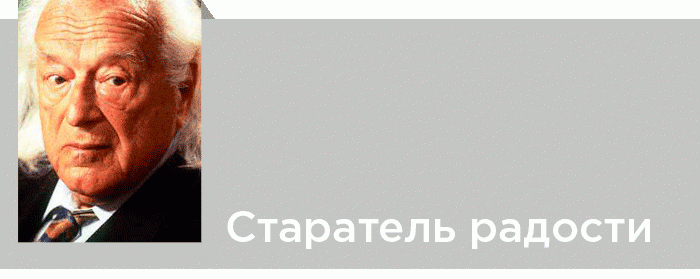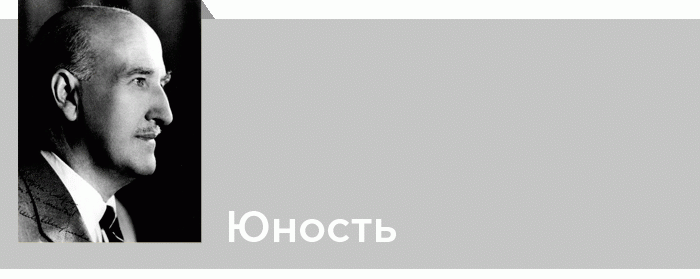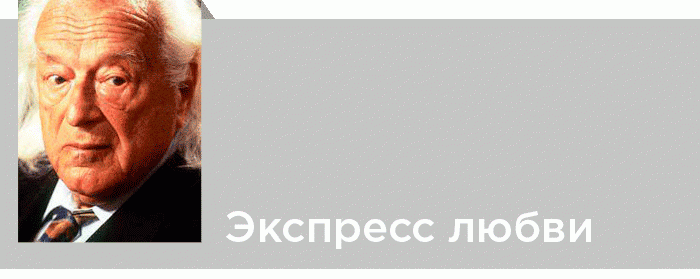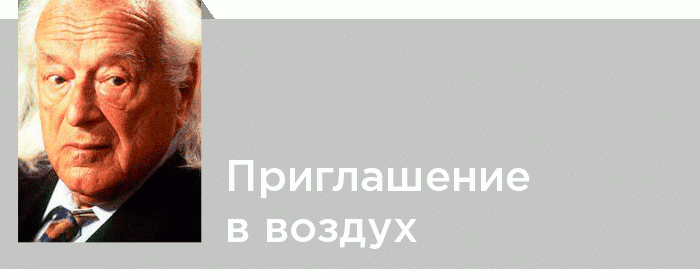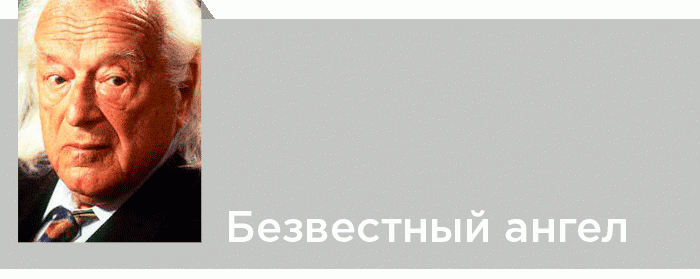Как становятся Рафаэлем Альберти
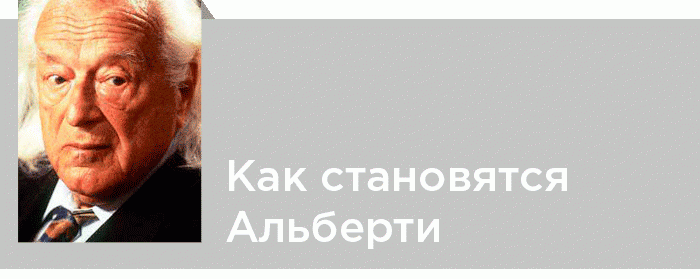
Л. Осповат
В произведениях мемуарного и полумемуарного жанра, созданных за последние десятилетия писателями и деятелями искусства разных стран, явственно обнаруживается некое новое, общее качество — над ним еще предстоит поразмыслить исследователям. Авторы таких произведений все чаще стремятся не просто рассказать свою жизнь, но и разобраться в том, как эта жизнь превращалась в искусство, постигнуть внутренние закономерности своего творческого пути, поделиться хотя бы некоторыми секретами своего ремесла. Стремление это ощущается в той или иной степени и в «Празднике, который всегда с тобой» Эрнеста Хемингуэя, и в «Моей биографии» Чарльза Чаплина, и, быть может, сильнее всего в «Автобиографических записках» Сергея Эйзенштейна — книге, одну из целей которой откровенно формулирует сам автор, ссылаясь на просьбу, высказанную кем-то из его студентов: «Расскажите, как становятся Эйзенштейном».
В том же ряду стоят и воспоминания выдающегося испанского поэта Рафаэля Альберти, существенно отличаясь от остальных, пожалуй, лишь в одном отношении. Обычно за мемуары принимаются на склоне жизни, «подводя итоги». А Рафаэль Альберти начал свою «Затерянную рощу» сравнительно молодым человеком, лет тридцать назад, в осажденном Мадриде, и работал над ней, с перерывами, больше двух десятилетий. Рукопись книги, первоначально задуманной как повесть о детстве, разрасталась, сопровождая поэта в скитаниях. Так родилась — воспользуюсь выражением О. Савича, покойного друга Альберти, предварившего русское издание «Затерянной рощи» кратким, но, что называется, берущим за душу вступительным словом, — «история о том, как данный испанец данной эпохи пришел к поэзии (хотя сперва кажется, что она сама нашла его), как она завладела им безраздельно, как он навеки погрузил свое сердце в ее необъятное море»...
Смысл заглавия раскрывается постепенно. Возникающий в первой главе образ утраченного детства — роща на окраине приморского городка Пуэрто-де-Санта-Мария, в котором родился Альберти в 1902 году, «печальное место, заросшее белым и желтым дроком», превращается далее в символ всего, что прошло, но осталось, что невозвратно и нетленно. В военные мадридские ночи, в холодной клетушке парижской радиостудии, где поэт-изгнанник зарабатывает на жизнь, переводя сводки французского Верховного командования, в Аргентине, где он наконец обретает приют, — повсюду слышатся ему безмолвные нагоняющие шаги. «Это неотступно движется следом за мной, настигает меня, воскресая в памяти, затерянная роща прожитых лет».
Как и во всяких мемуарах, на каждой странице «Затерянной рощи» незримо присутствует настоящее — тот сегодняшний день, из которого Рафаэль Альберти всматривается в свое прошлое, с позиций которого оценивает и судит пережитое. Но порой настоящее заявляет о себе и самым непосредственным образом, врываясь в повествование то дневниковой записью, то страстным обращением к солдатам, сражающимся против фашизма, а то и таким признанием:
«Как трудно мне пишется! Страничка прозы стоит мне не меньших, если не больших усилий, чем целое стихотворение. Фразы получаются чересчур ритмичными. Во все щели просачиваются стихотворные размеры. Я их изничтожаю, переставляю местами слова, бьюсь, правлю, переиначиваю. Потом перечитываю внимательно и вижу — все это никуда не годится. Ничего не поделаешь. Буду работать над «Рощей», как работал до сих пор».
Действительно, перед нами проза поэта — лирическая, образная, пульсирующая. Переводить такую прозу ничуть не легче, чем стихи. И здесь, нарушая установившуюся традицию, согласно которой о качестве перевода принято, в лучшем случае, говорить под конец, я хочу сказать о блистательной — настаиваю на этом определении — работе П. Глазовой, добившейся, казалось бы, невозможного: книга Рафаэля Альберти звучит на русском языке так, словно на нем она и написана. Работа эта заслуживает специального разбора. Обильный и притом весьма специфический материал, содержащийся в «Затерянной роще» (история, быт, литературно-художественная жизнь Испании первой трети нашего века), до сих пор еще почти не освоен отечественной испанистикой. Это потребовало от переводчицы самостоятельного исследовательского труда, лишь частично отразившегося в составленных ею комментариях. К сожалению, рамки рецензии не дают возможности показать, с каким искусством воспроизводит П. Глазова различные речевые пласты, к которым то и дело обращается автор (крестьянская речь, скудный язык обывателей, жаргон столичной богемы, витиеватая лексика литературных мэтров), как бережно и в то же время смело воссоздает она собственный голос поэта, не боясь отступить от буквы подлинника, чтобы тем вернее передать его дух... Все же позволю себе привести хотя бы один описательный абзац) дающий, на мой взгляд, некоторое представление как о стиле Альберти-прозаика, музыкальном и пластичном одновременно, так и о мастерстве переводчицы. Речь идет о поездке в крохотный городок Руте, затерянный в глуши андалузской сьерры:
«Когда я в Руте вышел на перрон, начинало темнеть. Во мне еще бежала дорога: бесконечные оливковые плантации; фантастическое видение старинной Лусены, взятой в плен плотной стеной огромных пузатых кувшинов для оливкового масла; врезавшийся в небо утес Мартоса, и — внезапно — селения, белые до рези в глазах, будто вписанные яростным, крошащимся мелом в ровные плоскости краснозема и в свинцовые уступы гор. Клокочущая в пейзаже внутренняя борьба просачивалась в воздух безысходной печалью, — и вдруг мрачный заключительный аккорд: откуда-то сверху, из крови агонизирующего заката возник Руте!»
Первые страницы «Затерянной рощи» — будто настежь распахнутое окно в мир детства. Семья потомственных, когда-то состоятельных виноделов, теснимых более удачливыми конкурентами. Отец постоянно в разъездах, ребенок — под неусыпным надзором бесчисленных дядюшек и тетушек, фанатичных католиков, чье исступленное благочестие так не похоже на простодушно-народную веру матери. Но стоит шагнуть за порог дома, а позднее — удрать хоть на час из коллегии иезуитов, куда определили учиться Рафаэля, — и все заливает «ликующий прибой многоликой, переливчатой синевы».
Есть в этом мире и веселые рождественские праздники, и андалузские песни, и детские игры в корриду. И все же он выглядит здесь далеко не таким идиллическим и безмятежным, каким предстанет впоследствии в первых стихотворных сборниках Рафаэля Альберти. Две Испании, пока еще не расколотые смертельной враждой, еще не восставшие друг на друга, с колыбели сопутствуют мальчику — Испания поэтическая, народная, жизнерадостная и Испания жадных собственников и угрюмых святош. Обе для него — свои, к обеим прикипел он душой, и недаром даже спустя много лет, в затемненном Париже, он с какой-то щемящей жалостью вспомнит тех самых дядюшек и тетушек, которые своим истерическим деспотизмом отравили ему столько счастливых минут.
Мы видим, как под перекрестным воздействием этих начал формируется человеческий характер — угловатый, непокладистый, эгоцентричный, и в то же время видим, как «начинают жить стихом».
Конечно, талант — качество врожденное, но как и в чем начинает он проявляться? Воспоминания Альберти тем и драгоценны, что позволяют угадать будущего поэта именно в этом ребенке, более того — помогают понять, почему он станет именно этим поэтом. Художник — в широком смысле слова — предощущается уже в его обостренной впечатлительности, в душевной возбудимости, в цепкой памяти («У тебя есть две вещи, чтобы стать поэтом, — скажет ему впоследствии Гарсиа Лорка, — превосходная память, и ты — андалузец»). Но, пожалуй, ничто так не предсказывает в маленьком Рафаэле будущего Альберти, как его безотчетный интерес к живому говору, звучащему вокруг, ранний вкус к тому, что Пушкин назвал «странным просторечием», приверженность к беззаконным сочетаниям слов, которые будоражат его воображение.
Еще в первые годы жизни застревает в его памяти строка из народной песни, которую распевает, притопывая каблуками, старый бондарь Федерико перед рождественским вертепом, — слова, обращенные девой Марией к ее мужу, святому Иосифу: «Acuéstate en el pozo», то есть — «Отдохни в... колодце». Пройдет много лет, прежде чем, перелистав сборник испанских народных песен, Рафаэль убедится, что поразившая его своей загадочностью строка в каноническом тексте читается попросту: «Acuéstate, esposo» («Отдохни, супруг») и что старый бондарь переиначил ее по-своему, «с чисто андалузским поэтическим чутьем и склонностью к фантазерству». Зрелый поэт сумеет сполна оценить возможности, которые таятся в подобном переосмыслении слов по созвучию: «Тема повернулась неожиданно, родился новый, яркий вариант песни. Не эти ли искажения — родник неумирающей свежести и богатства всякой истинно народной поэзии?»
А вот уж и самому Рафаэлю довольно впервые услышать слово «скипидар», чтобы мысль его заработала, поворачивая незнакомое словцо так и эдак: «Скипидар! Скипидар! Что за странное слово! Может, я ослышался? Может, не скипидар, а вскипи-дар? Но при чем тут «дар»? Если бы «вар», тогда понятно: «вскипи-вар».
И все же первым руслом, в которое устремляется природная одаренность подростка, становится не поэзия, а живопись. Характерная деталь: толчок увлечению дает не сама предметная действительность, а ее графически обобщенный образ, глянувший на Рафаэля с красочной афиши Трансатлантической пароходной компании, — синее море, белый корабль. Но через копирование этой афиши он придет к самостоятельному открытию натуры, и в его альбоме появятся карандашные и акварельные наброски морских пейзажей.
Живописью продолжает он заниматься и в Мадриде, куда в 1917 году перебирается семья, — работает самозабвенно, спешит каждый день, как на праздник, в музей Прадо, где полотна Тициана окончательно утверждают его влюбленность в белое и синее — «два цвета, которыми еще в младенчестве опоили меня голубые наличники окон и дверей и до блеска выбеленные стены наших андалузских домов, осененных ярчайшей, пронизанной солнцем лазурью»...
А вокруг — чужой мир, заставляющий сердце сжиматься от тоски по родной Андалузии: закопченные кирпичные дома столицы, грохочущие трамваями улицы, многолюдье и одиночество большого города. Окруженный дремучими обывателями, с головой ушедший в свою живопись, Рафаэль почти ничего не знает о том, что творится не только за рубежами Испании, но и рядом, на мадридских окраинах, откуда порой доносятся выстрелы, — полиция расправляется с забастовщиками. «События тех великих лет мелькали, не задевая меня, ничего не говоря ни уму, ни сердцу, но все-таки память отметила их и сберегла».
Первые успехи молодого художника не заглушают, однако, иную, подспудно идущую в нем работу. Сызмальства томящая его тяга к словесной выразительности подкрепляется лихорадочным чтением; чужие стихи вызывают ревнивое желание помериться силами с их авторами, открывающими в эти годы новую, блестящую главу испанской поэзии. И наконец, совершается исподволь назревавший перелом. Непосредственным поводом к нему служит первое настоящее потрясение, пережитое Рафаэлем, — смерть отца, так и не дождавшегося, пока сын «выбьется в люди». Запоздалое раскаяние, охватившее юношу у гроба, мучительная потребность дать выход страданию, смутное, но повелительное сознание того, что только словами можно заполнить «бездонность этого мертвого — смертью проложенного между нами — молчания», — все соединяется в порыве, который рождает первые стихи Рафаэля Альберти.
Некоторая театральность этого эпизода искупается откровенным признанием: написанные тогда стихи, при всей неподдельности чувства, их вызвавшего, оказались подражательными. В них слышалось эхо интонаций Леона Фелипе — большого поэта, к сожалению, до сих пор известного нашим читателям лишь по нескольким (правда, превосходным) переводам А. Гелескула.
Но путь в поэзию начался.
Разностороннее изображение литературной жизни, в центре которой оказывается он к середине 20-х годов, делает «Затерянную рощу» незаменимым источником для всякого, кто хочет знать испанскую культуру нашего века. Борьба и смена течений, дискуссии, журнальные схватки не «описаны» здесь, а представлены в конкретных лицах и судьбах. Целая портретная галерея проходит перед читателем — поэты, писатели, художники; наставники и сподвижники Рафаэля Альберти. Никакого хрестоматийного глянца! Это вполне земные люди, подверженные страстям, нередко соперничающие между собой, а подчас и завидующие друг другу, но в большинстве своем объединенные общим, рыцарским служением отечественному искусству. Одни из них выписаны подробно и объемно, как, например, беспощадно взыскательный к себе и другим мастер поэзии Хуан Рамон Хименес или обаятельный, простодушный, загадочный Федерико Гарсиа Лорка, другие едва очерчены, как Антонио Мачадо, сумрачной тенью скользнувший по страницам «Затерянной рощи». Но в каждом — а их десятки! — человек и его творчество выступают в неразрывном единстве.
Первый же сборник его стихов — «Моряк на суше» — еще в рукописи был удостоен Национальной премии по литературе. Окончательно чашу весов в его пользу склонило мнение Антонио Мачадо, назвавшего «Моряка на суше» лучшей из поэтических книг, представленных на конкурс.
В этой книге впервые по-настоящему зазвучал собственный голос Рафаэля Альберти. Тоска по утраченному детству, отроческие мечтания, музыка андалузской речи, лазурь и белизна родного Пуэрто — все наконец воплотилось в слова, отлилось в прозрачные, по-народному безыскусные, по-народному лаконичные строфы.
Летняя моя матроска,
мне в тебе не щеголять,
и воротника в полоску
горожанам с перекрестка
никогда не увидать.
В материнском гардеробе —
облаченье моряка,
чтобы он в матросской робе
не удрал с материка.
(Перевод Б. Пастернака)
Решусь, однако, сказать, что народность первых стихов далась Рафаэлю Альберти слишком легко. Певучий и красочный мир его ранних сборников (за «Моряком на суше» последовали «Возлюбленная» и «Левкой зари») чересчур уж округл и наряден, чересчур замкнут в себе самом. Достаточно сопоставить эти сборники со «Стихами о канте хондо», «Песнями», «Цыганским романсеро» Федерико Гарсиа Лорки, создававшимися в те же годы, чтобы увидеть, насколько глубже постиг Федерико душу народной поэзии. Такое сопоставление вполне законно: Гарсиа Лорка и Альберти современникам представлялись вначале чуть ли не близнецами. «Оба вакхических андалузца, — писал Пабло Неруда, — певучие, щедрые, таинственные и народные, одновременно черпали из источников испанской поэзии, из тысячелетнего фольклора Андалузии и Кастилии». Но если в первых сборниках Лорки намечена траектория всего дальнейшего его творчества, если, говоря словами того же Неруды, он «вновь и вновь обращался к своей Гранаде, припадал к своей земле, покуда не ушел в нее целиком, покуда не упокоился в ней», то Рафаэлю Альберти питавший его источник вскоре показался исчерпанным. «Мне приелись мои коротенькие стихи и песенные ритмы, — выжатый лимон, из него больше ничего не высосешь!»
Непрочность корней, по-видимому, и явилась причиной того, что тяжелый кризис, поразивший молодую испанскую поэзию в конце 20-х годов, для Рафаэля Альберти имел наиболее опустошительные последствия. Чувствуя, как уходит почва из-под ног, поэт то устремляется в погоню за яркими словосочетаниями, превращая форму в нечто самодовлеющее, то блуждает в лабиринтах сюрреализма...
Внутренний кризис усугубляется житейскими обстоятельствами — незадавшейся любовью, унизительной бедностью, вынуждающей недавнего лауреата Национальной премии ходить пешком, чтобы не тратиться на трамвай. Недоучившийся бакалавр, оставленный без поддержки родными, которые считают его неудачником, не сделавшим карьеры ни живописца, ни литератора, Рафаэль готов уже бросить писать, пойти работать кем угодно — хоть каменщиком, хоть подметальщиком улиц... «С ненавистью и завистью смотрел я на благополучие моих литературных сверстников: почти все они вели обеспеченное, спокойное существование: одни на отцовские деньги, другие — состоя на службе; они преподавали в заграничных университетах, работали в министерствах, в библиотеках, в туристских агентствах»...
Рассказывая об этой тяжелой поре, Альберти не щадит и себя. Он вспоминает, как по заказу виноторговца написал рекламную оду: происхождение коньяка, история фирмы, вина марки Домек, заработав таким образом целых пять тысяч песет. Шутливый тон, в котором излагается эта «винодельческая интерлюдия», не способен скрыть острую горечь. В поэте зреет ненависть к обществу, в котором ему не находится места: «Меня обуревала жажда мести, расплаты со всеми и за все. У меня чесались руки подложить динамита, хотя бы фигурально, чтобы рвануло — вдрызг!»
И тут сама действительность приходит ему на помощь. Улицы Мадрида содрогаются от демонстраций против диктатуры Примо де Риверы, доживающей последние дни. Атмосфера полна «пьянящим предчувствием бури», и у молодого поэта открываются глаза на все то, что раньше не задевало его. «Слепо нараставший во мне крик протеста и возмущения, бившийся без исхода в стены внутренней моей тюрьмы, нашел наконец выход, яростный выход на улицы, бурлящие студенческими толпами, на оскалившиеся баррикадами бульвары, навстречу жандармской коннице»...
Так Рафаэль Альберти приходит к революции: не только «с небес поэзии», но и «низом» — если не «низом шахт, серпов и вил», то уж во всяком случае низом дырявых башмаков и полуголодного существования.
Последние страницы «Затерянной рощи» носят почти конспективный характер. Автор убыстряет темп повествования, опуская подробности, торопясь запечатлеть важнейшие события, завершившие его превращение в поэта улицы, поэта «зари воздетых кулаков». Свержение диктатуры Примо де Риверы, в котором Альберти принимает непосредственное участие — шагает в рядах демонстрантов, собственноручно расклеивает на стенах домов сочиненные им листовки в стихах. Агония монархии, неудача восстания, поднятого Фермином Галаном, — Альберти пишет романс, посвященный расстрелянному герою, читает его на уличном митинге в Кадисе. А когда, в 1931 году, совершается революция, поэт сочиняет драму «Фермин Галан», постановка которой становится для него решающим рубежом. «Отныне мой путь был вместе с народом, и во имя воссиявшей мне правды народного дела я был готов на любую жертву, на любое самоотвержение».
Здесь пока что прерываются воспоминания Рафаэля Альберти. Впереди — целая жизнь; о ней еще предстоит рассказать. И как знать — быть может, поэт уже дописывает давно обещанное продолжение «Затерянной рощи»...
Л-ра: Новый мир. – 1969. – № 6. – С. 264-268.
Критика