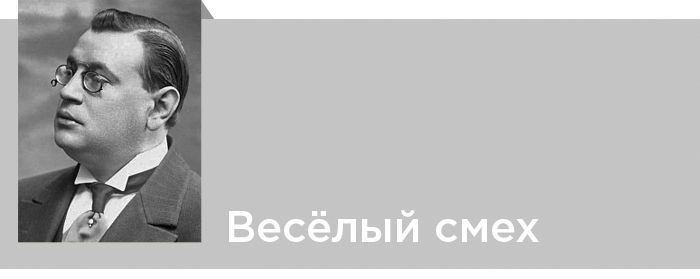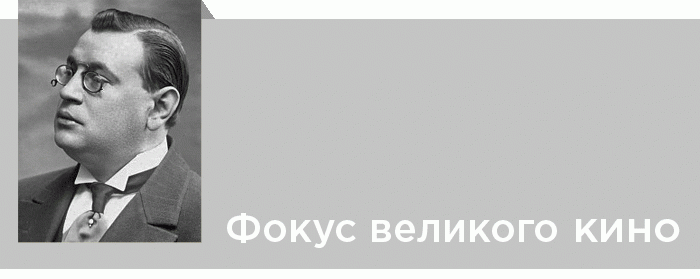Сатира и юмор в творчестве А. Т. Аверченко

Переднее Ольга
Введение.
Развитие русской сатиры в начале двадцатого века отразило сложный, противоречивый процесс борьбы и смены разных литературных направлений. Новые эстетические рубежи реализма, натурализм, расцвет и кризис модернизма своеобразно преломились в сатире. Специфика сатирического образа делает подчас особенно сложным решение вопроса о принадлежности сатирика к тому или другому литературному направлению. Тем не менее в сатире начала двадцатого века прослеживается взаимодействие всех перечисленных школ.
Аркадий Тимофеевич Аверченко занимает особое место в истории русской литературы. Современники называют его «королем смеха», и определение это абсолютно справедливо. Аверченко по праву входит в когорту признанных классиков отечественной юмористики первой трети двадцатого века. Редактор и бессменный автор пользовавшегося большой популярностью журнала «Сатирикон», Аверченко обогатил сатирическую прозу яркими образами и мотивами, отображающими жизнь России в эпоху трех революций. Художественных мир писателя вбирает в себя многообразие сатирических типов, поражает обилием специфических приемов создания комичного. Творческая установка Аверченко и «Сатирикона» в целом заключалась в выявлении и осмеянии общественных пороков, в отделении подлинной культуры от разного рода подделок под нее.
Значительную часть каждого номера «Сатирикона» Аверченко заполняет своими сочинениями. Начиная с 1910 года регулярно издаются и переиздаются сборники его юмористических рассказов, одноактные пьесы и скетчи ставятся по всей стране. Имя Аверченко знали не только любители литературы, не только профессиональные читатели, но и самые широкие круги. И это было результатом не потакания вкусам толпы, не погони за популярностью, а последствием действительно подлинного своеобразного таланта.
В дипломной работе «Сатира и юмор в творчестве Аркадия Аверченко» рассматриваются рассказы писателя в дореволюционный и послереволюционный период, определяются назначение сатиры исследуемого времени.
Нужно отметить, что об Аверченко у нас пока нет специальных монографических исследований. В Вашингтоне в 1973 году вышла книга Д. А. Левицкой «А. Аверченко. Жизненный путь», но она для нас не доступна.
Об Аверченко и его творчестве мы можем узнать из множества статей, очерков, которые печатаются в таких журналах, как «Вопросы литературы», «Литература в школе», «Литературная учеба», «Аврора» и др. Авторы журнальных статей, несомненно, занимаются исследованием и изучением творчества Аверченко. Мы можем назвать несколько фамилий исследователей, очерки которых неоднократно встречаются в периодических изданиях – это Зинин С. А. «Грустный смех Аркадия Аверченко» ;
Шевелёв Э. «На перекрестках, или размышление у могилы А. Т. Аверченко, а также до и после ее посещения с напоминаниями о том, что писал он и что писали о нем» , «Ответы правды» ;
Свердлов Н. «Дополнение к «Автобиографии» Аркадия Аверченко» ;
Долгов А. «Великий комбинатор и его предшественники: Заметка о прозе А. Аверченко» , «Творчество Аверченко в оценке дореволюционной и советской критики» .
Смех Аверченко не искореняет исконных человеческих слабостей и пороков, а лишь таит в себе иллюзорную надежду на их искоренение. И поскольку эти слабости и пороки долговечны, долговечен и порождаемый ими смех, о чем свидетельствуют многочисленные издания юмористики, сатиры Аверченко, осуществленного после длительного перерыва у нас и беспрерывно возобновляемые во многих странах мира, в том числе и Чехии, ставшей прибежищем недюжинного писателя.
В связи с этим мы ставим следующие цели:
1) выявить основные способы и приемы сатиры Аверченко;
2) проследить тематику рассказов;
3) определить индивидуальные черты в творчестве писателя.
Структура работы определяется этапами жизни и творчества Аверченко, эволюцией его художественного метода.
Дипломная работа состоит из введения, трех глав и заключения.
В первой главе говорится о деятельности А. Т. Аверченко в журнале «Сатирикон», о значении данного журнала в общественной жизни начала двадцатого века.
Во второй главе рассматривается своеобразие сатиры писателя до революции 1917 года, где Аверченко высмеивает социальный быт, буржуазную культуру городского обывателя. Рассматривается тема искусства в сатирической интерпретации, где показаны бездарные художники, поэты, писатели.
Здесь мы говорим и о взаимоотношениях мужчины и женщины, о детях.
В третьей главе представлено послереволюционное творчество Аверченко, где в основном акцент делается на рассказы политической проблематики, затрагиваются темы ревизора, закона, обнажается социально-политическая сфера жизни. В этой главе дается анализ сборников Аверченко: «Дюжина ножей в спину революции», «Нечистая сила», «Записки простодушного».
В заключении представлены выводы по содержанию работы.
I Глава.
Деятельность А. Аверченко в журнале «Сатирикон»
Журнал «Сатирикон» явился наследником боевой демократической сатиры 1905-1907 года. Революция вызвала в стране спрос на обличительную и сатирическую литературу. В Харькове с 1906 г. начал выходить журнал «Сатирической литературы и юмористики с рисунками» «Штык», А. Аверченко принимал в его работе самое деятельное участие, а с пятого номера становится его редактором. Следующий журнал, в котором он работал, – «Меч». Аверченко искал свой жанр. Оба недолговечных журнала были для него единственной практической школой «писательства». Он попробовал себя в разнообразных формах: рисовал карикатуры, писал рассказы, фельетоны…
В 1907 г. в Петербурге начинает сотрудничество с многими второстепенными журналами, и в том числе в «Стрекозе». К 1908 г. группа молодых сотрудников «Стрекозы» решила издать новый журнал сатиры и юмора. Назвали его «Сатирикон». Журнал выходил в Петербурге с 1908 по 1914 годы. Издателем был М. Г. Корнфельд, редактором – сначала А. А. Радаков, а затем А. Т. Аверченко, который сделал его известным. Говорить об Аверченко – значило говорить о «Сатириконе».
Были популярны следующие строки:
Нельзя простить лишь одного–
Кровосмеситель он:
«Сатирикон» родил его,
А он – «Сатирикон».
Задачей «Сатирикона» было моральное исправление общества с помощью сатиры на нравы.
На страницах журнала выступали многие известные поэты и прозаики: С. Черный, О. Мандельштам, В. Маяковский, Тэффи, А. И. Куприн, Л. Андреев, П. Потемкин, В. Князев, В. Волков, Красный, А. Толстой. Номера «Сатирикона», помимо постоянных карикатуристов – Н. Ремизова, А. Радакова, А. Яковлева, А. Юнгера, украшали рисунки прославленных мастеров Б. Кустодиева, К. Коровина, А. Бенуа, М. Добужинского. Низменным успехом у читательской публики пользовались произведения самого Аверченко: его юмористические рассказы, фельетоны, рецензии составляли костяк каждого номера журнала.
«Сатирикон» быстро завоевал симпатии многочисленных читателей.
Его цитировали депутаты с трибуны Государственной думы, министры совета. В Ялте по приказу всесильного генерал-губернатора Думбадзе городовые отбирали у газетчиков номера «Сатирикона» и уничтожали их. Все это свидетельствовало, что «журнал сыграл в русском обществе неожиданную для сатирического издания роль» . Впоследствии один из его ведущих сотрудников П. Потемкин утверждал, что «Сатирикон» «создал направление в русской литературе и незабываемую в ее истории эпоху.»
Если определить главенствующее литературное направление, к которому тяготели писатели и поэты «Сатирикона», очень разные по своей индивидуальной манере, можно сказать, что это был критический реализм, новый подъем которого отчетливо наметился в русской литературе 1910-х годов. Современники восприняли рождение «Сатирикона» как примечательное событие. Он подвел итог всеобъемлющей критики, прозвучавшей в изданиях 1905-1907 годов. Его рождение означало переоценку ценностей, которые прежде не вызвали никакого сомнения.
В журнале с самого начала исключалась традиционность несмотря на то, что его матушкой была старая-престарая «Стрекоза», ребенок не имел с ней ничего общего. Это было европеизированное дитя.
Позыв к свободе, всколыхнувший все творческое, жизнестойкое в русском обществе, вселился в добродушного ленивого толстяка сатира, который символизировал облик нового журнала. Его крестным отцом был художник и поэт А. А. Радаков, придумавший ему имя – «Сатирикон».
Потребность в сатирическом журнале, который синтезировал бы лучшие достижения европейского юмора и сатиры, была в России очень велика. Попытка создать такой журнал была сделана еще в 1905 году по инициативе Горького. На совещании, которое состоялось у него на квартире, шал речь о необходимости издавать орган, напоминающий «Симплициссимус» – журнал, в котором подвергались осмеянию все устои немецкого общества: попумотсум непр оборачивался грубым насилием, ученость – вредной схоластикой.
Богатый опыт европейской юмористики соединился в «Сатириконе» с традициями американской сатиры, страстным поклонником которой был его постоянный редактор Аркадий Аверченко. Уверенный, что нет «народа более нудного, печального, с отчаянной скорбью в истерзанных натурах и мучительными вопросами на устах, чем мы, русские» , он попытался оживить новое издание юмором, в основе которого лежит простой «здравый смысл». Простота и ясность Марка Твена были для Аверченко той живительной вакциной, которую он решил впрыснуть «Сатирикону», чтобы предохранить ребенка от «сложных, дорогостоящих и ненужных противоречий» . Соединение простоты, часто – скорбь, которая обрамляет черной каймой блещущие весельем образы сатиры. В этом – противоречие сатиры, в этом – ее диалектика.
Последним фактором, определившим направление и характер нового издания, была стихия «аполлонизма», с точки зрения которого все смешно, как смешна людская суета перед лицом божественного Аполлона. Влияние античности сказалось не только в имени журнала, повторившего заглавие древнеримского романа «Сатирикон», Журнал стремился встать на точку зрения спокойного ироничного наблюдателя. взирающего на пошлый и жуткий мир с недостижимой высоты. На обложке его первого номера был изображен Зевс-громовержец, мечущий стрелы на Землю. Выразительный рисунок Л. Бакста, посвященный «большим и малым Зевсам», связывал античность с современностью, недвусмысленно намекая на смертных «богов», управляющих Россией.
Таким образом, «Сатирикон», по замыслу редакции, должен был соединить олимпийское спокойствие, жизнестойкость, ясность и здравый смысл с критическим изображением современных событий и общественных нравов. Это была довольно сложная задача в момент, когда существовала разветвленная система «принудительного молчания». Борясь за свое существование, редакция «Сатирикона» старательно укутывала колкие остроты толстым слоем ваты. На страницах журнала читатели находили меткую характеристику политического положения России, критику реакционных партий, сатирическое изображение общественных нравов. В первые годы существования журнал не чурался социальной сатиры, но все эти намеки были тщательно закамуфлированы. Характеризуя программу редактируемого им харьковского журнала «Меч», Аверченко писал в 1907 г.: «Вы услышите удары плашмя, бескровные, обидные для бьющего удары, и цепи на рукоятке будут тяжело и глухо звенеть» . Такой же была «жгучая, разящая» сатира в «Сатириконе». Удары плашмя наносились то по сановным усмирителям России, то по черносотенцам, то по октябристам, то по кадетам.
Одной из главный сатирических фигур в журнале стал интеллигент, совершивший эволюцию от политики к «быту». Издеваясь над ним, Саша Черный напечатал в «Сатириконе» цикл ядовитых сатир, посвященных «всем нищим духом»:
Разорваны по листику
Программки и брошюры.
То в ханжество, то в мистику
Нагие прячем шкуры.
Ко всем, кто откровенно и цинично протрубил «отбой» революции, были обращены эти издевательские тирады. Однако, критикуя интеллигенцию, «Сатирикон» разоблачал лишь ту ее часть, которая занялась духовным «мародерством», предав идеалы революции и отказавшись от мечты о борьбе, – в отличие от веховцев, которые бичевали русскую интеллигенцию именно за служение демократическим идеалам, уверяя, что «тирания общественности» искалечила личность. Призывая к самоусовершенствованию, самопроверке и самокритике, Н. Бердяев писал: «Мы освободимся от внешнего гнета лишь тогда, когда освободимся от внутреннего рабства, т. е. возложим на себя ответственность и перестанем во всем винить внешние силы» .
На первый взгляд, именно такой самокритикой занимался «Сатирикон» в 1908–1910 гг., когда на его страницах печатались произведения, отражающие разнообразную гамму минорных интеллигентских переживаний. Особенно выразительны были хлесткие сатиры Саши Черного, герой которых признавался, что его голова – «темный фонарь с перебитыми стеклами», что он – «как филин на обломках переломанных богов». «Худосочный, жиденький и гадкий» – таким рисуется российский интеллигент в стихотворениях «Отъезд петербуржца», «Искатель», «Интеллигент», «Опять», «Все в штанах, скроенных одинаково» и др. Но было бы опрометчиво отождествлять исповедь «нищего духом» героя с признаниями самого автора, а позицию «Сатирикона» – с идеалами веховства. Саша Черный предупреждал критиков:
Когда поэт, описывая даму,
Начнет: «Я шла по улице. В бока впился корсет», –
Здесь «я» не понимай, конечно, прямо –
Что, мол, под дамою скрывается поэт.
Я истину тебе по-дружески открою:
Поэт – мужчина. Даже с бородою.
В энергичных, полных динамики образах Саша Черный бичевал либерального интеллигента, разочаровавшегося в революционных идеалах. Шаржированные портреты русского «гражданина-мещанина» помещали в «Сатириконе» А. Радаков и Н. Ремизов, меткими откликами на только что вышедший сборник «Вехи» наполнены последние номера журнала за 1909 г. Блестящей отповедью верховцам является рассказ А. Аверченко «Вехи», в котором фальшивые лозунги кадетских авторов прямо уравниваются с призывами черносотенных погромщиков. «Сатирикон» иронизировал над призывами к самоусовершенствованию и опрощению, издевался над эволюцией «мягкотелого» российского интеллигента, для которого «обновление» свелось к проповеди печного горшка. Критика безвременья велась в журнале с демократических позиций, но его положительные идеалы были аморфны и расплывчаты, отвлеченно гуманистичны. Не будучи активными борцами, сатириконовцы высмеивали веховство лишь как болезнь души, противопоставляя ему идеал здорового «естественного» человека.
В обстановке уныния и растерянности, когда день ото дня росло число самоубийств среди молодежи, такая проповедь бодрости и жизнестойкости была своего рода «противлением злу смехом». Куприн позднее писал: «Сатириконовцы первые засмеялись простодушно, ото всей души, весело и громко, как смеются дети. В то смутное, неустойчивое, гиблое время «Сатирикон» был чудесной отдушиной, откуда лил свежий воздух» .
Вместе с тем сатириконская проповедь бодрости и жизнестойкости была лишена отчетливого исторического содержания, а в основе смеха лежало своего рода утешительство. Журнал постепенно терял демократическую ориентацию, его простодушие превращалось в примитивизм, а непосредственность и естественность – в бездумное смехачество. «Краснощекий юмор» сменился «сытым смехом».
В статье «Цемент «Сатирикона» В Князев попытался объяснять эволюцию журнала чисто внешними причинами. Однако разногласия между сотрудниками и издателем, стремление редактора уберечь «Сатирикон» от штрафов, засилье аверченковских материалов, уход Саши Черного и пр. далеко не объясняют его измельчания. Дело в том, что к 1912 г. обнаружился изъян в самой программе журнала. Проповедь бодрости и веселого смеха привлекла к нему симпатии передовой России, но она не могла, естественно, заменить революционной проповеди накануне Октября. Не обладая широтой социального видения, «Сатирикон» взял курс на ту самую обывательскую публику, которую прежде остроумно высмеивал. Смех над общественными нравами сменился мехом ради смеха, и период нового общественного подъема совпал с угасанием «Сатирикона». Празднуя его пятилетие, редакция искренне сетовала, что иногда «юбиляр по молодости лет и по резвости характера забывал, что в руках его бич сатиры, и гонял им кубарики» . Князев видит причину падения журнала в сделке, которую в 1909 году заключили Аверченко, Радаков и Ремизов с издателем Корнфельдом. 50% чистой прибыли стало поступать им, и Аверченко, чтобы не рисковать своим капиталом, начал отдавать предпочтение материалам «клубничного» типа, бракуя все остальное. Из года в год росло количество материалов, написанных им самим: в 1909 г. из 333 фельетонов 216 принадлежали Аверченко.
«Быт», который был главным объектом обличения в журнале, со временем превратился в «бытовизм» самих сатириков. Осуждение «матери-пошлости» обернулось ее приятием, хотя и не лишенным иронии, а отсутствие четкой положительной программы – примирением с обывательщиной. «Избежать всего этого нельзя, но можно презирать все это», – повторяет Саша Черный вслед за Сенекой. В годы нового общественного подъема, когда от сатиры потребовалась действенность, социальная активность, «Новый Сатирикон», пришедший на смену «Сатирикону», не смог удержаться на прогрессивных позициях.
Эволюция «Сатирикона» характерна для большинства буржуазно-либеральных изданий периода реакции («Кривое зеркало», «Современник», «Свисток» и др.). Культивируя сатиру на общественные правы и «созерцательный» юмор, они превратили смех в «волшебный алкоголь», утешающий и развлекающий читателя. Неприятие современного общественного строя проявлялось в этих изданиях довольно отчетливо. Однако критика, подчас достаточно острая, была окрашена мотивами тоски. Саша Черный писал:
Есть парламент, нет? Бог весть,
Я не знаю. Черти знают.
Вот тоска – я знаю – есть,
И бессилье гнева есть…
Люди ноют, разлагаются, дичают,
А постылых дней не счесть.
Бессилие смеха и бессилие гнева – характерная черта сатириконства, противоположная воинствующему сарказму пролетарской сатиры.
II Глава.
Своеобразие сатирических рассказовА. Т. Аверченко 1900-х – 1917гг.
1. Сатирическое изображение «среднего» человека-обывателя.
До 1918 года вышло более 40 сборников рассказов Аркадия Аверченко. К ним относятся такие, как «Рассказы», «Зайчики на стене», «Веселые устрицы», «Круги на воде», «О маленьких – для больших», «Сорные травы», «Рассказы для выздоравливающих», «Черным по белому», «О хороших в сущности людях», «Синее с золотом», «Чудеса в решете», повесть «Подходцев и двое других» и другие.
Тематика рассказов дореволюционного периода отличается удивительным многообразием. Объектом авторской уничтожающей иронии становятся различные реалии социального быта, а также «Частные» человеческие пороки. В центре авторского внимания оказывается городской обыватель – «средний» человек, решающий свои сиюминутные проблемы на фоне стремительно меняющегося исторического времени. Писатель разворачивает перед нами яркие картины жизни большого города, отмеченного признаками буржуазного прогресса и культурного «процветания».
Типичный представитель городского обывателя показан в рассказе «Рыцарь индустрии». Нужно сказать о том, что с этого рассказа началась литературная деятельность писателя. 31 октября 1803 года в харьковской газете «Южный край» был опубликован рассказ Аверченко «Как мне пришлось застраховать жизнь». Это был слабый вариант позднейшего остроумного рассказа о назойливом коммивояжере, который получил название «Рыцарь индустрии».
В этом рассказе мы видим «непотопляемого» коммивояжера Цацкина, предлагающего приобрести любые товары и доводящего случайных клиентов до состояния безумия. Он любыми возможными и невозможными способами пытается уговорить людей застраховаться в его фирме.
Вылетев из окна второго этажа, он попадает к очередному клиенту. Последнему его лицо знакомо: «Это не вас ли вчера кокой-то господин столкнул с трамвая?» – спрашивает он.
Цацкин отвечает ему:
« – Ничего подобного! Это было третьего дня. А вчера меня спустили с черной лестницы по вашей же улице. Но, правду сказать, какая это лестница? Какие-то семи паршивых ступенек.» (с. 36)
После этого коммивояжер начинает предлагать у него застраховаться «На дожитие или с уплатой времени … близким» После смерти; так как клиент оказывается одинок, Цацкин предлагает ему девушку – «… пальчики оближете! Двенадцать тысяч приданного, отец две лавки имеет! Хотя брат шарлатан, но она такая брюнетка, что даже удивительно.» (с. 37)
Затем следуют «лучшие» средства от меланхолии, от лысины, от морщин, «от ушей»: «Возьмите наш усовершенствованный аппарат, который можно надевать ночью… Всякие уши как рукой снимет!» (с. 38); для увеличения роста, от нервов, от головной боли, от утомленности… И так до тех пор, пока замученный человек не крикнул, «дрожа от бешенства»: «Вон! Пошел вон!... Или я проломлю тебе голову этим пресс-папье!!» (с. 38)
« – Этим пресс-папье… Вы на него дуньте – оно улетит! Нет, если вы хотите иметь настоящее тяжелое пресс-папье, так я вам могу предложить целый прибор из малахита…» (с. 38) – долго не раздумывая ответил Цацкин. Это могло продолжаться бесконечно, если бы не очередное окно, в которое пришлось выпрыгнуть Цацкину.
Как мы убеждаемся, Цацкин борется до последнего, лишь бы добиться своего и получить наибольшую выгоду.
В рассказе «Широкая масленица» мелкий Кулаков, умоляет хозяина гастрономического магазина одолжить ему «на прокат» фунт зернистой икры для украшения стола: «Что съедим – за то заплачу. У нас-то ее не едят, а вот гость нужный на блинах будет, так для гостя, а?» (с. 25)
А когда явился гость, Кулаков все боялся того, что тот его объест. Он предлагает пришедшему и грибки, и селедку, и кильку, только бы не притронуться к икре. Но гость заметил ее: «… Зернистая икра, и, кажется, очень недурная! А вы, злодей, молчите!
— Да-с, икра… — побелевшими губами пролепетал Кулаков…» (с. 27) Как не пытался Кулаков предложить какое-нибудь другое блюдо, ничего из этого не выходило. Приятель настаивал на том, что хочет лишь икры. И тогда Кулаков словно сошел с ума, взбесился, его жадности не было границ, точно так же, как и не было границ невежества гостя, поедавшего икру ложками.
«— Куш… кушайте! — сверкая безумными глазами взвизгнул хозяин. — Может, столовая ложка мала? Не дать ли разливательную? Чего же вы стесняетесь – кушайте! Шампанского? И шампанского дам! Может вам, нравится моя новая шуба? Берите шубу! Жилетка вам нравится? Сниму жилетку!...
И, истерически хохоча и плача, Кулаков грохнулся на диван.
Выпучив в ужасе и недоуменье глаза, смотрел на него гость, и рука с последней ложкой икры недвижно застыла в воздухе.» (с. 27)
Чиновник Трупакин, герой рассказа «Волчья шуба», совершает благородный поступок, одолжив бедному пианисту Зоофилову старую шубу для поездки в дальнее турне. «Лучше пусть она живую душу греет, чем даром лежит.» (с. 120) Расчувствовавшись от собственного жеста, «человеколюбец» сделал его лейтмотивом своей жизни, а вездесущая молва навеки связала успех пианиста с великодушным «меценатом».
В этих рассказах очень ярко и правдоподобно описывается жизнь обывателей, горожан, которые давно забыли о существовании нравственности, о гуманности и доброте, о гостеприимстве, вежливости и такте. Герои эгоистичны, надменны, лицемерны, думают только о собственной выгоде, забывая о человечности по отношению к другим.
Обнажая пошлую сущность обывательского сознания, Аверченко не ограничивается бытовыми зарисовками, вторгаясь в сферу социально-политическую. Рассказ «Виктор Поликарпович» затрагивает извечную тему ревизора и «гибкого» закона делающего какую-либо ревизию бесполезной и абсурдной. Расследую дело о незаконном портовом сборе в городе, где «никакого моря… нет», суровый ревизор резко «меняет курс», когда речь заходит о причастности к нему столичного сановника:
«Его превосходительство обидчиво усмехнулся:
— Очень странно: проект морского сбора разрабатывало нас двое, а арестовывают меня одного.
Руки ревизора замелькали, как две юрких белых мыши.
— Ага! Так, так… Вместе разрабатывали?! С кем?
Его превосходительство улыбнулся.
— С одним человеком. Не здешний. Питерский, чиновник.
— Д-а-а? Кто же этот человек?
Его превосходительство помолчал и потом внятно сказал, прищурившись в потолок:
— Виктор Поликарпович.
Была тишина. Семь минут нахмурив брови, ревизор разглядывал с пытливостью и интересом свои руки…
И нарушил молчание:
— Так, так… А какие были деньги получены: золотом или бумажками?
— Бумажками.
— Ну, раз бумажками – тогда ничего. Извиняюсь за беспокойство, ваше превосходительство. Гм… гм…» (с. 71-72)
Итак, забыв об обманутых людях, о несправедливости, о жажде кого-нибудь наказать, ревизор пресмыкается перед вышестоящим по должности Виктором Поликарповичем, не смея пойти против его воли.
Как тут не вспомнить гоголевских «борзых щенков»?!
А вот портрет обывателя эпохи надвигающихся социальных катаклизмов:
«Однажды беспартийный житель Петербурга Иванов вбежал бледный, растерянный в комнату жены и, выронив газету, схватился руками за голову.
— Что с тобой? — спросила жена.
— Плохо! — сказал Иванов. — Я левею» (с. 92)
Это портрет из рассказа «История болезни Иванова».
Оказывается «левение» героя началось после прочтения газеты: «С чего это у тебя, горе ты мое?! — простонала жена.
— С газеты. Встал я утром – ничего себе, чувствовал все время беспартийность, а взял случайно газету…
— Ну?
— Смотрю, а в ней написано, что в Минске губернатор запретил читать лекцию о добывании азота из воздуха…» (с. 92-93)
Жена не знала, что делать. Пыталась и молочка предложить, за доктором послать, и пристава позвать. Но «было слышно, как Иванов, лежа на кровати, левел.» На следующий день Иванов опять взял газету и еще больше «полевел».
Позвали пристава:
«Пристав взял его руку, пощупал пульс и спросил:
— Как вы себя сейчас чувствуете?
— Мирнообновленцем! <…>
— … А вчера как вы себя чувствовали?
— Октябристом, — вздохнул Иванов. — До обеда – правым крылом, а после обеда – левым…
— Рм… плохо! Болезнь прогрессирует сильными скачками…» (с. 93-94) Таким образом, мы видим как беспартийный Иванов боится перемен в жизни, не зная к кому примкнуть и не желая этого вовсе. Он типичный обыватель, консерватор, он сам донес на себя.
Следуя традициям Чехова и Салтыкова-Щедрина, Аверченко вскрывает всю абсурдность обывательского сознания, особенно отчетливо проявляющегося в кризисные моменты истории.
В рассказе «Робинзоны» мы наблюдаем историю двух людей, спасшихся с тонущего корабля. Один из них – интеллигент Павел Нарымский, другой – бывший шпик Пров Иванов Акациев. Не успели они доплыть до острова, как Пров принялся за свои служебные обязанности:
«— Ваш паспорт!
Голый Нарымский развел мокрыми руками:
— Нету паспорта. Потому.
Акациев нахмурился:
— В таком случае я буду принужден…
Нарымский ехидно улыбнулся:
— Ага… Некуда!...» (с. 83)
Акациев «застонал от тоски и бессилия» он не понял еще, что здесь, на необитаемом острове его власть потеряла свою значимость. Он, сам ничего не предпринимая для дальнейшей жизни на острове, надоедал Нарымскому. Тот уже построил дом, ходил на охоту, добывал пищу, не обращал на Акациева внимания. А Акациев приставал со своими вопросами:
«— А вы строительный устав знаете?...
— Разрешение строительной комиссии в рассуждении пожара у вас имеется?...
— Вы имеете разрешение на право ношение оружия?...
— Потрудитесь сдать мне оружие под расписку хранения впредь до разбора дела…» (с. 84)
С каждым днем Акациев придумывал новые и новые незаконные действия совершаемые Нарымским.
Однажды Нарымский отплыл так далеко, что ослабел и стал тонуть. Пров Акациев спас его:
«— Вы… живы? — с тревогой спросил Пров, наклоняясь к нему.
— Жив. — Теплое чувство благодарности и жалости навернулось в душе Нарымского. — Скажите… Вот вы рисковали из-за меня жизнью… Спасли меня… Вероятно, я все-таки дорог вам, а?
Пров Акациев вздохнул, <…> и просто, без рисовки ответил:
— Конечно, дороги. По возвращении в Россию вам придется заплатить около ста десяти тысяч штрафов или сидеть около полутораста лет.
И, помолчав, добавил искренним тоном:
— Дай вам Бог здоровья, долголетия и богатства.» (с. 86)
Аверченко издевался над жандармами и околоточными, чиновниками – взяточниками и либералами – говорунами, высмеивал лицемерие, ханжество, людские пороки. Делал он это размашисто, ядовито, свежо и в какой-то мере поверхностно. Похоже, он сам это чувствовал. В рассказе «Быт» он показывает писателя и редактора Аркадия Тимофеевича, т. е. себя, чьи книжки с удовольствием читает некий цензурно-политический чин, который традиционно накладывает причитающийся штраф за публикацию «недозволенного». А уж с околоточным, что приносит ему предписания, и вовсе «тепло, дружба, уют»:
«— За что это они, Семен Иванович?
— А вот я номерок захватил. Поглядите. Вот, видите?
— Господи, да что же тут?
—За что! Уж они найдут, за что. Да вы бы, Аркадий Тимофеевич, послабже писали, что ли. Зачем так налегать… Знаете уж, что такая вещь бывает – пустили бы пожиже. Плетью обуха не перешибешь.
— Ах, Семен Иванович, какой вы чудак! «Полегче, полегче!» Итак уж розовой водицей пишу. Так нет же, это для них нецензурно.
— Да уж… тяжелая ваша должность. Такой вы хороший человек, и так мне неприятно к вам с такими вещами приходить… Ей-богу, Аркадий Тимофеевич.
— Ну, что делать… Стаканчик чаю, а?» (с. 181-182)
Рассказ «День человеческий» точно выражает кредо писателя – философичного, зорко наблюдательного острослова, осмеивающего бренное обывательское бытие. Герой, чей голос почти сливается с авторским, томится среди чуждых ему, примитивных людей, но томится не без самолюбования собственным превосходством.
Дома, на улице, на вечеринке, на поминальном обеде – всюду его преследуют глупые разглагольствования, дурацкие вопросы, задаваемые «без всякой надобности, даже без пустого любопытства», которые он с ленивой насмешливостью парирует.
«— Как вы нынче спали? — спрашивает за утренним чаем «женина тетка»…
— Прекрасно. Вы всю ночь мне грезились…» (с. 46) Торопящийся на службу чиновник на ходу сует ему руку, бросая: «— Как поживаете, что поделываете? — а он задерживает его руку в своей и с серьезным лицом говорит: — Как поживаю? Да вот я вам сейчас расскажу… Хотя особенного в моей жизни за это время ничего не случилось, но есть все же некоторые факты, которые вас должны заинтересовать… Позавчера я простудился, думал, что-нибудь серьезное – оказывается, пустяки… Поставил термометр, а он…» (с. 47)
Наслушавшись банальностей и скабрезностей, расточаемых за столом на поминках по покойнику, – «Дуралей был преестественный. Не замечал даже, что жена его со всеми приказчиками того… Слышали?»
— «Жить бы ему еще да жить.»
— «Бог дал – бог и взял!» — «Все под богом ходим…» — «Жил, жил человек, да и помер», — герой сдерживает себя спасительным чувством юмора: «Не хотели ли вы, чтобы он жил, жил да и превратился в евнуха при султанском дворе… или в корову из молочной фермы?» (с. 49-50)
А вот печальная самоирония, редкая для дореволюционного Аверченко. «Так мы, глупые, пошлые люди хоронили нашего товарища – глупого, пошлого человека», — замечает герой, а дома, ложась спать, восклицает: «Бог! Хотя ты пожалей человека и пошли ему хороших – хороших, светлых – светлых снов!...» (с. 51-51)
2. Тема искусства в сатирической интерпретации.
Особое место в прозе сатирика занимает тема искусства и доморощенных «служителей», опошляющих саму идею творчества. Тяжелые редакторские будни писателя нашли свое отражение в таких рассказах, как «Поэт», «Аполлон», «Неизлечимые», «Аргонавты». Бесталанные потуги провинциальных авторов, манипуляции литературных мошенников и проходимцев, «изыски» порнографической прозы – все это представляет собой пеструю картину «окололитературного» быта и нравов. Основу сюжетов «редакторских историй» составляют столкновения автора – повествователя с неодолимой стихией графоманства и литературного «зуда», охватившего обывательскую массу:
«Я терпеливо выслушал эти стихи еще раз, но потом твердо и сухо сказал:
— Стихи не подходят.
— Удивительно. Знаете что: я вам оставлю рукопись, а вы после вчитайтесь в нее. Вдруг да подойдет.
— Нет, зачем же оставлять?!
— Право, оставлю. Вы бы посоветовались с кем-нибудь, а?
— Не надо. Оставьте их у себя.» (с. 28-29)
Этот диалог из рассказа «Поэт». Посетитель уговаривает редактора принять его стихи, читает их несколько раз. Положительно смешно, что все эти словесные баталии, как и охватившая затем редактора мания преследования, связаны со стихотворением начинающимся строками:
«Хотел бы я ей черный локон
Каждое утро чесать
И, чтоб не гневался Аполлон,
Ее власы целовать…» (с. 29)
Эти строки преследовали редактора всюду. Он находил бумажки со стихотворением у себя на столе, и в кармане, и дома на кухне, и в письме, переданном швейцаром… В конце концов редактор сел за стол, написал издателю письмо с просьбой освободить его от редакторских обязанностей.
В рассказе «Аргонавты» автор – повествователь жалуется на тяжкое бремя редакторского труда, состоящего в ежедневном просмотре многочисленных рукописей:
«Произведения, которые присылались авторами с прямой и бесхитростной целью увидеть свое имя в печати, были в большинстве случаев удивительным образчиком российской безграмотности, небрежности и наивности.» (с. 155)
Интересен рассказ «Неизлечимые» с эпиграфом: «Спрос на порнографическую литературу упал. Публика начинает интересоваться сочинениями по истории и естествознанию.» (с. 80) В этом рассказе писатель Кукушкин приходит к издателю Залежалову со своей новой рукописью. Зачитывает выдержки из нее: «… Темная мрачная шахта поглотила их. При свете лампочки была видна полная волнующая грудь Лидии и ее упругие бедра, на которые Гремин смотрел жадным взглядом. Не помня себя, он судорожно прижал ее к груди, и все заверте…» (с. 80-81)
Залежалов не принял эти рукописи, так как на данный период «читается естествознание и исторические книги.» «Пиши, брат Кукушкин, что-нибудь там о боярах, о жизни мух разных…» (с. 81)
Кукушкин не растерялся и через неделю принес издателю две рукописи.
«Были они такие:
1. Боярская проруха.
Боярышня Лидия, сидя в своем тереме старинной архитектуры, решила ложиться спать. Сняв с высокой волнующейся груди кокошник, она стала стягивать с красивой полной ноги сарафан, но в это время… вошел… князь Курбский.
<…>
— Ой, ты, гой, еси, — воскликнул он на старинном языке того времени.
— Ой, ты, гой, еси, исполать тебе, добрый молодец! — воскликнула боярышня, падая князю на грудь, и все заверте…
2. Мухи и их привычки.
(Очерки из жизни насекомых.)
Небольшая стройная муха с высокой грудью и упругими бедрами ползала по откосу запыленного окна. Звали ее по-мушиному – Лидия. Из-за угла выползла большая черная муха <…> Простерши лапки, она крепко прижала Лидию к своей груди, и все заверте…» (с. 82-83)
Аверченко убеждает, как губительны для литературной речи всяческого рода штампы, которые часто рождаются и начинают кочевать со страницы на страницу, из уст в уста по вине журналистов. В своих воспоминаниях один из друзей Аверченко, прочитав рассказ «Неизлечимые» писал: «… разражаешься и теряешь смысл прочитываемого, если вновь и вновь натыкаешься на «набившее оскомину» выражения…»
Аверченко не обходит стороной и новинки живописи, вызывающие подчас не меньшее удивление, а порой и откровенное негодование культурного человека. Вот впечатление журналиста, посетившего выставку картин неоноваторов, вошедших в творческое объединение «Ихневмон», так и называется рассказ:
«Там висели такие странные, невиданные мною вещи, что если бы они и не были заключены в рамы, я бился бы об заклад, что на стенах развешаны отслужившие свою службу приказчичьи передники из мясной лавки и географические карты еще не исследованные африканских озер.» (с. 54)
Примечателен диалог посетителя с билетером, рассказывавшим о том, как несчастный багетчик тщетно пытался определить, где у пресловутых «шедевров» верх и низ. Для писателя – сатирика подобное «творчество» не может оставаться безнаказанным.
Читая рассказ «Изумительный случай», мы становимся свидетелями фантастического явления: художник – модернист Семиглазов и его супруга превращаются в уродливых персонажей «семиглазовской живописи». От последствий «мутаций» героев спасает только уничтожение картин – прототипов.
Также, мы видим, что Аркадий Аверченко не принимает и отвергает новые модернистские течения в искусстве.
В рассказе «Крыса на подносе» молодые представители «нового искусства» сами оказываются подсобным материалом абсурдного действа, организованного разгневанным «поклонником»:
«А у меня свой способ чествовать молодые, многообещающие таланты: я обмазываю их малиновым вареньем, насыпаю конфетти и, наклеив на щеки два куска бумаги от мух, усаживаю чествуемых на почетное место. Есть вы будете особый салат, приготовленный из кусочков обоев изрубленных зубных щеток и теплого вазелина. Не правда ли, оригинально?» (с. 188).
В дореволюционном творчестве писателя критики усматривали ненависть «к среднему, стертому, серому человеку, к толпе, к обывателю». Нет, в эти годы в произведениях юмориста нет ненависти, скорее – недоумение, удивление, сочувствие, неприятие «серости». Люди просто «больны», они заразились пошлостью и глупостью, а смех способен излечить их. Названия книг говорят сами за себя – «Рассказы для выздоравливающих», «О хороших, в сущности, людях», «Позолоченные пилюли». Но все труднее и труднее сопротивляться засилию серости, и подчас в миниатюрах звучат уже другие ноты. «Я люблю людей. Я готов их всех обнять. Обнять и крепко прижать к себе. Так прижать, чтобы они больше не пикнули. Отчего я писатель? Отчего я не холера? Я бы знал тогда, кому следует захворать.», – здесь, в этом ироничном заявлении из книги 1915 г. «Чудеса в решете» мы можем найти истоки живого сарказма послереволюционных рассказов писателя.
3. Юмор в освещении «вечных тем» в рассказах А. Аверченко.
В прозе Аверченко есть и мотивы, относящиеся к разряду вечных. Это неумирающая тема мужчины и женщины («День человеческий», «Жена», «Мужчины»), Взаимоотношения поколений («Отец», «Старческое»), извечное противостояние взрослых и детей («О маленьких для больших»)
В рассказе «Мужчины» разоблачается сущность мужчин, их легкомыслие и безответственность. Перед нами немолодая женщина «с траурным крепом на шляпе». Она пришла к любовнику своей дочери, которая умерла с его «именем на устах» и у которой от него родилась дочь. Все это было шесть лет назад. Женщина подробно рассказывает историю их романа, но не называет имени дочери, будучи уверенной, что тот ее вспомнил. Но мужчина слушая даму, никак не мог понять, о ком идет речь. Когда женщина сообщила о ребенке, которого намерена была отдать ему, отцу на воспитание, мужчина и вовсе испугался. В конце оказалось, что женщина ошиблась номером, ей нужен был Классевич, а она попала к Двуутробникову.
Постоянными героями произведений Аверченко являются дети. До революции они были для писателя воплощением чистоты, искренности, собственного достоинства и здравого смысла. Он сочинял «о маленьких – для больших», заставляя взрослых задумываться, во что они превратили свое существование. В годы гражданской войны детская тема звучит по-новому. Аверченко показывает, как взрослые в безумии своем калечат детские души. Дети остаются для писателя средоточием всего самого хорошего, но теперь его герои – дети, лишенные детства. Счастливы те, кто еще помнит прежнюю жизнь, для кого бризантные снаряды еще не заслонили окончательно голубую ленточку с малюсеньким золотым бубенчиком («Трава, примятая сапогом»). Но все чаще и чаще персонажами рассказов становятся дети, с недоверием выслушивающие воспоминания об обедах, железных деньгах и игрушках, дети, для которых нормальная жизнь – не более чем сказка («Русская сказка»). Они не знают, что такое «завтракать» («Урок в совдепской школе»), не могут решать задачи из старых учебников, ибо их детское сердце отказывается воспринимать написанную там «неправду», и живой интерес вызывают у них уже не цветы, выросшие на поляне, а совсем другое: «детская деликатность мешает ему сказать, что самое любопытное из всего виденного сегодня – человек с желтым лицом, висячим посреди улицы на тонкой веревке» («Золотое детство»). Книги им заменяют вдранные страницы, в которые рыбник заворачивает свой товар («Володька»), а самым ненавистным сказочным героем становится Красная Шапочка («Новая русская сказка», «Русская сказка»). «Все детство держится на традициях, на уютном, как ритмичный шелест волны, быте. Ребенок без традиций, без освященного временем быта – прекрасный материал для колонии малолетних преступников в настоящем и для каторжной тюрьмы в будущем», – пишет Аверченко в рассказе «Миша Троцкий». Уничтожив прошлое, большевики не просто погубили настоящее – они убивают будущее («Отрывок будущего романа»).
Именно к рассказам о детях обращается писатель, почувствовав необходимость отрешиться от ужасов последних лет, вернуться к своей прежней – веселой манере письма. Сборник «Дети» – первая попытка сделать книгу в дореволюционной стилистике, объединить чисто юмористические произведения. Сразу скажем, что писателю не удалось обойтись без «Исторического фона» – и это вполне объяснимо. В книгу вошли рассказы, созданные за последние четыре года – годы революции и гражданской войны, и, несмотря на то, что юморист старался отбирать произведения без «злости» и без «надрыва», «мироощущение эпохи», ее разорванность, безысходность, трагизм чувствуются в каждой миниатюре. В отличие от ранних юморесок, где время от времени возникал образ «мальчика с затекшим глазом», сейчас для Аверченко нет плохих детей. Они все – как душистые гвоздики, любой – яркий цветок средь грязи и серости окружающей жизни. Но беда в том, что дети растут, превращаются во взрослых: «Увы! Желуди-то одинаковы, но когда вырастут из них молодые дубки – из одного дубка сделают кафедру для ученого, другой идет на рамку для портрета любимой девушки, а из третьего дубка смастерят такую виселицу, что любо-дорого…» («Три желудя»). Аверченко постоянно помнит об этом, и для него очень важно противопоставить страшному, расколотому миру взрослых покой и единство детей:
«Милая благоуханная гвоздика!
Моя была бы воля, я бы только детей и признавал за людей.
Как человек перешагнул за детский возраст, так ему камень на шею, да в воду.
Потому взрослый человек почти сплошь мерзавец…»
Сборник Аверченко «О маленьких для больших» – одна из лучших дореволюционных книг писателя. Свежесть восприятия, трогательную чистоту и бесхитростную правду детского мира Аверченко противопоставляет корыстному лживому миру взрослых. Голос писателя окрашен доброй, возвышенно-романтической интонацией, за которой почти не слышна ирония. Дети вызывают сочувствие писателя своей непосредственностью, они выламываются их опостылевшей ему нудно размеренной обывательской жизни. Аверченко вообще сосредоточивает внимание на тех, кто разрывает круг привычных моральных норм: дети, весельчаки, пьяные, легкомысленные женщины. Дружба, любовь, остроумная шутка, земные радости – вот фактически и вся положительная программа Аверченко. Он совершил эволюцию от смеха-лекарства к смеху-забвению, в котором, по выражению Блока, можно было, как в водке, утопить «свою радость, и свое отчаяние, себя и близких своих, свое творчество, свою жизнь, и, наконец, свою смерть».
Изобретательность и фантазия Аверченко были поистине неисчерпаемы, он обладал какой-то особой способностью замечать в жизни смешное. Большинство ранних произведений Аверченко держится на эксцентрически веселом сюжете, на комизме поз и карикатурности положений.
Аверченко нагромождает одно событие на другое, веселые ситуации без конца сменяют друг друга. Ему мало улыбки читателя. Он должен довести его до колик в желудке, кормить смехом, пока тот не запросит пощады. Аверченко расточителен и не умеет ограничить себя, его смех превращается в гомерический хохот.
Буйная творческая энергия породила фантастическое количество юмористических рассказов, которые Аверченко писал с необычайной легкостью и быстротой.
Аверченко создает обобщенные юмористические типы: специалист, проводник, лентяй, доводя при этом какую-то присущую им характерную черту до абсурда. Его лентяй настолько ленив, что не хочет поднять выпавшую из рук книгу, привести в порядок костюм, даже покончить с собой ему лень. Когда он нечаянно лег на свежую газету, то начал обрывать ее по краям и вытягивать из под себя, чтобы прочесть. Аверченко пользуется фантастикой, доводит до абсурда юмор положений.
Аверченко предлагает русскому обществу беззаботный смех как лекарство от тоски, смехом борется с наступившей реакцией, с болезнью духа. Он описывает жизненные явления так, что становится очевидной фальшь существующих моральных устоев и общественных отклонений. В этом смысле смех Аверченко целебен.
Глава 3.
Сатирическая направленность послереволюционного творчества А. Т. Аверченко
1. Политическая проблематика в сатирических рассказах Аверченко.
Переломным в творчестве Аверченко стал 1917 г. В начале года возглавляемый им «Новый Сатирикон» приветствует свержение монархии. Стоявший всегда в оппозиции к царскому правительству Аверченко видел в Николае II и в абсолютизме источник многих бед России и, в первую очередь, военных поражений. Не радовала его и достаточно жесткая цензура, существовавшие ограничения гражданских прав и свобод.
У Аркадия Аверченко был псевдоним – «Фома Опискин», которым он чаще всего подписывал рассказы-фельетоны на политические темы. Автор выступал и против демагогической болтовни в Государственной думе, и против многочисленных партий – крайне левых, крайне правых, а заодно и центристских. Многий, в том числе и Аверченко, искренне верили, что с падением династии Романовых начнется эпоха всеобщего процветания.
Однако, демократическая эйфория продлилась недолго. Наблюдательность и здравый смысл позволили писателю быстро разобраться в сложившейся ситуации. Позже, в фельетоне «Две власти», прозвучит скорбное признание писателя:
«Так после такого со мной обращения «рабоче-крестьянской», для меня золотопогонник приятнее родного любимого дяди!
Потому, что ежели что выбирать из двух, то я предпочитаю, чтобы мне на ногу наступили, чем снесли пол черепа наганом». (с. 115)
В «Новом Сатириконе» начинают появляться все более резкие выпады в адрес Временного правительства и лично новоявленного «вождя и спасителя отечества» – А. Ф. Керенского. Пожалуй, никому так не доставалось от Аверченко. Были люди, которых Аверченко сильно ненавидел, но не было человека, которого бы он глубже презирал. «Много есть людей, у которых ужасное прошлое, но ни одного я не знаю, у кого бы было такое стыдное прошлое, как у вас», — напишет Аверченко в 1923 г. в книге «12 портретов» (в формате «будуар»). Именно Керенский, как пишет Аверченко, «тщательно, заботливо и аккуратно погубил одну шестую часть суши, сгноил с голоду полтораста миллионов хорошего народа, того самого, который в марте 1917 года выдал» ему «авансом огромные, прекрасные векселя». За считанные месяцы Председатель Временного правительства и Верховный Главнокомандующий сумел полностью подготовить почву большевикам для захвата власти. Троцкому было за что благодарить «Сашку-какашку».
Летом 1917 года еще сохранялись какие-то надежды на изменение к лучшему, окончательно развеянные октябрьскими событиями.
«За гробом матери» – так называется фельетон опубликованный в 43 номере «Нового Сатирикона» 1917 года, с которого начинается «новый Аверченко». «Мы не можем смеяться, — пишет он от имени сатириконцев. — мы могли бы плавать в смехе, в этом чудовищном бурлящем океане смеха, а мы, беспомощные, лежим на берегу этого океана на песке, и только судорожно открываем рот.» (с. 31)
Когда серость пришла к власти, когда толпа начала диктовать, у Аверченко действительно родилась ненависть, и если б он был холерой, то не побоялся бы устроить эпидемию. Но ненависть сама по себе вряд ли способна создать значительные художественные произведения. Яркими рассказы Аверченко делает любовь – любовь к России, любовь к жизни, любовь к искренности, чистоте, справедливости, уму и глубоким чувствам, любовь к настоящим людям – любовь, породившая ненависть к силе, утверждающей грязь, обман, бесправие и безверие, вознесшей звериные инстинкты выше искры Божьей. Аверченко уже не снимает траурной повязки, не смолкнут проклятья, не затянется рана в сердце, не высохнут слезы, и надолго исчезнет прежний веселый, беззаботный, радостный, вдохновенный смех.
После Октябрьского переворота сатира окончательно вытесняет юмористику со страниц «Нового Сатирикона». Рядом с заглавием журнала, там, где раньше – с 1914 года – была надпись «Война!», теперь появились слова «Отечество в опасности».
«Самое важное» – так называется фельетон Аверченко, опубликованный в первом номере за 1918 год. Политика властно вторгается в жизнь простых растерявшихся людей, и они уже сами не ведают, что творят. Они уже не люди – они кадеты и социал-демократы, имперцы и федералисты, правые и левые… Доктор, прежде чем лечить маленькую девочку, придирчиво расспрашивает отца о его политических взглядах – как тот смотрит на отделение Украйны, за какой список голосовал в Учредительное; влюбленные сорятся, потому что ему нравится Керенский, а ей – большевики.
«Трусливая, крадущаяся, как шакал, фигура штатского» подходит к стройной шеренге солдат, «начинает нашептывать что-то – одному, другому, третьему…», и рота солдат превращается в кучу разбойников.
В детстве для автора «не было на свете чудеснее человека, чем черноморский матрос», «но… из грязного вонючего переулка, вихляя задом выполз шакал, шепнул вам два спутанных по своей простоте и доступности словечка – и вот уже полетели на Малаховом кургане головы ваших благородных офицеров, и носите вы по притихшим от ужаса славным севастопольским улицам эти головы, вонзив их на обагренные святой кровью штыки…» (с. 83)
В рассказе «Болотная кровь» Аверченко не обвиняет солдат, ему еще кажется, что те могут одуматься, ужаснуться содеянному. Большевики виноваты в страшном превращении орлов в коршунов-стервятников:
«Нет! Нет! Пусть не на них кровь мучеников – бедные они, темные, задуренные, затуманенные люди! Видите вы эту шакальную морду, которая хохочет во мраке? На ней кровь.» (с. 21)
После прихода к власти большевиков юмор Аверченко стал менее добродушным и бесшабашным. В его рассказах, зарисовках, фельетонах звучали нотки горестно-саркастические, а то и злые, свидетельствующие о душевной боли писателя. «Гляжу я искоса в зеркало… – и нет больше простодушия в выражении лица моего», – признавался Аверченко в «Заключении» к сборнику «Записки простодушного».
Озлобленным «почти до умопомрачения к белогвардейцам» назвал Ленин Аркадия Аверченко. Только кто же на самом деле сошел с ума – Аверченко, его персонажи, или те, и другие?... Русский человек, задумавшийся о судьбе России, попадает в сумасшедший дом. «Все там будем», – с грустью говорит сатирик.
В 1918 году Аркадий Аверченко сравнительно мало пишет, пытаясь осмыслить происходящее. Более того, с середины года с редактором «Нового Сатирикона» объявляется Аркадий Бухов. Веселый смех сатириконцев смолк, но это время Аверченко впоследствии будет вспоминать с гордостью: «Смеялся мой «Сатирикон», смеялся мой «Барабан», смеялся мой «Бич» Аркадия Бухова, и от каждой нашей улыбки, от каждой смешинки – на упитанном большевистском теле оставались розовые, долго не заживавшие царапины»?. Было очевидно, что большевики не собираются долго терпеть враждебную прессу, да и само пребывание в Петрограде становилось небезопасным. 18 июля 1918 года «Новый Сатирикон» запретили. Конец журнала знаменует и завершение сатирического периода творчества писателя.
Аверченко преследовали власти. Он решительно осудил Октябрьский переворот семнадцатого года. Ленина, Троцкого и их приспешников он заклеймил на страницах «Сатирикона» как германских провокаторов, «жуликов и убийц».
Однажды к его дому по Троицкой улице (ныне улица Рубинштейна) подкатил грузовик с незваными гостями, – им надлежало арестовать писателя и препроводить его в ЦК на Гороховую. Но Аверченко, который назовет «чрезвычайку» самым ярким порождением Третьего Интернационала, а лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» переиначил в «Палачи всех стран, соединяйтесь!» (рассказ «Чертово колесо»), в Петрограде уже не было. Узнав о готовящейся над ним расправе, он спешно уехал в Киев.
За писателем началась настоящая охота «Ты гонял меня по всей России как соленого зайца» – вспомнит Аверченко в «Приятельском письме Ленину», полном едкого сарказма. 1 Из Киева Аверченко перебрался в Харьков, потом в Ростов, в Екатеринодар, Новороссийск, Севастополь, Мелитополь, затем в Константинополь. Остановился же он в Праге, где долгие годы продолжал театральное и писательское творчество.
2. Анализ сборника «Дюжина ножей в спину революции».
Лучший из своих рассказов Аверченко собирает в две книги – «Нечистая сила: Книга новых рассказов» и «Дюжина ножей в спину революции». Последняя вышла в 1921 году в парижском издательстве. Однако в 1920 году в симферопольской газете «Таврический Голос» было опубликовано объявление, в котором желающим приобрести новую книгу Аверченко «Дюжина ножей в спину революции» предлагалось обращаться в издательство «Таврический голос». Таким образом, можно предположить, что сборник составлен еще в первой половине 1920 года и его следует рассматривать при анализе данного периода творчества писателя. «Нечистая сила» же вышла в Севастополе в 1920 году.
Показательно, что первые две книги, подготовленные Аверченко после отъезда из Петрограда, – сборники политической сатиры.
В предисловии книги «Дюжина ножей в спину революции» писатель восторженно пишет о революции: «Революция – сверкающая прекрасная молния, революция – божественно красивое лицо, озаренное гневом рока, революция – ослепительная яркая ракета, взлетевшая радугой среди сырого мрака!...», «рождение революции прекрасно, как появление на свет ребенка, его первая бессмысленная улыбка, его первые невнятные слова, трогательно умилительные, когда они произносятся с трудом лепечущим, неуверенным в себе розовым язычком…»?
Писателю хочется верить, что вот-вот остановится русский человек, схватится за голову, прогоняя пьяный угар. Тяжелым будет похмелье, но все же закончится наконец бессмысленное буйство:
«Сейчас русский человек еще спит… Спит, горемыка, тяжким похмельным сном. Но скоро откроет заплывшие глаза, потянется и, узрев в кривом зеркале мятое, заспанное, распухшее. лицо – истошным голосом заорет:
— Человек! Бутылку сельтерской! послушай, братец, где это я?»1 Начиная с рассказа «Человек! Бутылку сельтерской.» в произведениях Аверченко звучит безысходность. Миниатюра состоит из двух частей, и если начало второй части, процитированное выше, сулит надежду, то в финале настроение меняется:
«Широка, ой как широка натура у русского человека…
Разойдется – соловьев на шпильках в каминах жарит, стерлядь кольчиком вместо галстука носит, а проспится, придет в себя – только ладонями об полы хлопает.
— Мать честная чего же я тут надрызгал?!
Да поздно уж.
Вон там, в туманной дали уж и счет за выпитое, съеденное и попорченное – не суд…
— Видишь?» (с. 23-24)
Революция здесь понимается как «переворот и избавление», «светлое, очищающее пламя», в котором за несколько дней сгорает все уродливое, старое, скверное. Аверченко принимает февральский переворот, гордится, что боролся «против уродливости минувшего царизма». В том же предисловии Аверченко пытается развести революцию и ее последствия – «хорошую» по определения революцию испортили «плохие» люди. Еще в Петрограде писатель задумывается над истоками происходящего, да и в самом названии сборника, несмотря на попытки «оправдаться» в предисловии, слышны несколько иные ноты. В дальнейшем сатирик перестанет разделять революцию и ее последствия – и именно февральская революция (не октябрьская) станет рассматриваться как переломный момент.
Сборник «Дюжина ножей в спину революции» стоит ближе всего к творчеству писателя «сатирического» периода. Аверченко стремится создать в книге целостную, объемную картину жизни, собирая под одной обложкой очень разные произведения, объединенные лишь общей проблематикой и авторским восприятием.
«Фокус великого кино» – попытка на нескольких страницах описать весь период «меж двух революций», заведомая неправдоподобность приема – «прокрутить» жизнь назад, как кинематографическую ленту, – подчеркивает безвозвратность утерянного. Роль внешней сужетно- оппозиционной рамки повествования играет обращение автора к воображаемому или реальному собеседнику с предложением «отдохнуть от жизни», помечтать. Далее следует авторское воспоминание об удивительной картине, виденной однажды в кинематографе, – комическом зрелище, возникающим при демонстрации пущенной в обратную сторону пленки.
«Ах, если бы наша жизнь была похожа на послушную кинематографическую ленту!» (с. 199) – восклицает взволнованный повествователь. и вот уже сверкает сталью убийственного авторского сарказма первый из обещанной дюжины ножей: «…Все новое и новое мелькание ленты: Ленин и Троцкий с компанией вышли, сели в распломбировнный вагон, тут же его запломбировали, и – укатила вся компания задним ходом в Германию». (с. 199)
Повинуясь воле киномеханика, стремительно сворачивается, движется вспять кровавое революционное действо с его разрухой, голодом, расстрелами и демагогическими декретами. И лишь один эпизод требует немедленной остановки – день объявления царского манифеста, направленного на успокоение растревоженной революционными бурями страны. На этом этапе повествования забавное путешествие во времени уступает место грустным думам о потерянной родине: «Ах, сколько было надежд, и как мы любили, и как нас любили…» (с. 200) В связи с этим можно вспомнить блоковские строки:
Рожденные в годы глухие
Пути не помнят своего.
Мы – дети страшных лет России –
Забыть не в силах ничего.
В «Поэме о голодном человеке» действие происходит в большевистском Петрограде. Но автор пишет не о зверствах большевиков, а о судьбе простых, измученных людей, цепляющихся за свои воспоминания о еде, как за последние кусочки старого мира. Тема «еды» становится одной из центральных в творчестве писателя. Именно это сравнение, по мысли Аверченко, наиболее ярко, наглядно, убедительно опровергает все теоретические разглагольствования большевиков, всю бессмысленность демагогических рассуждений о защите эксплуатируемых от эксплуататоров. «Поэма о голодном человеке» – еще один «нож возмездия», зажатый в костлявой руке голодающего и напоминающий о праве любого человека на жизнь.
«То, о чем я хочу сейчас написать, ужасно трудно выразить в словах… Так и подмывает сесть за рояль, с треском опустить руки на клавиши – и все, как есть, перелить в причудливую вереницу звуков, грозных, тоскующих, жалобных, тихо стонущих и бурно проклинающих.» (с. 204) Это скорбно – патетическое вступление предваряет рассказ о том, как компания голодающих из «бывших» собирается на одной из петербуржских квартир, чтобы поделиться воспоминаниями о безвозвратно ушедшей эпохе заказных вин и изысканных закусок. От подобной завязки веет щедринским сарказмом: генералы из известной сказки, очутившись на необитаемом острове, тоже предаются гастрономическим воспоминаниям. Улыбку вызывает и сам характер диалога действующих лиц:
«— Начнем, что ли? Сегодня чья очередь?
— Моя.
— Ничего подобного. Ваша позавчера была. Еще вы рассказывали о макаронах с рубленой говядиной.
— О макаронах Илья Петрович рассказывал. Мой доклад был о панировочной телячьей котлете с цветной капустой…» (с. 205)
И вновь проявляется идейная многоплановость прозы Аверченко: комическое действо постепенно перерастает в вопль души, растоптанной новым режимом. Доведенные до безумия голодные люди поднимают «комнатный» мятеж, грозя карой идеологам пролетарского государства. И здесь в повествование врывается грустно-саркастическая нота: сил у «восставших» хватает лишь на то, чтобы добежать до порога гостиной. Отдышавшись, обессиленная компания возвращается к прерванному вспышкой негодования занятию… Финал «Поэмы…» возвращает нас к мрачной патетике пролога: «Тысяча первая голодная ночь уходила… ковыляя, шествовало на смену тысяча первое голодное утро.» (с. 208) Аверченко показывает людей, доведенных до крайней степени отчаяния, людей, для которых уже не существует политических, деловых, научных проблем – все их силы тратятся на выживание. Но сатирические стрелы писателя направлены как в тех, кто узурпировал власть, так и в тех, кто допустил это.
«Ровно десять лет тому назад рабочий Пантелей Грымзин получил от своего подлого гнусного хозяина кровопийцы поденную плату за девять часов работы – всего два с полтиной!!!» (с. 213) Так начинается рассказ «Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина». Это пародийно-ироническая завязка воспроизводит известную формулу ограбления рабочих капиталом. Но далее следует подробный перечень покупок, сделанных «беднягой Пантелеем» на упомянутые деньги: выделив часть их на ремонт сапог, он приобрел «пол фунта ветчины, коробочку шпрот, булку французскую, пол бутылки водки, бутылку пива и десяток папирос» (с. 213), и все это на суточный заработок! Одновременно с этим включается «естественный» механизм пролетарской ненависти: Пантелей гневно клеймит богачей-эксплуататоров, наживающихся на труде бесправного народа. Герой мечтает о свободе для трудящихся: «То-то мы бы пожили по-человечески!..» (с. 214) С той «безотрадной» картиной перекликается второй сюжет, рисующий положение рабочего Грымзина после обретения «свободы» в результате победившей революции: о ветчине и шпротах теперь можно лишь мечтать, а на суточный заработок «гегемон» приобретает лишь фунт «полубелого» хлеба и бутылку ситро. В финале рассказа звучит авторская оценка происходящего в России: «Эх, Пантелей, Пантелей… Здорового ты дурака свалял, братец ты мой!..» (с. 214) В дальнейшем сбитые с толку пантелеи, приученные к «новым» условиям жизни, составят слой «полуинтеллигентных» граждан, психология которых станет объектом изображения другого талантливого сатирика – Михаила Зощенко.
От рассказа к рассказу Аверченко убеждает читателя в том, что в классовой борьбе не может быть победителей и побежденных: от революции в равной степени пострадали и представители господствующих классов, и те, ради кого было раздуто пламя революционного мятежа. Все общество оказалось вовлечено в разрушительное действо, а огромная страна уподобилась поезду, сошедшему с рельс. Определяя сущность происходящего, Аверченко находит яркий ассоциативный образ – «Чертово колесо». Именно так называется еще один рассказ из «Дюжины ножей…»
«Чертово колесо» начинается диалогом двух обывателей:
«— Усаживайся, не бойся. Тут очень весело.
— Чем же весело?
— Ощущение веселое.
— Да чем же веселое?
— А вот как закрутится колесо, да как дернет тебя с колеса, да как швырнет о барьер, так глаза в лоб выскачут! Очень смешно!» (с. 208-209).
Далее следует описание Петербургского «Луна-парка», изобилующего разного рода аттракционами и развлечениями для зевак.
Воображение художника безошибочно угадывает в этой череде глупых забав аналогии с далеко небезобидными «забавами» русской революции. Как можно заметить, очередной «нож» авторской иронии попадает в точно обозначенную цель. Катание в грохочущей «Веселой Бочке» напоминает путешествие русского человека с семьей из Чернигова в Воронеж в «наше веселое революционное время», а стояние перед кривым зеркалом – чтение «непримиримой чужепартийной газеты». (с. 209) «Веселая кухня» с битьем старой посуды наилучшим образом иллюстрирует процесс «отречения от старого мира», а «Таинственный Замок» ассоциируется с чрезвычайкой, объединившей «палачей всех стран»: «…самое одуряющее, схожее – это «чертово колесо!»» (с. 211) Что это, как не головокружительный аттракцион русской политической жизни? Бешенное вращение колеса истории завораживает, притягивает к себе внимание политических авантюристов всех мастей.
«Радостно посмеивается Керенский, бешено вертясь в самом центре – кажется, и конца не будет этому сладостному ощущению…» (с. 212) Но финал этого в высшей степени рискованного развлечения, увы, предсказуем: один за другим вылетают, будто пущенные из пращи камни, «комиссары чертового колеса». Однако неудачи одних не ослабляют политического энтузиазма других: дьявольское колесо революционной смуты манит к себе новых «ловцов удачи». Но наступает время горького осмысления трагических последствий очередного большого политического аттракциона:
«Горяч русский дурак – ох, как горяч… Что толку с того, что потом, когда очухается он от веселого азарта, долго и тупо будет плакать свинцовыми слезами и над разбитой церковью, и над сокрушенными вдребезги финансами, и над мертвой уже наукой, зато все теперь смотрят на дурака! Зато теперь он центр веселого внимания, этот самый дурак, которого прежде и не замечал никто.» (с. 210) Безотрадная перспектива не пугает политических игроков, одержимых идеей власти. В этом шумном историческом спектакле интеллигенции отведена роль пассивного зрителя: «А мы сейчас стоим кругом и смотрим, кто первый поползет окорач по гладкой полированной поверхности, где не за что уцепиться, не на чем удержаться…» (с. 212)
Обозначенная в «Чертовом колесе» авторская пассивность вызывает сомнения: само содержание рассказов являет собой активную критику извращенной революционной идеи. Автор-повествователь не скрывает своих симпатий и антипатий. Вот он подзадоривает киномеханика («Крути, Митька, крути!»), пытаясь с помощью кинофокуса на миг вернуть Россию в спокойное предреволюционное прошлое («Фокус великого кино»), а вот он уже за столом голодающих, решившихся возвысить свой голос против разрухи и хаоса («Поэма о голодном человеке»).
Революция не только убивает физически, она калечит духовно. Дети, у которых отняли детство, дети, на слух различающие шрапнель и обыкновенную трехдюймовку, – вот еще одно следствие происходящего. Но если Аверченко в глубине души разуверился в способности взрослых проявить благоразумие, то в детей он продолжает верить. В рассказах на эту тему тоже используется контраст – несмотря на весь ужас происходящего, детская душа сохраняет свою искренность и чистоту. Напоминание об искалеченных войной детских душах – еще один «нож», оставляющий в железном теле революции незаживающую рану. В рассказе «Трава примятая сапогом» авторская позиция показана через диалог повествователя с маленькой девочкой. Здесь ощущается все тот же неповторимый колорит аверченковой прозы «Знаешь, ты ужасно комичный», – замечает в адрес собеседника маленькая героиня. (с. 201) Диалог ребенка и взрослого, в совершенстве владеющего умением шутя – серьезно говорить с детьми, изобилует трогательными деталями и подробностями разговор о здоровье «многоуважаемой куклы», обещание автора расправиться с обидчиком комаром, стихи о Максе, который «вечно ноет». На фоне этой легкой словесной игры резким диссонансом звучат поражающие своей недетскостью рассуждения восьмилетнего ребенка. «Какая же это шрапнель? Обыкновенную трехдюймовку со шрапнелью спутал. Ты знаешь, между прочим, шрапнель, когда лежит, так как-то особенно шуршит. А бризантный снаряд воет, как собака.» (с. 203)
Трагическое соединение несоединимого подчеркивает бесчеловечную, абсурдную сущность эпохи классовой борьбы. Например, вспоминая о бубенчике для котенка, героиня сетует на то, что «бубенчик был с маминым золотом в сейфе и коммунисты его по мандату Минфина реквизировали.» (с. 202) Самоочевидным возражением этому жестокому миру вражды и насилия является беззащитное детство, подобное молодой травке, примятой тяжелым кованым сапогом: «По зеленой молодой травке ходят хамы в огромных тяжелых сапожищах, подбитых гвоздями.
Пройдут по ней, примнут ее. Прошли – полежал, примятый, полураздавленный стебелек, пригрел его луч солнца, и опять он приподнялся и под теплым дыханием дружеского ветерка шелестит о своем, о малом, о вечном.» (с. 204)
Наряду с безысходностью в книге подчас звучит и уверенность в грядущей победе здравого смысла. Большевики для Аверченко лишь временщики, более того, они и сами это понимают. В рассказе «Усадьба и городская квартира» Аверченко сравнивает старую, русскую Россию и новую, интернациональную. Идиллическая картина жизни в усадьбе противопоставляется грязи, хламу и пустоте временно занятой городской квартиры. С одной стороны – «каменные, прочно сложенные, почерневшие от столетий ворота» (с. 100) длинная липовая алея, фасад «русского, русского, русского – такого русского, близкого к сердцу дома с белыми колоннами и старым-престарым фронтоном», «вальяжный, улыбающийся хозяин», «объятья, троекратные поцелуи, по русскому обычаю», березовая роща, еле слышная песня косарей, сотни прочных кожаных книжных переплетов, белоснежная скатерть, наваристый борщ и «пухлая, как пуховая перина, кулебяка», «бледные русские звезды», «скромные, застенчивые русс, кие березки и елочки», «разнокалиберная шумливая птица», «золотой хлеб» – «так необходимый простому русскому сердцу уют»; с другой – «голые стены, с оторванными кое-где обоями», «выбитое окно», «сырой ветерок», «обрывки веревок, окурки, какие-то рваные бумажки», «поломанный, продавленный стул», «десятки опорожненных бутылок, огрызков засохшей колбасы», «ружья, в углу обрывок израсходованной пулеметной ленты и старые полуистлевшие обломки», «угрюмые латыши», «вонючие китайцы» – «неприютно» живут, «по-собачьему». (с. 101-103)
«Никто не верит в возможность устроиться в новой квартире хоть года на три…
Стоит ли? А вдруг придет хозяин и даст по шее.» (с. 103)
В данном рассказе наиболее ярко проявилась еще одна черта, отличающая послереволюционное творчество писателя.
3. Особенности стиля сатирических рассказов Аверченко в послеоктябрьский период.
До 1918 года Аверченко отдавал предпочтение сюжетным рассказам, динамичному повествованию с активно действующим главным героем. Пейзаж, бытовые подробности редко использовались юмористом. В Крыму и позднее в эмиграции бытовые подробности, детали играют все большую роль в его миниатюрах – прежде всего сатирических. Он старается сделать текст живописнее, часто противопоставляет не предметы, а качество, делает акцент на эпитетах и определениях.
Важным средством сатирического изображения в творчестве становится портрет. Описывая того или иного «политического деятеля», Аверченко через портрет раскрывает сущность человека, дает портрет «типа».?
«Серенькое московское утро. Кремль. Грановитая палата.
За чаем мирно сидят Ленин и Троцкий.
Троцкий, затянутый с утра в щеголеватый френч, обутый в лакированные сапоги? со шпорами, с сигарой, вставленной в длинный янтарный мундштук, – олицетворяет собою главное, сильное, мужское начало в этом удивительном супружеском союзе. Ленин – madame, представитель подчиняющегося, более слабого женского начала. И он одет соответственно: затрепанный халатик, на шее нечто вроде платка, потому что в Грановитой палате всегда несколько сыровато; на ногах красные шерстяные чулки от ревматизма и мягкие ковровые туфли.
Троцкий, посасывая мундштук, совсем с головой, ушел в газетный лист; Ленин перетирает полотенцем стаканы.»2
Эти два портрета мы можем найти в рассказе «Короли у себя дома».
Интересно, что по своей структуре миниатюра напоминает рассказ-сценку – один из ведущих жанров в досатириконской юмористике, почти исчезнувшей в предреволюционное десятилетие после смерти любителей данного жанра – Н. А. Лейкина и И. И. Мясинцкого. Художественные принципы построения рассказа-сценки были подчинены этнографической задаче. Автор подчеркивал достоверность изображаемого. Выбирая жанровую схему, Аверченко вновь использует контраст – заведомо невероятное описание облекается в максимально правдоподобную форму. Писатель неоднократно прибегает к данному приему и добивается значительного сатирического эффекта, заставляя своих персонажей – «нечистую силу» – жить обычной человеческой жизнью: ходить в гости, воспитывать в детей, играть в карты.
В финале рассказа «Осколки разбитого в дребезги» голос автора сливается с финальной репликой одного из героев: «За что они Россию так?..» (с. 40) Этот вопрос говорит об общей идее сборника: сопоставление «старой» и «новой» России обнажает трагическую сущность произошедшего:
«И снова склоненные головы, и снова щемящий душу рефрен: «Чем им мешало все это?..»» (с. 40) В уже цитированном предисловии к «Дюжине ножей…» автор ссылается на слова поэта Константина Бальмонта: «Революция хороша, когда она сбрасывает гнет. Но не революциями, а эволюцией жив мир. Стройность, порядок – вот что нужно нам, как дыхание, как пища. Внутренняя и внешняя дисциплина и сознание, что единственное понятие, которое сейчас нужно защищать всеми силами, это понятие Родины, которое выше всяких личностей и классов и всяких отдельных задач…»
Эта авторская ссылка как нельзя лучше выражает пафос цикла, не утратившего остроты своего звучания и по сей день.
Не сложно представить, какие отзывы вызвал парижский сборник рассказов в советской прессе: «юмор висельника», «мерзость», «белогвардейщина». Но наиболее яркой и интересной была оценка, данная В. И. Лениным в рецензии-статье «Талантливая книжка» про «озлобленного почти до умопомрачения белогвардейца Аркадия Аверченко», напечатанную 22 ноября 1921 года в «Правде».
«Интересно наблюдать, – пишет Ленин, – как до кипения дошедшая ненависть вызвала и замечательно сильные и замечательно слабые места этой высокоталантливой книжки. Когда автор свои рассказы посвящает теме, ему не известной, выходит не художественно. Например, рассказ, изображающий Ленина и Троцкого в домашней жизни. Злобы много, но только не похоже, любезный гражданин Аверченко! Уверяю вас, что недостатков у Ленина и Троцкого много во всякой, в том числе… и в домашней жизни. Только, чтобы о них талантливо написать, надо их знать. А вы их не знаете.
Зато большая часть книжки посвящена темам, которые А. Аверченко великолепно знает, пережил, передумал, перечувствовал. И с поразительным талантом изображены впечатления и настроения представителя старой, помещичьей и фабрикантской, богатой, объевшейся и объедавшейся России. Так, именно так должна казаться революция представителям командующих классов. Огнем пышущая ненависть делает рассказы Аверченко иногда – и большей частью – яркими до поразительности.»
4. Проблематика и художественное своеобразие сборника «Нечистая сила».
В сборнике «Нечистая сила» еще звучит надежда на скорое освобождение России от всякой нечисти, однако многое воспринимается писателем по-иному. Он понимает, что старая жизнь утеряна безвозвратно.
Шестилетний Костя – герой рассказа «Античные раскопки» – уже не знает, что когда-то была «старая» жизнь, что на пару рублей на рынке можно было купить «мясо, картошку, капусту, яблоки… разные там яйца», даже металлические деньги он видит впервые. По принципу «античных раскопок» построены еще несколько вошедших в сборник рассказов.
В миниатюре «Моя старая шкатулка» повествователь перебирает бумажки, скопившиеся в шкатулке палисандрового дерева, которую он, поспешно уезжая из столицы случайно прихватил с собой. Счета, меню, записки от друзей – Л. Андреева, П. Маныча, РеМи, телеграммы – все напоминает о прежней жизни. В финале рассказа на глаза автору попадается записочка, датированная 1 марта 1917 года: «Итак, друг Аркадий – свершилось! Россия свободна!! Пал мрачный гнет и новая заря свободы и светозарного счастья для всех грядет уже! Боже, какая прекрасная жизнь впереди. Задыхаюсь от счастья!! Вот теперь мы покажем, кто мы такие.» (с. 301) На этот раз писателю не хочется рассуждать о великолепии революции, и два слова – «Да… показали» – говорят больше, чем пространное предисловие к «Дюжине ножей…»
Проблемы, встающие перед писателями, также находятся в центре внимания Аверченко. В миниатюре «Разрыв с друзьями» тягостное впечатление на повествователя производят любимые книги – «пестрая компания старых друзей». Нет, нет, они остались прежними – «чистенькие, корректные, напечатанные на прекрасной белой бумаге и облаченные в изящные золоченые коленкоровые переплеты» (с. 278), изменился автор – он теперь «бывший человек», «грубое, мрачное, опустившееся на дно существо». Его не способно взволновать описание мук раненного, лицо которого «постепенно бледнеет, глаза затуманиваются какой-то пленкой…» (с. 278)
«Подумаешь, важность! Да я в позапрошлом году видел, как в Москве латыши расстреляли на улице днем в Каретном ряду восемь человек, – и то ничего. Вели их, вели, потом перекинулись словом, остановили и давай в упор расстреливать. Так уж тут, при таком оптовом зрелище, нешто разглядишь, у кого «глаза затуманились кокой-то пленкой» и кто «постепенно бледнел…» Ухлопали всех, да и пошли дальше.» (с. 278-279)
Большинство рассказов этого сборника вновь построено на контрасте. Здесь чаще используется откровенная фантастика («Город чудес», «Отрывок будущего романа»). В «Дюжине ножей…» на первом плане было отношение повествователя к происходящему, восприятие большевиков «извне». В «Нечистой силе» действие многих рассказов происходит в стране большевиков. Соответственно большую роль играет сюжет, создается ряд запоминающихся персонажей, существующих в какой-то ирреальной действительности. Не случайно Аверченко включает в сборник новый рассказ «Слабая голова». Все повально сошли с ума, даже самое больное воображение не могло бы представить случившееся. В произведениях писателя послереволюционного периода сталкиваются три мира. Мир прошлого – гармоничный, уютный, несмотря на все недостатки. Аверченко с такой всепроникающей тоской тянется к прошлому – каково бы оно ни было. Он идеализирует старую Россию безоговорочно…
Две реальности, противопоставленные прошлому, – это противостоящие друг другу реальность большевиков и реальность их противников. Повествователь Аверченко живет в этом, последнем, мире – отсюда и основная проблематика его творчества: стремление сохранить прошлое, передать еще не забытое окончательно ощущение гармонии, уюта, вспомнить мелкие детали старого быта, и ненависть к тем, кто уничтожил столь любимый русский мир, разрушил Россию. Герой Аверченко живет настоящим, нельзя вернуться в прежнее время.
Среди персонажей есть участники «крымского сидения» – обычные люди, живущие «по воле судьбы и большевиков – в Феодосии, Ялте или Севастополе.» (с. 83) Поражает пустота и бессмысленность жизни многих из них. Но герои все же изменились – к глупости и пошлости добавилась жестокость: «Какое странное время; у штатских такая масса воинственной кровожадности, а военные рассуждают, как штатские!» («Разговор за столом») (с. 27)
5. Проблематика сборника «Записки Простодушного».
В Константинополе выходит несколько книг Аверченко, которые как бы определяют основные направления его эмигрантского творчества.
«Записки Простодушного (о нашей жизни, страданиях, приключениях, о том, как мы падали, поднимались и снова падали, о нашей жестокой борьбе и о тихих радостях)», изданные в 1921 году, открывает своеобразную сатирико-юмористическую летопись жизни русской эмиграции. В 1922 году Аверченко собирает лучшие из написанных в 1919-1920 гг. рассказов, темой которых является быт и нравы Севастополя, в книге «Кипящий котел: Сборник рассказов.» В 1922 году Аверченко выпускает книгу под названием «Дети», в которой стремится хоть что-то противопоставить ужасу и сумбуру последних лет.
«Записки Простодушного» – это не просто сатирико-юмористическое описание жизни русских эмигрантов в Константинополе. Аверченко показывает, как под впечатлением от увиденного и пережитого меняется характер повествователя – Простодушного.
«Отныне я тоже решил улыбаться на похоронах», – заявляет автор в предисловии. Писатель ставит в центр внимания не сами события, а их восприятие, и – надев маску Простодушного – фиксирует в первую очередь внешнюю сторону происходящего. Драматизм жизни героев уходит на второй план. Читатель сначала видит лишь комическое, а о трагических истоках внешнего комизма он задумывается только потом – и тем острее ощущается разлом в душах людей.
Кто же такой простодушный – дурак или мудрец? Он шут. Шут, не стесняющийся смеяться на похоронах и не опасающийся сказать горькую правду королю.
«Константинопольский зверинец», «Второе посещение зверинца» – название этих рассказов достаточно красноречивы. Аверченко создает целую галерею типов – русского, ухитрившегося сдаться в русский плен и три года спокойно прожить в лагере военнопленных, вместо того, чтобы сражаться на передовой с австрийцами, «комиссионера удовольствий», «Импресарио Шаляпина», «богомольного племянника»… Они уже не опасны, «иногда даже можно просунуть руку сквозь прутья клетки и пощекотать их за ухом», но все равно, несмотря на остроумие придуманных ими комбинаций, от встречи с ними остается гадкое, неприятное ощущение. Они наживаются на хороших, истинных чувствах других, не на глупости, но на простодушии. Таковы же Филимон Бузыкин, герой рассказа «Русские женщины в Константинополе», девушка и «странная личность» из рассказа «Благородная девушка». Но есть у Аверченко и другие персонажи – те, кому он искренне симпатизирует. Простодушный восхищается их мужеством, выдумкой и способность не унывать. В миниатюре «О гробах, тараканах и пустых внутри бабах» он сталкивается с бывшим журналистом, бывшим поэтом и сестрой журналиста. Один из них зарабатывает, лежа в гробу у гадалки, другой ходит в картонном чучеле женщины, рекламируя ресторан, а девушка «состоит при зеленом таракане» на тараканьих бегах: «Ой, крепок еще русский человек, ежели ни гроб его не берет, ни карнавальное чучело не пугает, ежели простой таракан его кормит…» (с. 157)
Рассказы, вошедшие в книгу, построены по двум схемам. Соблюдая жанровую форму «записок», Аверченко либо описывает случаи, происходящие с Простодушным, либо те, о которых Простодушному рассказывали. Это делает сборник одним из самых цельных в творчестве писателя.
Рассмотрев основные послереволюционные рассказы Аверченко позволили нам выделить наиболее существенные черты поздней сатирической прозы писателя: своеобразное переосмысление темы «маленького человека» в контрасте революционной эпохи, сочетание злободневного и общефилософского в решении вопроса о революционном обновлении жизни, открытая полемичность и публицистическая заостренность авторских выводов.
Любопытны и творчества Аверченко, данные собратьями по перу – бывшими «сатириконовцами».
Можно привести фрагмент из грустно-иронического стихотворения Тэффи «Тоска»:
Аверченко, как жуир и франт,
Требует – восстановить прежний прейскурант
На все блюда и на все вина,
Чтобы шесть гривен была лососина,
Две с полтиной бутылка бордо.
И полтора рубля турнедо.
Сквозь эту охранительную иронию просвечивает иной, более глубокий смысл, выраженный в одном из рассказов Тэффи периода эмиграции: «Мы еще храним старые заветы, потому что любим все прошлое, всячески его бережем.» («О русском языке») Именно с этих позиций следует рассматривать ностальгическую направленность поздней прозы Аверченко, не вписавшегося, как многие русские художники, в процесс революционной «перестройки» общества.
Интересны также строки и стихотворения Саши Черного «Сатирикон», посвященные памяти писателя:
Разве мог он знать и чуять,
Что за молодостью дерзкой,
Словно бесы, налетят
Годы красного разгула,
Годы горького скитанья,
Засыпающие пеплом
Все веселые глаза…
У Аркадия Аверченко было много поклонников, друзей, хороших знакомых, которые уважали и искренне ценили его творчество и его человеческие качества.
Вот воспоминания Петра Писльского 1923 года:
«Мой глаз приятно подмечал в Аверченке ту мягкую естественную, природную воспитанность, которая дается только четким и умным людям. Его очарование в обществе было несравнимо. Он умел держать себя в новой и незнакомой среде легко, в меру свободно, неизменно находчивый, внимательный, ясный, равный и ровный со всеми и для всех. Это большое искусство, им может владеть только талантливая душа, и Аверченке был дан дар пленительного шарма. Он покорял»
Но более всего он покорял своим творчеством. По наблюдениям критиков и писателей В. Полонского, М. Кузьмина, К. Чуковского, А. Куприна, А. Измайлова, юмор А. Аверченко, с одной стороны связан с традициями М. Твена и О,Генри, с другой – раннего А. П. Чехова. Есть в его творчестве и лирические, тонкие по психологическому рисунку рассказы, и тенденция к «театру абсурда». Многие его рассказы инсценировались и ставились в петербургских театрах.
Сборники произведений А. Т. Аверченко много раз издавались и в советское время. Это – «Записки Простодушного» (1922), «Миниатюры» (1926), «Случай с Петельцовой» (1926), «Юмор былых дней» (1927), «Веселые устрицы» (1928), «Рассказы о старой школе» (1930). С 1930 по 1964 год книги сатирика не переиздавались.
Заключение.
В ходе дипломной работы по теме «Сатира и юмор в творчестве Аркадия Аверченко» мы проследили эволюцию его творческого пути, познакомились с его политическими воззрениями, показали зависимость тематики рассказов от политической и социальной обстановки в стране.
Мы рассмотрели творчество сатирика до революции 1917 года и после. Изучив рассказы дореволюционного периода, мы можем отметить удивительное многообразие их тематики.
Автор высмеивает реалии социального быта, частные человеческие пороки, показывает жизнь большого года, буржуазную культуру, высмеивает ничтожность проблем городского обывателя. В рассказах «Широкая масленица», «Рыцарь индустрии», «Волчья шуба», рассмотренных нами, четко выявлены эти пороки.
Аверченко обнажает и социально-политическую сферу жизни, затрагивает тему ревизора и закона – рассказы «Виктор Поликарпович», «История болезни Иванова».
Персонажи Аверченко напоминают нам героев Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Чехова.
Аверченко вскрывает абсурдность обывательского сознания («Робинзоны», «Октябрист Чикалкин», «Борцы»), высмеивает жандармов, чиновников, взяточников, лицемеров. Обращение писателя к теме искусства, бездарных творцов, теме живописи показывают нам неприятие писателем модернистских течений. («Ихневмоны», «Изумительный случай», «Крыса на подносе»).
Не обошел Аверченко и извечные темы мужчин и женщин («День человеческий», «Жена», «Мужчины»), взаимоотношения поколений («Отец», «Старческое»), много писал о детях.
В целом, в этот период смех Аверченко веселый, «добрый», беззаботный, вдохновенный, мы встречаем много сатирических типов, рассказы завлекают быстротой прочтения. интересно следить за развитием сюжета, рассказы отличаются запоминающимся финалом, речь героев полна остроумных афоризмов и крылатых фраз.
В дипломной работе отражен переломный момент в творчестве писателя. К нему относится послереволюционный период. Показано его отношение к революции, неприятие власти, большевиков, временного правительства, Керенского, мы узнали о причинах эмиграции писателя, о его отношениях с властями.
Изучив произведения данного периода, чувствуется недоумение, удивление, сочувствие автора к событиям в стране, неприятие людской глупости, пошлости, «серости».
Мы, наблюдая за сюжетом рассказов, приходим к выводу о том, что писатель пытается своим смехом излечить людей. В рассказах этого периода чувствуется гневный сарказм, грустный смех, радостный смех исчез.
В работе подробно разобран основной сборник данного периода «Дюжина ножей в спину революции», а также, не менее важный – «Нечистая сила». Это сборники политической сатиры, они отражают отношение Аверченко к революционным событиям. Рассмотрены рассказы: «Человек, бутылку сельтерской», «Фокус великого кино», «Поэма о голодном человеке», «Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина», «Чертово колесо», «Трава, примятая сапогом», «Усадьба и городская квартира», «Короли у себя дома» – из сборника «Дюжина ножей в спину революции». В рассказах показаны отчаявшиеся люди, преобладает тема «еды», тема «детей», искренних, чистых душ, которые губит жестокость и грубость. Из сборника «Нечистая сила» рассмотрены рассказы «Античные раскопки», «Моя старая шкатулка», «Разрыв с друзьями». Здесь чувствуется стремление автора сохранить прошлое. В сборнике – фантастические сюжеты, запоминающиеся персонажи.
В дипломной работе также кратко рассмотрены сборники «Записки Простодушного», «Кипящий котел», «Дети».
Аверченко почти не писал «серьезных» произведений, их единицы. Очень редко он обращался к стихам. Основу его богатейшего литературного наследия составляет комическая проза – рассказы и фельетоны, а также драматические произведения – как инсценировки собственных рассказов, так и оригинальные пьесы. Аверченко одним из первых в России откровенно встал на защиту «смеха ради смеха», поставил перед собой задачу рассмешить. развеселить читателя, притом самого взыскательного.
«В час душевной боли, в минуту усталости русский читатель обращался к Аверченке, и я хорошо помню, как во время войны в госпиталях на всех столах я видел его книги и книжечки, изданные «Новым Сатириконом», – вспоминал Петр Пильский. Русская критика иногда упрекала Аверченко в бесцельности и бессодержательности его смеха. И он сам никогда не хотел слыть политическим сатириком. Но Аверченко имел мужество прославить этот смех, поставить его целью, а не средством, открыто служить его свободной и независимой стихии.
Можно сказать, что имя Аверченко было одним из самых популярных литературных имен начала двадцатого века, таковым оно является и до сих пор.
Использованная литература.
Художественные тексты.
1. Аверченко А. Записки Простодушного. – М., 1992.
2. Аверченко А. Избранные рассказы. – М., 1985.
3. Аверченко А. Изумительный случай (Из жизни художников): Рассказ. // Огонек. – 1964. – № 1. – С. 18-19.
4. Аверченко А. Мой дядя: Юмористический рассказ. // Человек и закон. – 1973. – № 10. – С. 142-143.
5. Аверченко А. Оккультные науки. Рассказы. – М., 1964.
6. Аверченко А. Тэффи. Рассказы. – М., 1990.
7. Аверченко А. Хлопотливая нация. – М., 1991.
8. Аверченко А. Тэффи. Юмористические рассказы. – Минск, 1990.
Научная литература.
1. Горелов П. Чистокровный юморист. // Аверченко Аркадий. Тэффи. Рассказы. – М., 1990. – С. 5-20.
2. Евстигнеева А. А. Журнал «Сатирикон» и поэты – сатириконовцы. – М., 1968.
3. Дальние берега. Портреты писателей эмиграции. – М., 1994.
4. Домов А. Великий комбинатор и его предшественники: Заметка о прозе А. Аверченко. // Литературная учеба. – 1980. – № 3. – С. 145-147.
5. Домов А. Творчество Аверченко в оценке дореволюционной и советской критики. – Фрунзе., 1975.
6. Дьяконов А. Времена года Аркадия Аверченко. // Литературная Россия. – 1988. – 19 августа – № 33. – С. 18-19.
7. Зинин С. А. Грустный смех Аркадия Аверченко. // Литература в школе. – 2001. – № 1. – С. 15-19.
8. Корнилов Л. Ольшаны: другое кладбище. // Известие. – 1988. – 13 августа. – № 226. – С. 6.
9. Кравченко Ю. М. Пересунько Т. К. Забытые имена. Аркадий Тимофеевич Аверченко. // Русский язык и литература в средних учебных заведениях УССР. – 1990. – № 4. – С. 52-57.
10. Литература Русского зарубежья. – М., 1990. – Т. 1.
11. Мейерхольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы. Ч. 2. – М., 1968.
12. Михайлов О. Аркадий Аверченко. // Аверченко А. Тэффи. Юмористические рассказы. – Минск., – 1990. – С. 3-22.
13. Николаев Д. Д. Аверченко. // Литература Русского зарубежья. 1920-1940. – М., ИМЛИ – Наследие – 1999., – С. 117-157.
14. Русские писатели. 1880-1917: Библиографический словарь. – М., – 1989. – Т. 1.
15. Рыклин Г. Несколько слов о «Сатириконе» / Предисловие к книге: Поэты «Сатирикона». – М. – Л. – 1966. – С. 5-7.
16. Свердлов Н. Дополнение к «Автобиографии» Аркадия Аверченко // Аврора. – 1988. – № 4. – С. 142-143.
17. Смирнова А. А. Русская литература конца XIX – начала XX века. – М., 1993.
18. Соколов А. Г. Судьбы русской литературной эмиграции 1920-х гг. – Московский университет. – 1991. – С. 146-157.
19. Спиридонова Л. А. Русская сатирическая литература начала XX века. – М., 1993.
20. Спиридонова Л. А. (Евстигнеева) Русская сатирическая литература начала XX века. – М., 1977.