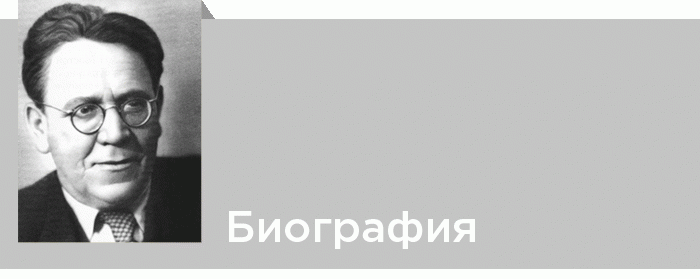Маршак и время

О русской поэзии. -
СПб.: Азбука, 2001. С. 410-430.
Михаил Гаспаров
Маршак и время1
Писать о современной литературе легко для критика и трудно для литературоведа. Слишком близок материал, слишком велик соблазн больше заботиться об оценке фактов, чем о выявлении их. Особенно это чувствуется там, где начинается разговор об эволюции творчества писателя. Сплошь и рядом анализ такой эволюции сводится к формуле: "от хорошего к лучшему". А ведь такая формула не всеобъемлющая. Кроме смены хорошего и лучшего (а иногда, вероятно, и не лучшего) есть и просто смена стилей, смена манер, каждая из которых - не хорошая и не лучшая, а такая, как она есть, потому что такою она продиктована временем, - если, конечно, писатель умел слушать, что диктует время.
Самуил Маршак работал в литературе 60 лет: первые его стихи были напечатаны в 1904 г., последние - в 1964-м. Это было большое время, богатое переменами, как никакое другое. И Маршак умел к нему прислушиваться: пожалуй, не было года и не было жанра, чтобы тема времени не возникала в его стихах. Но он делал все, чтобы время в них оставалось темой и не становилось приметой. Он никогда не датировал стихов, даже в рукописях. Он не хотел, чтобы его творчество представало перед читателем как процесс. Он хотел, чтобы оно было однородно и цельно - не напластования, а монолит, кусок неизменной вечности в потоке сменяющегося времени.
Время и вечность в стихах Маршака всегда выступают парою. Он не противопоставляет их, разница между временем и вечностью здесь не качественная, а количественная - как между секундой и сутками. "Мы видим движенье секунд и минут, / А годы для нас незаметно идут. / Но как же безмерно велик человек, / Которому видно, как движется век". Не случайно во всех этих стихах у Маршака непременно присутствуют часы и счет единиц времени; не случайно он так безотказно писал для газет и журналов стихи к каждому Новому году, потому что Новый год - это и есть место стыка очень малой и очень большой мерки времени.
Но если между временем и вечностью нет разницы физической, то есть разница этическая. Производное от времени - это честь, производное от вечности - это совесть. В одном из стихотворений ("На всех часах вы можете прочесть...") он сравнивает честь с минутной стрелкой, а совесть - с часовой. Пусть с точки зрения бесконечности между ними нет разницы - обе движутся одним и тем же часовым механизмом. Но с точки зрения конечности отдельной человеческой жизни разница между "жить по чести" и "жить по совести" - очень велика. Стихотворение, о котором мы говорим, когда-то кончалось (1950): "И счастлив я, что жребий выпал мне / В такое время жить в такой стране, / Когда, как стрелки в полдень, слиты вместе / Веленья нашей совести и чести". Потом Маршак переделал эту концовку: совесть не позволяла ему выдавать желаемое за действительное.
Маршак мало писал о смерти, но трагедия смерти для него была прежде всего разницей масштабов, в которых существует живой и умерший человек. "Не жди, что весть подаст тебе в ответ / Та, что была дороже всех на свете. / Ты погрустишь три дня, три года, десять лет, / А перед нею - путь тысячелетий". (Как не вспомнить здесь вордсвортовскую Люси, которой суждено "с горами, морем и травой вращаться заодно".) Маршак еще меньше писал о народе - он не любил патетических слов. Но он думал о нем в тех же понятиях. Он говорил: "Бывает: народ неправ в данный момент. Но в масштабе истории народ всегда оказывается прав. С отдельной личностью бывает обратное. В процессе времени она теряет свою правоту" (воспоминания Г.И. Зинченко).
Как время и вечность, так раздельно существуют для Маршака поэзия для времени и поэзия для вечности. И вся его поэтическая сила и слабость, все его творческие удачи и неудачи объясняются в конечном счете тем, как и насколько совмещались или расходились в его стихах эти две стихии.
Стихи для времени и стихи для вечности разделились для Маршака с самых ранних лет. У поэта было детство вундеркинда и юность газетного поденщика. "Я больше всего любил в поэзии лирику, а в печать отдавал чаще всего сатирические стихи". Сейчас уже мало кто помнит, что такое стихотворный фельетон в дореволюционной газете: почти ежедневные сорок-пятьдесят строчек бойким размером о чем угодно, а чаще всего ни о чем, только чтобы разнообразить страницу; темы их повторялись вновь и вновь, потому что никто из читателей нового фельетона не помнил предыдущего. Такими фельетонами Маршак зарабатывал на жизнь. Писал он их неутомимо: если их собрать, они составят отдельный толстый том в собрании его сочинений. В "Биржевых ведомостях" он подписывал их "Д-р Фрикен", во "Всеобщей газете" - "Уэллер". Это была хорошая школа стиха: именно здесь поэт усвоил легкость ритма, ясность слова и тот дар экспромта, который не покидал его до поздних лет. Но это не была та поэзия, которую он любил и хотел писать.
Лирика существовала параллельно с этими стихами и не смешивалась с ними. Стихи, подписанные "Д-р Фрикен" и подписанные "С. Маршак", не имели между собой ничего общего. Последних было немного, они печатались в малозаметных журналах вроде "Недели современного слова" или "Всеобщего ежемесячника", они были традиционны и бледны. "Прежние перстни на милой руке. / Те же и новый один. / Смутный сапфир, ясный рубин. / Те же и новый один. - / Нежная прядь на печальной щеке. / Темная, легкая прядь. / Как не узнать? Как не признать? / Темная, легкая прядь. - / Только одни не узнаешь глаза: / Стали как будто светлей. / Были темней, были синей. / Стали как будто светлей. - / Капелька крови, живая слеза - / Перстни на бледной руке. / Прежние перстни на милой руке / Тихо целую в тоске". Такие стихи писались в то время, можно не обинуясь сказать, тысячами. Это был средний уровень массовой журнальной поэзии 1910-х годов: только привычные темы, только испробованные приемы, ничего броского, яркого - безликий хороший тон. Эти стихи читались, но не запоминались.
Между временем и вечностью в лирике была пограничная полоса - мода. Модой 1910-х годов был модернизм: броскость и яркость, погоня за оригинальным и необычным, соблазн эффектного успеха и опасность быстрого развенчания. Маршак осторожно пытался освоить и его: "Перстни", цитированные выше, не могли быть написаны до уроков Бальмонта. Но слишком скоро стало ясно, что на этом пути он не выдержит конкуренции с товарищами по эпигонству. Здесь даже Яков Годин, сверстник и друг Маршака, сосед его по всем журналам, экспериментировал легче, писал обильнее и имел успех более заметный. Это был путь не для Маршака. Он понял это и сохранил прочное неприятие модернизма до конца жизни - модернизма и всякой моды. "Ты старомоден. Вот расплата / За то, что модным был когда-то", - скажет он в одной из лучших своих "лирических эпиграмм".
Маршак делает ставку на классику - "на стихи для вечности" в чистом виде. Он знает, что моды приходят и уходят, а спрос на классический стиль остается и возвращается. Нужно было только положиться на время, медленное, но верное, и дождаться очередного его возвращения. Маршак ждет, и пока ждет - учится. Он находит себе образец классического стиля и в современности: это Бунин. Мемуаристы свидетельствуют: "О Бунине Маршак говорил часто". Его спросили: "У кого вы учились поэтическому мастерству?" - он ответил: "У Блока и Бунина" (воспоминания С. Брагина). Блок был властителем дум, Бунин был учителем слова. Только слова, не более того, - в остальном слишком велика была разница между Буниным и Маршаком: Бунин в природе жил и дышал, Маршак смотрел на нее через окно ("...Но между мною и природой возникло тонкое стекло..." - эти слова относятся не только к "цветной осени"). Уроки у Бунина начались, пожалуй, с 1911 года, когда Маршак совершил поездку в Палестину - по тем местам, о которых уже писал Бунин. "Мы жили лагерем в палатке, / Кольцом холмов окружены. / Кусты сухие в беспорядке / Курились, зноем сожжены..." Уроки эти продолжались до последних лет Маршака.
После восточной поездки у Маршака начинается десятилетие скитаний: Англия, Петроград, Воронеж, Петроград, Петрозаводск, Екатеринодар, опять Петроград. В 1922 году он возвращается в Петроград с небольшой тетрадью лирических стихов, уже нисколько не похожих на "Перстни": четких, крепких и в то же время достаточно традиционных. "Новый воздух, жизнь другая, / Жар страстей земных потух, / И пылает, плоть сжигая, / Только дух, нетленный дух. // Покорясь грядущей власти, / Не пытаясь побороть, - / Льнет к нему в последней страсти / Отступающая плоть". Такие стихи были ничуть не хуже, чем то, что писалось в то время в Петрограде. Но спрос на "стихи для вечности" все еще не наступал. Революция благоволила к ним не более, чем предреволюционный модерн.
Столичные литераторы 1920-х годов, не умевшие сдать экзамена на пролетарскую идеологию, имели два средства временного заработка: переводы и стихи для детей. От О. Мандельштама и Б. Пастернака и до Л. Остроумова и С. Заяицкого, кажется, не было писателя, который не попробовал бы себя и в том и в другом. Маршак занимался переводами еще в Англии, его первые переводы из английских баллад и из Блейка (лишь незадолго до того открытого русскому читателю Бальмонтом) были напечатаны в 1915-1918 гг. и имели успех; обратиться к переводам было бы для него самым естественным. Но Маршак обратился к стихам для детей, и это стало самой большой удачей в его литературной биографии.
Дело в том, что классика была для Маршака не только стилем, но и мировосприятием. "Стихи для вечности" - это не только круг литературных приемов, но и круг тем. У Маршака это прежде всего стихи о природе и стихи о простых вещах. Простая жизнь, простой труд, простые вещи - этот мир был сконструирован Маршаком для себя еще в 1910-х годах, когда он искал противовеса вычурности столичного эстетства, читал Рабиндраната Тагора и работал пилой и рубанком в тинтернской "школе простой жизни" Филиппа Ойлера, доброго великана, лечившего английских детей от неврастении физическим трудом и гипнотическими пассами. Этот мир простых вещей неожиданно оказался нужен русскому читателю именно в эти трудные годы. "Как обнажаются судов тяжелых днища, / Так жизнь мы видели раздетой догола. / Обеды, ужины мы называли пищей, / А комната для нас жилплощадью была. // Но пусть мы провели свой век в борьбе суровой, - / В такую пору жить нам довелось, / Когда развеялись условностей покровы, / И все, что видели, мы видели насквозь". Эти поздние стихи - ключ ко многому в творчестве Маршака.
Если слова о простых вещах были нужны взрослым, то тем более они были нужны детям. Перед Маршаком были читатели, каких еще не имела русская детская литература: "дети без детской". Это не дети из богатых семей, которых учит жить няня или гувернантка, - таких революция не оставила; и это не пролетарские дети, которых учит жить сама жизнь, - таким не по карману яркие книжки издательства "Радуга", в котором печатался Маршак; это средний слой, таких детей много, за годы революции и гражданской войны их стало еще больше, они вброшены в очень сложную и бурную жизнь без всякой к тому подготовки, и книжка должна им помочь ориентироваться в этой жизни. Маршак узнал этот мир детей, вырванных из привычного уклада, в Воронеже среди беженцев Первой мировой войны, в Екатеринодаре в "Детском городке", в петроградских детских домах. Он умел говорить с ними и работать с ними. Для этих детей он и начинал писать. А потом оказалось, что стихи, написанные для них, имеют гораздо более широкий социальный адрес и что пролетарские дети читают стихи Маршака с таким же удовольствием, как и мелкобуржуазные дети, несмотря на все негодование вапповской критики.
Отсюда вышли все стихи Маршака 1920-х годов. Его "серьезные стихи" - от "Как рубанок сделал рубанок" до "Почты" и "Пожара" - это стихи о простых вещах и делах; его "веселые" стихи, с "Багажом" и "Человеком рассеянным" (между прочим и "Загадки"), - это стихи о простых отношениях между вещами. "Простой" - это значит непременный и постоянный, то есть - вечный. Примет времени в этих стихах нет, хоть критика 1920-х гг. и требовала их очень решительно. Маршак был тверд: труд есть труд, и советский почтальон трудится так же, как бразильский почтальон, только поэтому и возможно между людьми взаимопонимание и единение. Даже когда стихотворение называется "Вчера и сегодня", в нем говорится, что вчера были керосиновая лампа и коромысло с ведром, а сегодня - электричество и водопровод, а не о том, что вчера они служили буржуазии, а сегодня пролетариату. Критика негодовала, но Маршак стоял на своем и не мог иначе. Он и организаторскую свою работу тех лет твердо вел в том же направлении. Ленинградская редакция Детгиза, которой он фактически руководил более десяти лет, сделала так много для советской детской литературы именно потому, что Маршак сознательно противопоставлял свою группу детских писателей тем литературным профессионалам, чьи стихи слишком пахнут злободневностью или литературной модой, салоном или газетой, будь то Е. Васильева ("Черубина де Габриак"), с которой он соавторствовал в 1921 г., или А. Барто, рядом с которой он будет неизменно упоминаться в 1940-х гг. В ленинградской редакции Маршак делал ставку на новых людей, которые далеки от литературной моды и близки простым вещам, - таковы были Б. Житков, М. Ильин, В. Бианки.
Рассказ о простых вещах и отношениях между вещами требовал соответствующего стиля. Маршак его выработал. Это стиль схемы. (Так определил его еще в статьях 1930-х гг. Б.Я. Бухштаб2;
Два приема были главными в схематичном стиле детских стихов раннего Маршака: повторение и расчленение.
Повторение выделяло структурный костяк вещи, чтобы на нем резче выделялись и яснее запоминались переменные элементы. "Сказка о глупом мышонке" вся состоит из повторений, на фоне которых выступают только три переменные величины: крик животного, корм животного и общее впечатление от животного ("слишком громко", "слишком скучно"...), то есть именно то, что важнее всего для маленького слушателя, впервые усваивающего, что утка крякает, а свинка хрюкает. Из таких повторений состоит "Мельник, мальчик и осел"; из таких же повторений "Багаж", где перечень вещей противопоставляется череде операций, которые над ними производятся, а в самом этом перечне шесть "постоянных" вещей противопоставляются собачонке, оказавшейся "переменной". В "Человеке рассеянном" повторы сокращены до рефрена, но для структурной функции оказывается достаточно и рефрена.
Расчленение выделяло этапы действия, позволяло увидеть их, осознать их, воспроизвести их. Таковы знаменитые строки из "Мороженого": "Взял мороженщик лепешку, / Сполоснул большую ложку, / Ложку в банку окунул, / Мягкий шарик зачерпнул, / По краям пригладил ложкой / И накрыл другой лепешкой". Таковы не менее счастливые строки из "Пожара": "Приоткрыла дверцу Лена, / Соскочил огонь с полена, / Перед печкой выжег пол, / Влез по скатерти на стол, / Побежал по стульям с треском, / Вверх пополз по занавескам, / Стены дымом заволок, / Лижет пол и потолок" (вниз - в центр - в стороны - вверх - всюду). Когда повторение и расчленение сочетаются, словесное искусство Маршака достигает ювелирной точности: выделяются и ощущаются даже не слова, а части слов: веселый звонкий мяч "покатился в огород, докатился до ворот, подкатился под ворота, добежал до поворота..." Схематизм повторений - это как бы чертеж игрушки, схематизм расчленений - это как бы правила игры. Все детские стихи раннего Маршака - игровые стихи, и в этом их некончающаяся жизненность.
Стихи для детей, написанные в 1920-е годы, остались лучшим, что сделал Маршак. В 1930-х годах натиск времени на вечность стал сильнее, и поэту пришлось отступить. Современность входит в его стихи и меняет не только их содержание, но и их стиль.
Поначалу, в "Войне с Днепром" и "Мистере Твистере", Маршаку удается подчинить современный материал своей классической манере. В "Войне с Днепром" он отстраняет временное и сохраняет вечное, отвеивает газетную риторику и оставляет борьбу человека с природой; в "Мистере Твистере" он на агитационном сюжете строит блестящую игру по классической схеме народного творчества - как хитрый проучил сильного. Но уже в "Рассказе о неизвестном герое", сознательно написанном как новая вариация "Пожара", чувствуется сдвиг. В "Пожаре" действие четко замыкалось в треугольнике "вечной" схемы подвига: жертва - злая сила - герой. Присутствовавшая в первом варианте "Пожара" публика, благодарящая и славящая Кузьму, была еще в 1920-х гг. отсеяна как излишество. В "Рассказе о неизвестном герое" вокруг подвига теснятся и пожарные, и толпа, и женщина, и вся "красная столица". Это в стихи входило время, которое желало быть показанным во всех подробностях. И постепенно подробности становятся главным для нового стиля Маршака.
Этот перелом характерен не только для личного стиля Маршака, но и для стиля всей эпохи. Сравним эволюцию Маршака с эволюцией его лучшего иллюстратора - В.В. Лебедева. Ранние рисунки Лебедева - такие же схемы, какими были иллюстрируемые ими стихи: они просты, как плакаты, круг в них - круг, и треугольник - треугольник. Поздние рисунки Лебедева насыщаются завитушечными подробностями, это уже не плакат для принятия к действию, а картинка для рассматривания. И перелом этот происходит тогда же, когда у Маршака, - во второй половине 1930-х гг.
У раннего Маршака на костяке вещи выступали строго отсчитанные подробности - у позднего Маршака подробности разрастаются и под ними теряется самый костяк. В ранних вещах к тексту нельзя прибавить ни строчки (разве что нанизать новое сюжетное звено); в поздних вещах на каждую подробность можно нарастить несколько новых, и никакого "перекоса" не произойдет. Ранние вещи от издания к изданию укорачивались; после стилистического перелома они начинают от издания к изданию удлиняться. ("Жираф" или "Тигренок", с которых начинались "Детки в клетке", сокращались от сюжета к ситуации и от ситуации к формуле; "Воробей в зоопарке", которым "Детки в клетке" закончились, расширяется все больше, механически включая все новые звериные имена.) Единство схемы подменяется единством героев, и вещь становится, в принципе, бесконечной ("Где тут Петя, где Сережа?" с продолжением). Пределом описательности становится "Разноцветная книга"; пределом бесструктурности оказывается "Веселое путешествие от А до Я", где перечисление носителей каждой буквы может затягиваться сколь угодно долго.
Обилие подробностей означает, что автор стихотворения уже не деятель, а зритель: стихотворение перестало быть игрой. В "Мастере-ломастере" ранней редакции буфет описывается несколькими штрихами: "Наверху - сервиз, / Для тарелок - низ, / Посередке - ящики: / Подходи, заказчики!" Верх, низ, середина - схема очерчена тремя взмахами, рисунок ясен, как плакат. В поздней переработке из этого получается: "Наверху у нас сервиз, / Чайная посуда. / А под ней - просторный низ / Для большого блюда. / Полки средних этажей / Будут для бутылок. / Будет ящик для ножей, /Пилок, ложек, вилок". Кто не почувствует, что первый буфет увиден глазом "мастера", а второй глазами "заказчика"? Вместо урока в действии, каким всегда является игра, стихи становятся уроком в назидании. В "Мороженом" автору показался недостаточным тот урок злоупотребления лакомством, который дается участью обледенелого толстяка, и он вписывает: "Дали каждому из нас / Узенькую ложечку, / И едим мы целый час, / Набирая всякий раз / С краю понемножечку". Детские стихи 1940-1950-х гг. моралистичны и поучительны. "Приметы" - это нравоучение против суеверия, "Что такое год" - против лени, "Ежели вы вежливы" - против грубости, "Чего боялся Петя" - против трусости, "Большой карман" - против жадности, "Угомон" - против шалости, "Четыре глаза" - против нечуткости и т. д.
Особенно интересно сравнить две редакции "Мистера Твистера" - 1933 и 1952 годов. Он был игровым, а стал бытовым и прямолинейно-обличительным. Центром игры была хитрость швейцаров, проучивших мистера, - хитрость отпала, и герой остался без партнера. (Изменение это было вызвано редакторскими требованиями 1948 г.; но даже много спустя, когда уже можно было восстановить первоначальный сюжет, осторожный Маршак не сделал этого.) Так как отрицательное отношение к герою теперь не достигается средствами сюжета, приходится достигать его средствами портрета. В первой редакции Твистер был "отрицательным" как капиталист, но отнюдь не как человек, эмоциональная окраска образа была светлой: "Миллионер засмеялся спросонок, / Хлопнул в ладоши; как резвый ребенок..." Теперь все не внушающие отвращения черточки аккуратно выпускаются: "Миллионер повернулся к швейцару, / Прочь отшвырнул дорогую сигару..." Но и этого оказывается мало; тогда вводится в действие морализирующий комментарий - беседа чистильщика сапог с нарочно введенными безликими (но имеющими имена!) негритятами. Так как условности перестают мотивироваться игрой, то их приходится обставлять мотивировками бытовыми и реалистическими: зачем такой мистер едет в СССР? - да он бы и не поехал, если бы не прихоть его дочки! - и т. д. Даже мелочи перерабатываются реалистически: в номера важный гость не идет по лестнице, а едет в лифте, "плавно и быстро", и ничего, что от этого пропадает эффект встречи с наступающим сверху негром на лестнице, и ничего, что определение "плавно и быстро", так нравившееся Маршаку, к детской игре неприменимо. Меняется самый ритм, - вещь была написана как считалка: "Есть - за границей - контора - Кука...", "Мистер - Твистер - бывший министр..." - а вставленные куски написаны медлительно и тягуче: "Слушает шелест бегущих колес, / Туго одетых резиной, / Смотрит, как мчится серебряный пес - / Марка на пробке машины..." (целая строфа написана ради серебряного пса - детали, которая много говорит взрослому ценителю, но ничего не говорит ребенку, ибо она бездейственна).
Все это означало: детские стихи перестали для Маршака быть той точкой совпадения времени и вечности, какою они были в 1920-х годах, и он охладел к ним. Они перестают быть любимой и единственной областью его работы, а становятся лишь одной из многих: начинается "многопольное хозяйство", как скажет потом он сам. Этому содействовали и внешние обстоятельства. В 1934 г. на съезде писателей прозвучал его доклад "О большой литературе для маленьких" - то направление в детской литературе, которому Маршак отдал больше десяти лет, получило официальное признание, Маршак и его группа стали из борцов победителями. В 1935 г. вышла впервые итоговая книжка Маршака для маленьких - "Сказки, песни, загадки" - и тотчас была уничтожена, потому что рисунки В.В. Лебедева были признаны формалистическими. В 1937 г. была разгромлена ленинградская редакция Детгиза, многие сотрудники исчезли из литературы. В 1938 г. Маршак переезжает из Ленинграда в Москву - ближе к официальному центру литературной и общественной жизни. Непосредственный контакт с детьми он теряет, в детских домах и литературных кружках он теперь не участник работы, а почетный гость, сторонний человек. Этот взгляд стороннего человека, дедушки среди внуков, чувствуется во всем, что он пишет теперь для детей.
С этих пор стихи для времени и стихи для вечности в творчестве Маршака вновь начинают разделяться, и с каждым годом все дальше. Стихи для времени - это его газетная публицистика 1940-1960-х гг. Стихи для вечности - это его переводы и лирика.
Газетная продукция Маршака огромна. Поначалу, в 1930-х годах, это были отклики на исключительные события - полет на полюс, спасение "Седова" изо льдов. Под конец это были приветственные стихи к каждому календарному празднику: пожалуй, за двадцать лет не было такого Первомая или Нового года, чтобы в "Правде", "Известиях" или, на худой конец, в "Пионерской правде" или "Вечерней Москве" не появилось стихотворения Маршака. Они легко читались и быстро забывались. Вряд ли они дождутся скорого переиздания. На их фоне выделяется лучшее, что сделал Маршак в поэтической публицистике, - военная и (в меньшей мере) послевоенная сатира. Удача этих сатирических стихов - в их краткости и четкости построения: они структурны, их концовочный укол рассчитан и подготовлен всем строем стихотворения. (Их не сравнить с бескостными стихотворными фельетонами дореволюционного Маршака.) Все это дал Маршаку опыт детских стихов 1920-х гг., с их обнаженным и продуманным схематизмом. К. Чуковский был прав, когда в конце войны, делая доклад о детской поэзии, утверждал, что, если бы не было стихов Маршака для маленьких, не было бы и "Окон ТАСС" для взрослых - этих агитплакатов, без которых невозможно вспомнить тыл военных лет.
Переводы Маршака вновь начинаются с середины 1930-х годов - с того самого момента, когда он почувствовал, что его детские стихи перестали быть стихами для вечности. Не случайно, что первым предметом нового внимания Маршака-переводчика становится Бернс, - из всех поэтов, каких переводил Маршак, Бернс в наибольшей степени "поэт простых вещей" и, в частности, той вечной темы, которая одна не могла войти в детские стихи, - темы любви. Бернса Маршак переводил, чтобы выговориться: он не писал стихов о любви и поэтому переводил их. Шекспира Маршак переводил, чтобы обрести душевную опору в мысли о вечности поэзии (эти сонеты были переведены в первую очередь), - эта опора была нужна ему и тогда, когда он писал газетные стихи-однодневки, и тогда, когда он тосковал о безвременно скончавшемся сыне. Блейка Маршак переводил, стараясь обрести в нем то, чего никогда не было в собственном творчестве Маршака, - непосредственность, умение говорить стихами так младенчески просто, словно это первые стихи в мире. Гейне Маршак переводил по нравственной обязанности - потому что в традиции всех больших русских поэтов было переводить Гейне. А Джанни Родари он переводил потому, что в новой своей литературной позиции он уже не мог позволить себе писать такие короткие и беззаботные детские стишки от собственного лица и ему нужно было прикрываться чужим.
Но, какого бы поэта ни переводил Маршак, этот поэт прежде всего терял черты своего времени и становился "поэтом для вечности". Шекспир из пышного и буйного становился степенным и мудрым. Веселая мужиковатость Бернса твердой рукой вводится в границы литературного благообразия. Блейк перестает быть экстатическим чудаком и делается сдержан и вдумчив. Английские народные баллады теряют все приметы фольклорного стиля - и простоту синтаксиса, и постоянные эпитеты, и бытовые реалии - и становятся подобны балладам Жуковского. Это сглаживание примет времени, примет авторской личности совершается с безукоризненным тактом, внимательно, но непреклонно. Процесс этот можно проследить по черновым вариантам. В черновике 19-го сонета было: "Ты притупи, о время, когти льва, / Клык за клыком из десен тигра рви, / Пусть жрет земля всех, в ком душа жива, / И феникс пусть горит в своей крови". В окончательном тексте остается: "Ты притупи, о время, когти льва, / Клыки из пасти леопарда рви, / В прах обрати земные существа / И феникса сожги в его крови". Исчезли "десны", исчезло "пусть жрет", исчезло удвоение "клыка", исчез напряженный ритм "всех, в ком..." - и барочная конкретность и резкость устранены бесповоротно. К этому единому стилистическому знаменателю Маршак сводит все свои переводы. Мы уже попытались определить этот знаменатель - из переводов "Сонетов" были выбраны все слова, привнесенные туда Маршаком: увяданье, непонятная тоска, тайная причина муки, светлый лик, печать на устах, камень гробовой, замшелый, весна, розы, томленье, трепетная радость, сон, растаявший, как дым, и т. д. - лексикон Жуковского и молодого Пушкина. Кто из поэтов, переводимых Маршаком, удался ему лучше всего? Позволим себе сказать: не Шекспир, и не Бернс, и не Блейк, а Джон Китс и, если угодно, Вордсворт. Почему? Потому что эти поэты-романтики менее всего богаты приметами времени; потому что если кто из английских поэтов ближе всего подходил к тому стилю Владимира Ленского, который вносил Маршак в свои переводы, то это был Джон Китс.
Переводы Маршака были встречены критикой с безоговорочным восторгом. Они пришлись как раз ко времени. Именно тогда, в середине 1930-х гг., в истории советского перевода произошел важный перелом. Тот стиль переводов, который держался приблизительно с начала века, был заклеймен как буквалистский, и взамен его выдвинулся новый стиль, обычно называемый творческим. Грубо говоря, буквалистский перевод - это перевод, который насилует традиции своей литературы в угоду подлиннику, а творческий - это перевод, который насилует подлинник в угоду традициям своей литературы; в истории перевода чередование этих стилей так же неизбежно, как чередование шагов правой и левой ногой. Стиль буквалистский рассчитан прежде всего на узкий круг ценителей, знакомых с подлинником, стиль творческий рассчитан на широкую массу читателей, впервые знакомящихся с подлинником через перевод. Об этих массовых читателях и думал Маршак, когда устранял из своих переводов и непривычные стилистические приемы, и требующие комментария реалии. Отсюда и судьба переводов Маршака: их любят те, кто не знаком с подлинником, и порицают те, кто читал Шекспира и Блейка по-английски. Порицания эти безосновательны. Еще Белинский (в статье "Гамлет, принц датский", о переводе Н. Полевого), разделив два рода переводов - "заменяющий подлинник" и "имеющий целью ознакомление публики с великим драматургом", - писал: "Если бы искажение Шекспира было единственным средством для ознакомления его с нашей публикой - и в таком случае не для чего было бы церемониться; искажайте смело, лишь бы успех оправдал ваше намерение: когда две, три и даже одна пьеса Шекспира, хотя бы и искаженная вами, упрочила в публике авторитет Шекспира и возможность лучших, полнейших и вернейших переводов той же самой пьесы, вы сделали великое дело, и ваше искажение или переделка в тысячу раз достойнее уважения, нежели самый верный и добросовестный перевод, если он,
несмотря на все свой достоинства, более повредил славе Шекспира, нежели
распространил ее"3.
Подготовив читателя к "стихам для вечности" своими переводами, Маршак вышел к нему со своей лирикой. В сборничке 1946 года появились первые шестнадцать стихотворений "из лирической тетради" - здесь были и "Все, чего коснется человек...", и "Не знает вечность ни родства, ни племени...", и "Словарь", и "Деревья под окном". Потом, постепенно, по нескольку стихотворений в год, стали появляться дополнения к этой "лирической тетради". Пополнение шло неравномерно: в начале 1950-х гг., когда "чистая лирика" была под сомнением, Маршак предпочитал работать над воспоминаниями в стихах о Стасове и Горьком, в конце 1950-х гг. он стал отдаваться лирике свободнее. Но круг тем ее оставался твердо очерчен первой публикацией: стихи о слове, стихи о времени, стихи о природе; прибавились, пожалуй, лишь стихи о детстве и стихи об умерших, - и так составился сборник 1962 года "Избранная лирика" с его десятью строго тематическими разделами, сборник, отмеченный премией и окончательно закрепивший в сознании читателей мысль, что настоящий Маршак - это Маршак-лирик.
Этот твердый круг тем подчеркивал, что лирика для Маршака - это прежде всего "стихи для вечности". Здесь нет даже стихов о любви, потому что любовь - слишком временное, слишком индивидуальное чувство, а поэт пишет для всех людей и всех времен. Лирика Маршака безлична, и по вариантам видно, как поэт сам стремится к этой безличности. Вот каким было одно из его стихотворений в рукописи: "Неужели я тот же самый, / Кто две трети столетья назад, / Вверх взлетая с ладоней мамы, / Был до слез перепуган и рад? / И не то ли самое чувство / Я испытывал столько раз / На крутых подъемах искусства / Или в полный опасности час? // До сих пор я борюсь с дремотой, / И ложусь до сих пор с неохотой, / И не думаю, веря в успех, / Что, быть может, я меньше всех". Здесь Маршак на мгновение приоткрывает свою жизнь, свои тревоги, свои сомнения - и тотчас скрывает их опять: сравните с этим рукописным вариантом вариант печатный (начинающийся той же строчкой) - все, чем были живы приведенные стихи, в нем исчезло. Это судьба всех лирических стихотворений Маршака: все, что было личного в его раздумьях и впечатлениях, отсеивается на пути к печатному листу, остается лишь общезначимое. Стихи сжимаются в сентенции; "Лирические эпиграммы", сборник сентенций в стихах, становится логическим пределом этой эволюции Маршака-лирика. Предельная краткость в лирике, предельная пространность в детских стихах (и в публицистических, если вспомнить, как их много), - так раздваивается стиль позднего Маршака между стихами для вечности и стихами для времени.
(Парадоксально, что при этом Маршаку казалось необходимым, чтобы в лирических стихах было самовыражение и искренность. Об этом он писал в стихотворении "У Пушкина влюбленный самозванец...". Молодых поэтов, чья манера не была похожа на его манеру, он подозревал в недостатке искренности. Вот повод задуматься об относительности этого понятия, столь охотно употреблявшегося в наших спорах о литературе.)
Лирика Маршака была принята читателями столь же безоговорочно, сколь и его переводы. Она тоже пришлась ко времени, она откликнулась на ту читательскую потребность, которая все настоятельней заявляла о себе начиная с той же середины 1930-х гг., - потребность в "вечных темах". В 1930-х годах изменился весь строй советской культуры, вся ее динамика. Поэзия 1920-х годов вся была пронизана ощущением стремительного движения времени, вся была направлена к будущему, а не к настоящему и тем более не к прошлому; настоящее казалось лишь мгновенным полустанком на пути к мировой коммуне. Со второй половины 1930-х гг. поэзия стала утверждением не только будущего, но и настоящего, она вновь ощутила свои связи с прошлым, она стала спокойнее, величавее, увереннее в себе, она вновь приняла в себя те "вечные темы" (и "вечные формы"), которые казались предшествовавшему десятилетию анахронизмом. Вспомним, какой успех в конце 1930-х гг. встретил С. Щипачева с его любовной и философской лирикой. Маршаку не нравились стихи Щипачева, но, по существу, он и сам был обязан своим успехом тому же спросу на "вечные темы", который тремя волнами взметнулся в предвоенные годы, в первые послевоенные годы и, наконец, с середины 1950-х годов.
Эта реабилитация классического стиля давалась советской поэзии нелегко. Революция обновила ее культурный мир, разрушила органическое ощущение традиции. Что такое органическое ощущение традиции, современный человек может почувствовать, перечитав речь Блока о Пушкине или статью его об Аполлоне Григорьеве. Это ощущение человека, который живет теми же интересами, что Пушкин и Григорьев, имеет тех же друзей и врагов: приняв Пушкина, он не может принять Некрасова, или по крайней мере многое в Некрасове. Для современного человека такое ощущение этой традиции уже невозможно, для него в равной степени приемлемо что-то из Пушкина, что-то из Некрасова: оба они - классики, хотя и стоят на разных полках. Что именно приемлемо из Пушкина, и что из Некрасова, и из всех других русских писателей, которые друг для друга были несоизмеримы, а для нас соизмеримы, - этому нас учит хрестоматия. После большого культурного перелома каждая новая эпоха нуждается в книжном усвоении наследия предыдущей эпохи, нуждается в хрестоматии. "Хрестоматийный поэт" - выражение двусмысленное. Пушкин стал хрестоматийным поэтом, хотя никогда не писал для хрестоматий. А были поэты, которые для хрестоматий писали сами. Таков был, например, Йован Йованович-Змай, которого переводил Маршак. Таков был и сам Маршак. Его лирика - это конспект того культурного запаса, который отобрала наша эпоха из наследия других эпох.
У классиков можно усваивать методы творчества и можно усваивать результаты творчества. Пушкина любили и Маяковский, и Маршак. Но Маяковский любил Пушкина-бунтаря, а Маршак - Пушкина под "хрестоматийным глянцем": не в борьбе, а в победе. И эпохе нужен был именно такой Пушкин: ведь и сам Маяковский был признан в эти годы лишь в наведенном "хрестоматийном глянце". Это не порицание: хрестоматийный глянец - это и есть тот отбор, который делает для себя эпоха из поэта; это и есть то, чем входит творчество поэта в культурную традицию. А Маршаку - и это очень важно - поэт дорог не сам по себе, а прежде всего как средство приобщения к традиции мировой культуры. "Старик Шекспир не сразу стал Шекспиром, / Не сразу он из ряда вышел вон. / Века прошли, пока он целым миром / Был в звание Шекспира возведен". Маршаку важнее не Шекспир, а "звание Шекспира", потому что он не с Шекспиром, а с веками и целым миром.
Маршак много писал об искусстве слова. Иногда его советы могут показаться слишком уж само собой разумеющимися. Писатель должен знать, «что слово "чувство" гораздо старше, чем слово "настроение", что "беда" более коренное и всенародное слово, чем, скажем, "катастрофа"»; ему не должны «показаться почти равнозначащими такие определения, как "великолепный", "превосходный" и "шикарный"». В первое мгновение можно удивиться: неужели человек, не чувствующий разницы между "бедой" и "катастрофой", между "великолепным" и "превосходным", может вообще иметь какое-нибудь отношение к литературе и нуждаться в каких бы то ни было литературных советах? Но потом вспоминаешь, какая масса начинающих писателей шлет ежедневно в редакции свою прозу и стихи и какого качества бывают эта проза и стихи. Отмахнуться от их существования нельзя, - это тоже часть нашей культуры, за которую все мы в ответе. И литературные консультанты отвечают им: "учитесь слышать слово; читайте классиков; усваивайте традицию, а оригинальность придет сама собой". Пока есть люди, впервые приобщающиеся к словесной культуре, до тех пор нужен Маршак с уроками его статей и с образцами его стихов.
Острогожский гимназист Самуил Маршак сам когда-то приобщался к культуре так же, как они, так же, как мы, - через хрестоматии. Он усвоил традицию так глубоко, как немногие; но оригинальность не пришла к нему сама собой. Недоверие к оригинальности осталось у него на всю жизнь. Он несколько лет работал над статьей "О молодых поэтах", но так и не решился закончить ее: здесь нужно было судить не об усвоенной традиции, а о пришедшем новаторстве, и здесь обычная безошибочность его вкуса отказывала ему. В литературе есть своя начальная школа и своя средняя школа, и в средней школе уже не учатся по букварю. Но память о первом учителе, который открывает нам первые страницы букваря ("Во-да. О-гонь. Ста-рик. О-лень. Тра-ва..."), остается в нас навсегда. Такова память современной поэзии о Маршаке.
P.S. У ближайшего друга Маршака, поэтессы Тамары Габбе (чьи замечательные письма к Маршаку, несомненно, будут когда-нибудь опубликованы), есть такое неизданное стихотворение:
Поэт не должен говорить на "ты"
Ни с ласточкой, ни с камнем, ни с судьбою.
Ищи ее - лукавой простоты,
А простота смеется над тобою.
Ты словно повторяешь наизусть
Чужих стихов знакомые страницы...
Какою мерой нам измерить грусть?
В какую форму радости отлиться?
Каким простым названием назвать
Уроки горькой жизненной науки,
Чтобы свое могли в них узнавать
И сверстники, и сыновья, и внуки?
Не угадать, не вспомнить, не найти!
Неверный звук не вызовет ответа.
Другим открыты тайные пути,
Надежные и точные приметы.
А ты - ты эхо чьих-то голосов
Покорное магической привычке,
И нет твоих - незаменимых - слов
В бессмертном гуле вечной переклички.
Вера Васильевна Смирнова, знавшая обоих и знавшая, как Габбе любила Маршака, тем не менее твердо говорила: эти ее стихи - о Маршаке.
Примечания
1. В 1973 году в "большой" "Библиотеке поэта" вышел том: Маршак С.Я. Стихотворения и поэмы. Статью к нему писала покойная В.В. Смирнова, а текст и примечания готовил я, пользуясь огромным архивом, хранившимся у сына поэта, И.С. Маршака. По ходу работы В.В. Смирнова попросила меня написать, какое представление составилось у меня о творчестве Маршака в целом. Я написал для нее эту статью. За последующие двадцать лет я несколько раз предлагал ее в печать; ее хвалили, но почему-то не печатали. Только журнал "Даугава" в 1987 г. решился напечатать ее в половинном сокращении, а потом "Литературная учеба" в 1994 г. - полностью. Сейчас Маршака скорее не любят, чем любят, - он слишком сросся с памятью о советской власти и советской литературе. Мне хотелось взглянуть на него объективнее. Пусть эта статья будет посвящена дорогой для меня памяти Веры Васильевны Смирновой.
2. Бухштаб Б.Я. Поэзия Маршака. М., 1930.
Бухштаб Б.Я. Стихи для детей. М.; Л.: Детская литература, 1931.
3. Белинский В.Г. Полн. собр. соч. М., 1953.