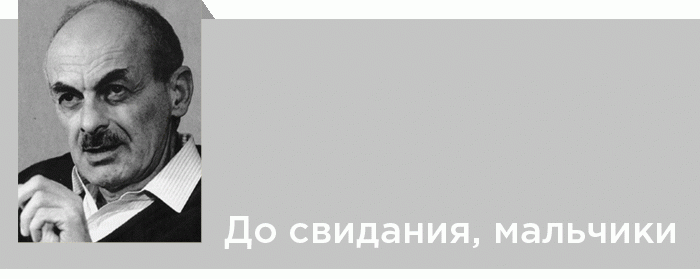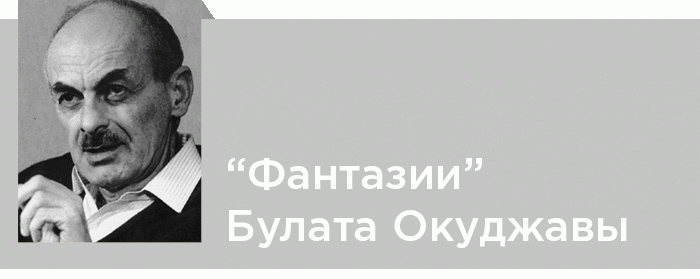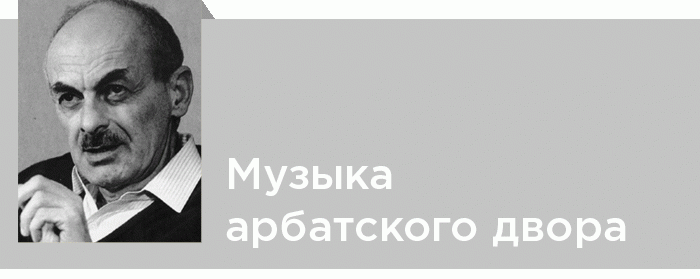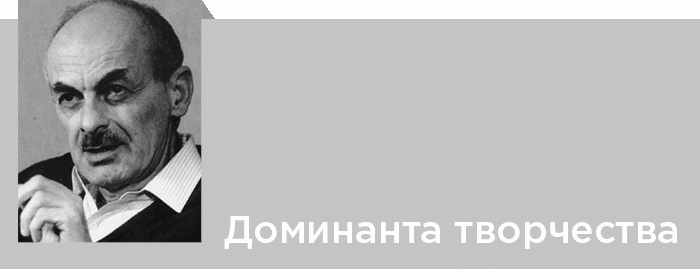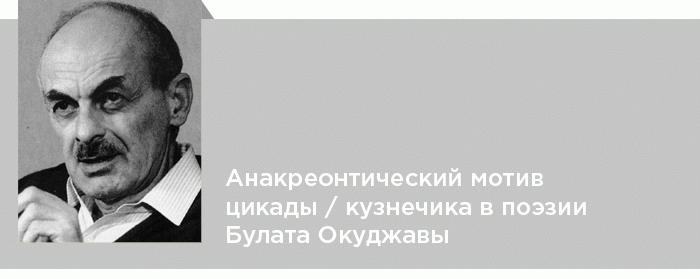Об элегии в лирике Булата Окуджавы

М.А. Александрова
(Нижний Новгород)
Исследователи творчества Окуджавы неизменно отмечают его элегическую тональность, лексику, оговаривают «своеобразную авторскую модуляцию» вечных тем1, однако не выделяют элегию в самостоятельный жанр, актуальный для современного поэта. Создается впечатление, что Окуджава растворил элегию в универсальных жанрах песни и романса, наследуя традиции элегического романса XIX в. Во всяком случае, он не прибегал к обозначению «элегия» в заголовках, которые зачастую носят именно жанровый характер (единственный случай - «Ленинградская элегия», стихотворение начала 60-х). С другой стороны, закономерен вопрос об особых отношениях с классическим жанром поэта, погруженного в пушкинскую эпоху и вооруженного «иной оптикой»2.
Признавая совершенно справедливым утверждение Т.А. Бек, что Окуджава «мыслил и страдал - жанрами, к которым относился весьма сознательно и даже, при всей лирической первозданности, филологично»3, мы должны выделить элегию и в том отношении, что противоречивая репутация жанра активизирует диалог с традицией: «“Элегическое” отношение к миру - и самое близкое лирике как виду искусства, и в то же время самое спорное с общечеловеческой точки зрения»; поэты ХХ века, по наблюдениям А. Архангельского, стремятся тем или иным способом «перебороть ограниченность элегического уныния»4. Этот парадокс оказался в высшей степени плодотворным для жанровых поисков Окуджавы. Мы позволим себе остановиться на одном стихотворении, поэтику которого определяет своеобразный конфликт пост-элегического видения и «вечных» качеств жанра, рассмотрев также его контекст. Опубликовано в книге «Посвящается вам» (1988):
С последней каланчи, в Сокольниках стоящей,
никто не смотрит вдаль на горизонт горящий,
никто не смотрит вдаль, все опускают взор.
На пенсии давно усатый брандмайор.
Каланча - видимый анахронизм, нелепость на фоне обновляющейся Москвы. Подобно реалии в пейзаже, слово в стихе буквально выпирает, торчит напоказ, отзываясь чужеродным, при общей печальной тональности, комизмом: это лексика детской дразнилки или стихотворного рассказа для детей, заставляющая вспомнить михалковского «дядю Степу по прозванью каланча», «На площади базарной, На каланче пожарной...» Маршака; и усатый брандмайор явно ведет происхождение от картинного героя «в медной каске лучезарной» («Пожар» Маршака). Таким образом, довоенное прошлое города и детство лирического героя предстают достоянием жанра «упраздненного», навсегда оставленного за возрастной чертой. Московский ностальгический миф служит поводом для рефлексии другого порядка.
Жанровые координаты намечены прежде всего архаичной стиховой формой. Окуджава на редкость последовательно выдерживает принципы александрийского стиха: шестистопный ямб с отчетливой цезурой на третьей стопе (клаузулы левого полустишия - исключительно мужские); парная рифмовка, правильное чередование двустиший с женскими и мужскими клаузулами. Лишь деление на строфы (при тематическом единстве зарифмованных строк) дает отступление от канона, впрочем, довольно привычное.
Не связанный изначально с определенным жанром, «самый универсальный размер русской поэзии XVIII века»5, шестистопный ямб (александрийский стих, в частности) обретает элегическую репутацию с течением времени6 и упрочивает ее в поэзии ХХ в. Александр Кушнер, постоянный собеседник Окуджавы в интересующий нас период7, использует «александрины» как историческую форму для «отвердевшего» содержания кладбищенской элегии:
Кладбищенских стихов тяжелое паренье.
Под рифму легче спать. Упреки, наставленья:
«Спи...» Или: «Отдыхай... Зачем от нас ушел?»
Медлительный их слог торжествен и тяжел.
<...>
И унтер-офицер, которому ни строчки
Прочесть не удалось в телесной оболочке,
Теперь, когда он тень, товарищей своих
В душе благодарит за самодельный стих.
В конце восьмидесятых Окуджаве, безусловно, было памятно и это стихотворение Кушнера из книги «Голос» (1978), и тех же лет «Посещение», где нарочито легкий метрический рисунок заменяет «припрыжкой» медитативную прогулку по следам прошлого. Поэт с невских берегов «тоже посетил», «вспомнил москвичей, / Жалеющих Арбат» и поддразнил их: «Элегии чужды / Привычкам нашим…». Полемическая выходка - оборотная сторона его собственного пристрастия к элегии: «Мир классической русской элегии - это и есть духовный идеал поэта, запоздало, но стоически стремящегося возродить его в современной лирике»8. Добавим, что «стоической» литературной позиции Кушнера не тождественна позиция лирического «я» в мире. Дело не в искушении «смеяться, когда нельзя», но в той причине, которая порождает, наряду с эскападами, облегченные версии «последних вопросов».
«Метрический бунт» против элегизма в «Посещении» близок по смыслу к нарушению александрийского стиха в травестийной кладбищенской прогулке. Поэт обдуманно «сбивается с шага», вводя запрещенный правилами анжамбман:
.А пошлостью людской взволнованный прохожий
На смерть глядит бодрей и думает: «Похоже
На жизнь и так смешно, что глупо унывать.
Запомнить бы стишки, чтоб другу прочитать».
Закономерно, что на месте традиционного для кладбищенских размышлений лирического «я»9 или «ты»-адресата10 появляется у Кушнера смешливый персонаж. То ли двойник «я», то ли «всякий человек», такой прохожий в любом случае реализует авторскую интенцию: глядит на смерть не бодрей, а всего лишь «боковым зрением».
Отсюда понятно внимание Окуджавы к стиховой и жанровой архаике: строгое соблюдение москвичом старого размера, притом без всяких признаков отчуждающей стилизации, продолжает спор о мироотношении. Предмет его рефлексии - не «абсолютный конец», овеществленный в надгробии (один из вариантов элегической топики), но драма времени как таковая. Иначе говоря, Окуджавой подхвачен главный для классической элегии вопрос. «Элегизированный» темой времени александрийский стих, с его симметричными полустишиями, рисует колебательно-возвратный ход мысли; размеренное движение стиха адекватно выражает такое состояние, когда нельзя ни «мысль разрешить», ни отвернуться от экзистенциального противоречия.
«Содержательность формы» открывается задним числом, при повторном чтении, причем возврат к началу диктует сама образная система стихотворения: финальная метафора испепеляющего времени побуждает воспринимать экспозицию с пожарной каланчой как ту самую «площадку обзора» прошлого, без которой не могла обойтись допушкинская элегия11. Подвергая элегическое умозрение нарочитой буквализации (взгляд «с высокой точки»), современный поэт отталкивается от предметной атрибутики «Сельского кладбища» Жуковского («Уже бледнеет день, скрываясь за горою... / Лишь дикая сова, таясь под древним сводом / Той башни…»), его же «Вечера» («Последний луч зари на башнях умирает»), «На развалинах замка в Швеции» Батюшкова («Уже светило дня на западе горит... / Задумчиво брожу и вижу пред собой / Следы протекших лет и славы... / Твердыни мшистые с гранитными зубцами...»). Если последняя каланча на фоне заката читается как травестия кладбищенской/исторической «руины», то брандмайор на пенсии - параллель к одинокому «стражу прошлого» («развалин страж полуживой» в элегическом прологе «Мцыри» Лермонтова и т.п.).
Совершенно очевидно, что пародировать элегию Окуджава, в отличие от Кушнера, не собирался. Напряженный образный строй передает новую сложность вечного чувства: с одной стороны, оно стыдливо избегает прямого выражения, облекается иронией, с другой - проявляет свой властный, всеподчиняющий характер. Отсюда и выбор наиболее энергичного тропа (даль не озарена, но горит), и превращение этой суггестивной, по своей традиционной функции, пейзажной детали в эмблему тревожной памяти. «Прямое» действие эмблемы реализовано наглядно, в жесте смущения: перед далью горящей все опускают взор.
Исповедальный сюжет разворачивается лишь после того, как утверждено - не без внутренней борьбы - само право на элегизм:
Я плачу не о том, что прошлое исчезло:
ведь плакать о былом смешно и бесполезно.
Я плачу не о том, что кануло во мгле,
как будто нет услад и ныне на земле.
Я плачу о другом - оно покуда с нами,
оно у нас в душе, оно перед глазами,
еще горяч и свеж его прекрасный след -
его не скроет ночь и не проявит свет.
Стилевые слова услада, плачу, плакать введены с настойчивостью, выдающей потребность самооправдания12. Многократные отрицания призваны тематически отграничить все, что оплакивать смешно и бесполезно. Предмет слез, противопоставленный дали прошлого своей ощутимой близостью, вырисовывается по мере нагнетания уклончивых обозначений: не о том... не о том... о другом... оно... оно... оно... его след... Наконец, поэт указывает на трудноуловимый миг превращения «сегодня» во «вчера», на сам переход от обладания к утрате, который был воплощен некогда в характерных формулах жанра: «Она жива еще сегодня, завтра нет» («Осень» Пушкина), «Душа не избежит невидимого тленья» («Осенняя элегия» Блока) и т.п.
Элегические «смешанные чувства» возникают по поводу утраты свежей, чей след еще горяч, и - в отличие от горизонта горящего - доступен одному внутреннему взору: «Его не скроет ночь и не проявит свет». Нарочито простая зрительная антитеза ночной тьмы и света подчеркивает тонкую фонетико-смысловую вариацию, посредством которой разворачивается сквозная амбивалентная метафора «горения»: лирический герой одновременно согрет мгновеньем, предназначенным оставить прекрасный след, и обожжен сознанием того ущерба, что наносит, невидимо и ежеминутно, само течение жизни.
На рубеже, где прозвучало элегическое «еще», открывается традиционная перспектива развития темы: поскольку прекрасное находится в семантической зоне огня/исчезновения, попытка запечатлеть мгновение чревата коллизией «невыразимого». Но именно здесь общеэлегическая проблематика соприкасается с таким личным опытом, который не укладывается в закономерности, отрефлексированные жанром. Хотя элегические приемы (все те же «подступы» и «приближения» к ускользающему объекту) служат поэту и далее, описан с их помощью феномен, не имеющий соответствий в мире элегии. Речь идет об инерции творческого самозабвения, когда слово «отстает» от реального переживания:
О чем бы там перо, красуясь, ни скрипело -
душа полна утрат, она не отскорбела.
И как бы ни лились счастливые слова -
душа полна потерь, хоть, кажется, жива.
Окуджава всегда был склонен объективировать собственное творчество в предметном образе, но ранее одушевленный «инструмент поэзии» представал в ореоле абсолютного доверия, ибо «Карандаш желает истину / знать. И больше ничего»; отсюда - своеобразное двойничество и неравенство, вариативно повторяющее отношения единораздельности с «идеальным другим» - музыкантом, шарманщиком, флейтистом, скрипачом13: «И пока больной, расхристанный, / вижу райские места, / взгляд его, стальной и пристальный, / не оторван от листа. // И пока недолго длящийся / жизни путь к концу лежит, / грифелек его дымящийся / за добычею бежит»14. Напротив, в позднем стихотворении эманация творческого начала представлена иронически: «я» отнюдь не любуется «другим», зато само перо красуется; грифелек дымящийся, образ самосожжения и творческого «старания», получает неравноценную замену - перо скрипящее. Рифма окончательно проясняет оценку усердия: перо скрипело - душа скорбела. Заповедь «не оставляйте стараний» - «особенно когда надежды нет»15 - здесь теряет свою силу. Перестройка поэтического мира Окуджавы, будучи осознана и тематизирована, обусловила неканонический характер ситуации утраты.
Но именно эти сущностные изменения и проложили путь Окуджавы к элегии. В классических его текстах элегические коллизии были заявлены исключительно для того, чтобы получить разрешение. Таков прежде всего «Арбатский романс» (1969): «Арбатского романса старинное шитье, / к прогулкам в одиночестве пристрастье; / из чашки запотевшей счастливое питье / и женщины рассеянное “здрасьте”...». Структурное тождество старинное/счастливое, заимствованное из репертуара элегии, формирует совершенно нехарактерные для элегического романса отношения «я» со временем. Воспоминание о молодости означает соединение пережитого и переживаемого, которое остается лишь увенчать возвращением: «Вы начали прогулку с арбатского двора, / к нему-то всё, как видно, и вернется».
Этот подтекст счастья реализован в более пространном непесенном варианте «Арбатского романса». Утрата как таковая опровергается вне всякой логики, но неотразимо; главный довод - чувство жизненной полноты: «...в один прекрасный полдень оглянетесь вокруг, / и всё при вас, целехонько, как было: // арбатского романса знакомое шитье, / к прогулкам в одиночестве пристрастье, / из чашки запотевшей счастливое питье / и женщины рассеянное “здрасьте”…». Чудо здесь дарованное, «даровое» - как прекрасный полдень, как детская чашка запотевшая. Неназванный даритель чаши счастья угадывается в предпоследней строфе: «Была бы нам удача всегда из первых рук…»; так в «Грузинской песне» лирическое «я» знает о благоволении «царя небесного» («А иначе зачем на земле этой вечной живу»). Но принимающий дары герой романса тоже причастен к сотворению чуда. Романсовое шитье-украшение резонирует с «искусством кройки и шитья». Обретению любви созвучен акт преображения мира «по образу и духу своему»; как «муравей создал себе богиню», так и арбатский пешеход творит спутницу «из себя»: «Поверьте, эта дама из моего ребра, / и без меня она уже не может». При этом позднее чувство («век почти что прожит») сохраняет память давних откровений; «женщины рассеянное “здрасьте”» подхватывает неслышное слово «красивой женщины с тесного двора» («Сказка», 1959): «А она всё ходит, / губами шевелит, / словно позабыть про себя / не велит». Воистину, всё целехонько, как было.
Позднейший распад «целого» проявляется в том, что перо, неизменно усердное, производит на свет лишь «счастливые слова», но не образ мира, и душа, с ее вечной потребностью приобщиться к надличной гармонии, остается без своей стихии16. С другой стороны, прежнее чувство бытия-без-ущерба, когда и грусть была условием жизненной «полноты», переходит в заостренный повтором оксюморон: душа полна утрат, душа полна потерь. Если в «Арбатском романсе» закольцованный сюжет «прогулки» преображает внутреннее (память) во внешнее (впечатления сегодняшних встреч), временное в пространственное, потерянное в обретенное, то в позднем стихотворении совершается элегическое движение от вещественной «руины прошлого» вглубь памяти. Восстанавливается ли тем самым традиционная иерархия временных планов?
Осознание жизни как длящейся утраты побуждает запечатлеть мгновение в той эстетической завершенности, которой обладает элегическая символика:
Ведь вот еще вчера, крылаты и бывалы,
сидели мы рядком, и красные бокалы
у каждого из нас - в изогнутой руке...
Как будто бы пожар - в прекрасном далеке.
В традиционной элегии «пир юности» мог служить как отправной точкой в движении лирического сюжета («пиров веселый шум» в «Унынии» Баратынского), так и кульминацией воспоминания («Вакховы пиры при шуме зимних вьюг» в элегии Жуковского «Вечер»). На какую бы последовательность ни ориентировался Окуджава, композиционная инверсия оказывается не столь важна по сравнению с инверсией смысла; ее ощутимость обеспечивает и жанрово-стилевая «память» образа, и отсылка к хрестоматийному тексту.
Уточнить непосредственный источник реминисценций позволяет одно совпадение, вероятно, отразившееся в творческом сознании Окуджавы как «узнавание своего». Важная черта его идиостиля - олицетворение немногих абстрактных понятий, в ряду которых особое место занимает Надежда. Поэтому вряд ли поэт мог пройти мимо величания надежды словно гостьи на пиру в элегическом зачине пушкинского стихотворения 1836 г.: «Была пора: наш праздник молодой / Сиял, шумел и розами венчался, / И с песнями бокалов звон мешался, / И тесною сидели мы толпой. / Тогда, душой беспечные невежды, / Мы жили все и легче и смелей, / Мы пили все за здравие надежды / И юности и всех ее затей. // Теперь не то…».
Смысл пушкинской рифменной пары невежды-надежды отражается у Окуджавы в парном эпитете, где беспечной смелости юных соответствует декларация мнимой опытности (пирующие чувствовали себя бывалыми), надежде - присвоенные человеком крылья, воплощение его самонадеянности17.
При этом метафора былого единства воспроизведена с ироническим смещением: вместо пушкинской живой толпы - сидящие рядком, т.е. фронтально и с одинаковыми жестами (у каждого из нас); изобразительная метонимия красные бокалы довершает эффект картинки-примитива. Отчужденно-стилизованный образ пира отмечает смену пафоса; элегическое переживание, едва набравшее силу, вновь проблематизировано:
И на пиру на том, на празднестве тягучем,
я, видно, был один, как рекрут, не обучен,
как будто бы не мы метались в том огне,
как будто тот огонь был неизвестен мне.
Драматизм финального взгляда в прошлое может быть по-настоящему оценен только в большом творческом контексте. Пир - едва ли не самый устойчивый в лирике Окуджавы миросозидательный мотив, реализуемый «поверх барьеров», жанровых и стилевых. Это пир «за столом семи морей» в честь «женщины моей» («Не бродяги, не пропойцы…»); жизнь-пир («Грузинская песня»): «пир воображения» («Песенка о художнике Пиросмани»: «Худы его колени, и насторожен взгляд, / но сытые олени / с картин его глядят… / И вся земля ликует, / пирует и поет, / и он ее рисует / и Маргариту ждет»); антитеза «громоподобных пиршеств» и «тихого» пира - тайной вечери - в стихотворении «Храмули»; «бивачный пир», который также оборачивается ритуалом спасения души («Сто раз закат краснел…», «Одна морковь с заброшенного огорода»); соблазны «чужих пиров» в «Старинной студенческой песне»; оксюморонный «осенний пир» («Мы едем на дачу к Володе...»); «неспешный пир души» («Божественная суббота») - и еще множество близких по смыслу образов, лирических положений. При всем разнообразии конкретных воплощений, пиршественная ситуация неизменно несет печать «старинности», служит обнаружению в изменчивой современности высшего порядка. Когда на заветный образ падает тень позднего скепсиса, такое прощание с прошлым лишает «я» традиционного элегического утешения.
О контексте локальном, уточняющем предпосылки кризиса, позаботился сам автор. Публикуя впервые свою «элегию» (оставим за ней это приблизительное жанровое определение), Окуджава предваряет ее другим прощальным стихотворением, которое было написано, видимо, несколькими годами ранее18. На страницах книги «Посвящается вам» сначала возникает парафраз дружеского послания с мотивом «последнего пира» («Чувствую: пора прощаться...»), а непосредственно за ним следует обращение к «пирам юности». Эта последовательность, несомненно, сориентирована на исторический сюжет диалога жанров в пушкинскую эпоху, когда «упадок послания только укрепил позиции элегии, сделал ее законной и ностальгической его наследницей»19. Уже из характеристик элегического предмета Окуджавы явствует, что не может быть воссоздано родоначальное сообщество (содружество) двух ведущих жанров Золотого Века «в культурном пространстве, обозначенном симпозиальными ценностями»20. Соседство «жанровых» текстов современного поэта, пробуждая культурноисторическую память, завязывает более чем драматичный сюжет: это мечта о новом «пире поэтов» - «поздней пушкинской плеяде» (Д. Самойлов), которую постигла участь всех «поздних» утопий. Двойное жанровое зеркало отражает итоги духовной деятельности поколения, причем ответственность берет на себя именно тот, кто прослыл создателем обаятельного мифа об «отечественной античности»21, кто «творил в наиболее прямом и строгом смысле» воздух эпохи - «подобно тому, как творил его раз и навсегда избранный недосягаемым авторитетом Пушкин»22.
В «Чувствую: пора прощаться...» угадывается игровая ситуация пушкинского «Моего завещания» - назначенные сроки смерти и призывание друзей («Хочу я завтра умереть / И в мир волшебный наслажденья / На тихий берег вод забвенья / Веселой тенью отлететь»); финал уже вполне определенно аллюзирует послание «Кривцову». Вне условного контекста легкой поэзии ритуальное приглашение друзей для последнего пира неизбежно остранняется, подвергается вторичной театрализации, и сюжетно этот «театр театра» тяготеет к водевилю с переодеваниями: так, прежде чем хозяин дома предстанет в качестве поэта с последним стихом на устах, он должен отыграть перед гостями три сугубо непоэтические роли - швейцара, лакея и повара.
В новое смысловое поле попадает и классический четырехстопный хорей, «имевший в пушкинское время помимо прочего семантический ореол легкого, анакреонтического размера», ностальгически вспоминаемый позднейшей лирикой23, канонизированный памятью культуры в составе легенды о поэтическом симпозиуме Золотого Века24. У Окуджавы этот размер переключается из «легкого» в «облегченный» стилевой регистр, отзываясь интонацией считалочки: четырехстопным хореем написана несколько ранее «Считалочка для Беллы» (1972). Посвященная Белле Ахмадулиной, насыщенная пушкинскими аллюзиями, «Считалочка…» наглядно сопрягает классическую стиховую форму и «легкомысленный», маргинальный даже для современной нечопорной словесности жанр. Такое нарушение эстетической иерархии, склонность говорить о главном «на другом языке» уместно пояснить собственным афоризмом Окуджавы из романа «Путешествие дилетантов»: «Все мы живем посреди трагедий, притворяющихся водевилями». Смерть на пиру, будучи разыграна как шутовская версия старинной поэтической роли, оформляет болезненно важную для Окуджавы проблему. Именно в силу интимности своей эта боль утаивается до самого финала.
Актерствуя в литературном гриме пушкинской эпохи, произнося «слова под старину», лирический герой помнит о жанрово-стилевой и культурно-исторической дистанции. Сегодняшнее церемонное обращение отличается от непринужденных словесных жестов дружеского послания; тональность адресованной речи не предполагает традиционного равенства и диалогического настроя давнего жанра, ироничное самоуничижение обособляет «я» от призываемых на пир:
Чувствую: пора прощаться.
Всё решительно к тому.
Не угодно ль вам собраться
у меня, в моем дому?
Будет ужин, и гитара,
и слова под старину.
Я вам буду за швейцара -
ваши шубы отряхну.
И, за ваш уют радея,
как у нас теперь в ходу,
я вам буду за лакея
и за повара сойду.
Уточнение - как у нас теперь - подразумевает ретроспекцию. Если неуместные для хозяина пира роли отсылают по контрасту к пушкинскому «золотому времени», то в следующей строфе припоминается общее для «я» и «вы» прошлое; это происходит благодаря автоцитате из ранней «Песенки об открытой двери». Прежде убеждающее слово было обращено к хозяину дома («Когда метель кричит как зверь, / протяжно и сердито, / не запирайте вашу дверь, / пусть будет дверь открыта»), но с некоторых пор друзья неотзывчивы, им нет нужды собираться в круг. Поэтому приглашение и оборачивается просьбой о снисхождении, о последней милости:
Приходите, что вам стоит!
Путь к дверям не занесен.
Оля в холле стол накроет
на четырнадцать персон.
Ни о чем не пожалеем,
и, с бокалом на весу,
я последний раз хореем
тост за вас произнесу.
Становится понятно, что позиция «я» выражается театральной позой, игрой не по прихоти, не из эстетического гурманства и любви к «старинному шитью», а по необходимости: старинная - и в этом смысле чужая - роль вменена современному поэту как единственный способ оправдать вечные ценности. Декламация с бокалом на весу - наглядный образ шаткого равновесия. Последний шаг поэта тоже совершается со стыдливой оговоркой.
Нет, не то чтоб перед светом
буйну голову сложу…
Просто, может, и поэтом
вам при этом послужу.
Когда вполне проясняется этот нетрадиционный смысл «смерти поэта» в разгар жизненного пира, и возникает самая узнаваемая отсылка к пушкинскому тексту. Финал прощального стихотворения Окуджавы почти эквиритмичен четверостишию, заключающему послание «Кривцову»; сравним:
Смертный миг наш будет светел;
И подруги шалунов
Соберут их легкий пепел
В урны праздные пиров.
Был наш путь не слишком гладок.
Будет горек черный час…
Дух прозренья и загадок
пусть сопровождает нас.
Ритмическим сходством подчеркнут смысловой контраст. Пушкинское «мы» присутствует в сознании на правах безусловного идеала, смещенного в ностальгическую перспективу «старины», между тем как «хоровые» ценности современников поэта обнаруживают свою иллюзорность. Распадается пиршественный круг, который прежде, в пору «Грузинской песни», знаменовал причастность к мировой жизни: «... и друзей созову, на любовь свое сердце настрою… / А иначе зачем на земле этой вечной живу?» Теперь каждый в одиночку поставлен перед трагическими вопросами: светлому мигу смерти противополагается черный час, беспечному взгляду в посмертие («… И толпою наши тени / К тихой Лете убегут») - загадка небытия, попытка прозрения в «тайны гроба». В финале открывается, что проблематика стихотворения - собственно элегическая. Это не синтез жанров, а жанровый «маскарад». Он свидетельствует о невозможности дружеского послания, которое столь желанно, и о неизбежности элегии, сколь бы сложным ни было отношение к «эгоистическому» жанру.
Имеющая целью самопознание «я», элегия в трактовке Окуджавы выступает как жанр честный, отрезвляющий от иллюзий. Оттого пир жизни в стихотворении «С последней каланчи…» увиден «празднеством тягучим». Признанный властитель дум, голос поколения, поэт обнаруживает не нынешнее, а всегдашнее свое одиночество: «…я, видно, был один, как рекрут, не обучен». Смысл заветного «вместе», «мы» раскрывается только как обреченность всех одной и той же стихии - пожару времени, который давно охватил пирующих. Закономерен переход от «мы» к «я» на последнем веском слове: «... как будто бы не мы метались в том огне, / как будто тот огонь был неизвестен мне».
Элегия «о себе» посвящена Бенедикту Сарнову. «Посвящается вам» - название грустной книги, сквозная тема которой - «переживание невозвратности, необратимости движения времени для отдельного человека»25. Замыкающее книгу программное стихотворение выставляет «эгоизм» элегика напоказ и бросает его в огонь, подобно рекруту необученному:
У поэта соперников нету
ни на улице и ни в судьбе.
И когда он кричит всему свету,
это он не о вас - о себе.
Руки тонкие к небу возносит,
жизнь и силы по капле губя.
Догорает, прощения просит:
это он не за вас - за себя.
Но когда достигает предела
и душа отлетает во тьму…
Поле пройдено. Сделано дело.
Вам решать: для чего и кому.
То ли мед, то ли горькая чаша,
то ли адский огонь, то ли храм…
Все, что было его, - нынче ваше.
Все для вас. Посвящается вам.
Таким образом, жанр - в предельном обобщении - становится метафорой лирики.
1Хазагеров Г., Хазагерова С. Окуджава и аристократическая линия русской литературы // Голос надежды: Новое о Булате Окуджаве. Вып. 2 / Сост. А.Е. Крылов. М., 2005. С. 311.
2Куллэ В.А. Окуджава как фактор влияния: К вопросу о некоторых параллелях творчества И. Бродского и Б. Окуджавы // Творчество Булата Окуджавы в контексте культуры XX века: Материалы Первой международной научной конференции. 19-21 ноября 1999 г. Переделкино. М., 2001. С. 54.
3Бек Т.А. Старые жанры на новом витке // Булат Окуджава: его круг, его век. Материалы Второй международной научной конференции. 30 ноября - 2 декабря 2001 г. Переделкино. М., 2004. С. 81.
4Архангельский А. «Все уходящее уходит в будущее» (Судьба классических жанров в современной лирике) // Литературное обозрение. 1987. № 3. С. 12.
5 Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха. Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика.
6 «Элегия может писаться разностопными или вольными ямбами, но общий фон ее определяет “длинный” шестистопный стих. Так было у Жуковского в первый, “элегический” период его творчества... Ритмомелодические структуры подобно го же рода в стихах Державина, например, в “Арфе”, безразличны к жанру. “Арфа” - не элегия, но при ретроспективном восприятии почти неизбежно будет ассоциироваться с элегическим жанром: Жуковский закрепил за ее стиховой формой соответствующий семантический ореол» (Вацуро В.Э. Лирика пушкинской поры. «Элегическая школа». 2-е изд. СПб., 2002. С. 72).
7 Окуджава посвящает Кушнеру «Ленинград» (1984) и «Хочу воскресить своих предков…» (1988).
8Архангельский А. Указ. соч. С. 13.
9 Ср. с позицией «я» в элегии Пушкина «Когда за городом, задумчив, я брожу»: «Купцов, чиновников усопших мавзолеи, / Дешевого резца нелепые затеи, / Над ними надписи и в прозе и в стихах / О добродетелях, о службе и чинах... / Такие смутные мне мысли всё наводит, / Что злое на меня уныние находит. / Хоть плюнуть да бежать…». Александрийский стих в сочетании с специфическим поворотом кладбищенской темы - те признаки, которые вполне определенно указывают на литературный источник Кушнера. О характере рецепции следовало бы говорить особо.
10 Зеркально-симметричен по отношению к элегии «могильный монолог» Цветаевой: «Идешь, на меня похожий, / Глаза устремляя вниз. / Я их опускала - тоже! / Прохожий, остановись!» Хочется думать, что рифмы Кушнера, как будто вторящие Цветаевой, и целый ряд «ее» опорных слов в сходной позиции - вовсе не ответный каламбур, а невольное совпадение («мы рифмы старые раз сорок повторим»).
11Грехнев В.А. Мир пушкинской лирики. Нижний Новгород, 1994. С. 154
12 Ср.: Окуджава «не плачет в том не очень привычном для нас смысле, что его лира не знает сладости оплакивания себя… Даже обычной для нас поэтики сожалений, столь естественной в стихах грустного и гуманного поэта, мы не находим. Не вздыхает он над тем, как хороши, как свежи были розы. И знаменитое “и все они умерли, умерли...” не срывается с его губ» (Хазагеров Г., Хазагерова С. Указ. соч. С. 310).
13 См. об этом: Бройтман С.Н. «Я» и «другой» в лирике Булата Окуджавы // Булат Окуджава: его круг, его век. Материалы Второй международной научной конференции. М., 2004. С. 190-195.
14 В итоговой книге «Чаепитие на Арбате» Окуджава поместил это стихотворение в разделе «Шестидесятые».
15 О константе «безнадежной надежды» см.: Жолковский А.К. «Рай, замаскированный под двор»: заметки о поэтическом мире Булата Окуджавы // Жолковский А.К. Избранные статьи о русской поэзии: Инварианты, структуры, стратегии, интертексты. М., 2005. С. 111, 120, 128.
16 Ср. характеристику отношений лирического «я» с миром в лице «идеального другого»: «...лирическое “я” у Окуджавы приемлющее и страдательно: оно уступает место герою и “поддается” божественной стихии музыки и пения, исходящей от него» (Бройтман С.Н. Указ. соч. С. 195).
17 Сравним: «О Надежда, ты крылатое такое существо!» («Цирк», 1965) и «Я дал бы тебе крылья, / да у меня их нет» («Песенка Белле», 1985). Хотя «горе тому, кто одернет не вовремя нас», юные - лишь «непутевые братья» Надежды: «Нас юность сводила, да старость свела» («Я вновь повстречался с Надеждой...», 1976).
18 В «Чаепитии на Арбате» оно помещено автором в разделе «Семидесятые».
19 Сендерович С. Вино, похмелье и жанры романтической лирики // Канун: Альманах. Вып. 3: Русские пиры. СПб., 1998. С. 97.
20 Там же. С. 110.
21 Чупринин С. На ясный огонь // Новый мир. 1985. № 6. С. 258-260.
22 Куллэ В. Воздух языка // Окуджава Б.Ш. Стихотворения. М., 2008. С. 8.
23 Бройтман С.Н. Поэтика русской классической и неклассической лирики. М., 2008. С. 345-346.
24 Сендерович С. Указ. соч. С. 95.
25 Магомедова Д.М. Проблемы динамики лирических жанров // Теория литературы: В 2 т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. М., 2004. С. 435.