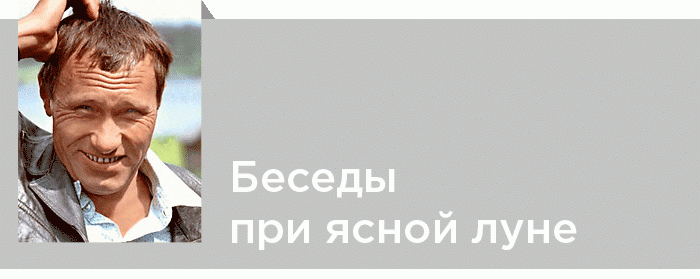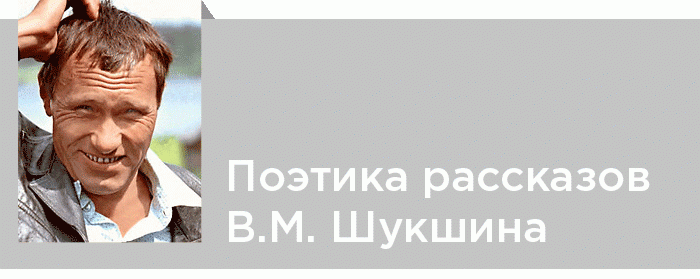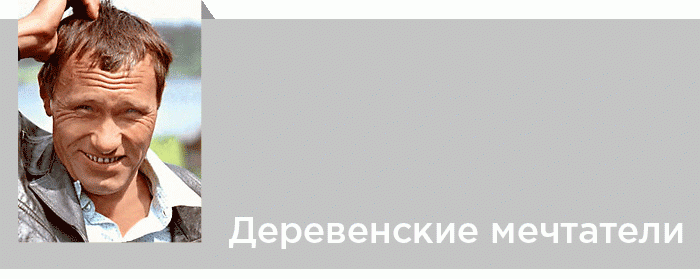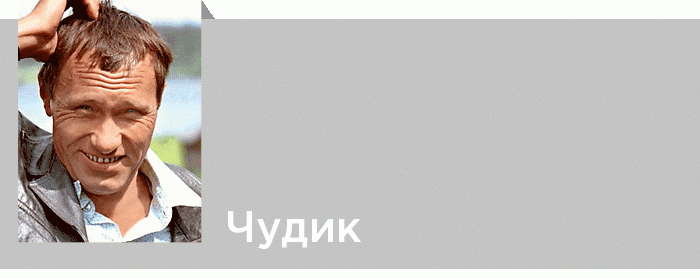Об одной семантической особенности прозы Василия Шукшина

П. С. Глушаков
В статье установлено, что художественная действительность и мир языка, согласно поэтике В. Шукшина, не «сотворённое», а творимое. Усложнение языковых поисков, по мнению автора статьи, идет в прозе писателя по нескольким основным направлениям: это семантические наращивания, метафоризация, различные виды контекстирования, а также формальные структурные изменения — анаграммы, графемы. В текстах Шукшина наблюдается также широкое «поле» разноуровневых и разновекторных бинарных и тернарных оппозиций, что свидетельствует об усложнении поэтического мышления писателя.
Ключевые слова: Василий Шукшин, поэтика, структурные оппозиции, слово, семантика, интерпретация.
PAVEL S. GLUSHAKOV
ON A SEMANTICS PECULIARITY OF VASILY SHOUKSHIN'S PROSE
The paper detects belles-lettres reality and language world of V Shoukshin's poetics is not a “created” but “being created” one. The author considers the complication of language prospecting is on several general areas, i. e. semantic accumulations, metaphorising, various types of contexting and formal structural changes — anagrams, graphemes. Voluminous “sphere” of different level and vector binary and ternary oppositions indicate complication of poetic thinking.
Keywords: Vasily Shoukshin, poetics, structural oppositions, word, semantics, interpretation.
Феноменальность прозы Шукшина заложена в самом, на первый взгляд, простом материале. Краткие произведения прозаика, включаемые в сложные текстовые контексты, демонстрируют поистине огромные возможности интерпретации, они выстраивают свою внутритекстовую поэтическую систему, развивая специфические структурные принципы, степень регулярности которых говорит о неслучайных строевых процессах. Текст сигнализирует о поисках, мировоззренческих изменениях, об усилении словесных возможностей; слово включается в перекрёстные контексты: в контекст словосочетания, предложения, всего произведения, а затем по принципу дополнительности / оппозиции / контраста / ассоциации и т. д. может быть рассмотрено в составе нескольких записей одного тематического, мотивного поля или же в составе целого сложного текстового единства. Именно поэтому такое пристальное, поистине миростроительное, внимание уделяется Шукшиным языку и слову как основной языковой единице. В его текстах (намеренно или нет) запускаются в действие некоторые универсальные механизмы функционирования слова в ткани художественного текста: слово превращается, во-первых, в творческую порождающую единицу, а во-вторых, наделяется деятельной компонентой, становясь результатом акта творения новых смыслов и систем миропонимания. По мысли В. Гумбольдта, язык есть «не мёртвое произведение, а деятельность. <...> вечно повторяющееся усилие... Самое существование духа можно себе представить только в деятельности и как деятельность»1. Акт называния, отождествления, метафоризации (сравнения), ассоциирования и т. д. есть, таким образом, акт волевого усилия, творчества по отбору того, что, по каким-либо внутренним, мировоззренческим установкам, может, а значит, должно воплотиться в текст. Отбор этот не случаен, как — следовательно — не случайна и читательская реакция на прочитываемый текст: от читателя требуется аналогичное волевое усилие для «получения» полной и адекватной «информации», заложенной в «послании» — едином тексте писателя, семантика которого определяется смысловым единством культурного поля.
Одновременно шукшинское слово есть дело (вспомним постоянное стремление к активному волевому усилию / долженствованию / деланию в поэтике Шукшина2): оно позволяет свободно оперировать эпохами, людьми, давать или переименовывать имена, признавать или присваивать родство, «переводить» написанное в претворённое, преодолеть безлично-объективное (нейтральное) «никому-не-принадлежащее» и «никого-не-трогающее» в субъективное (активное, личное). Заметим в этой связи, что именно со слова, вслушивания в него, с обнаружения личного и волнующего, завязываются мировоззренческие «сюжеты» в новеллистике Шукшина: «забуксовавшие» герои раскрывают то, что уже стёрлось и стало столь «объективным», что потеряло живую связь с человеком, отстранилось от жизни. Именно слово заставляет (в буквальном смысле) героев мыслить, действовать. Слово же приводит к диалогу с другим, спору, нравственным поискам, открытиям, обидам, агрессии и т. д.
Текст вторгается в жизнь, оживляет то, что уже/ещё не может поддаться физическому воздействию в силу объективных причин: жизнь становится той метафорической «бесконечной массой», которая пульсирует на наших глазах здесь и сейчас, чудесным и неповторимым образом, что подвластно только литературе. Так творец- художник, Шукшин, оживляет творца в каждом своём читателе, словом творит великое, без сомнения, дело.
Тексты Василия Шукшина демонстрируют широкое «поле» разноуровневых и разновекторных бинарных (двойственных) оппозиций. Бинарные оппозиции антонимичны; регулярность их проявлений говорит о принципах афористического мышления Шукшина, оперирующего предельными категориями. Первую группу произведений составляют тексты с антонимической лексикой. Антонимы тут регулярно парны, определяя некоторые границы рассмотрения проблемы, задавая семантике текста определённую ограниченность и предопределённость выбора (или — или); как следствие — риторика в этих записях преобладает над поэтикой. Ко второй группе можно отнести тексты, в которых антонимическая семантика проявляется опосредованно; форма этого проявления неоднородна: здесь есть «ассоциативные цепочки», намёки и аллюзии. В шукшинском творчестве присутствует и эмоционально-психологическая антонимия, когда мысль «гасится», «снижается» авторским примечанием, самонаблюдением, используя приём отстранённости (или даже «остранения») от написанного им же текста, дистанцирования от слова написанного в пользу слова непроговорённого, только подразумеваемого (даже так: иногда Шукшин как бы «стыдится» возможной патетики своих слов, опасается, что читатель воспримет их как нравоучение, поучение, пустую риторику; здесь автор «борется» с самой жанровой сущностью рабочих записей, идущей от просветительской афористичности Ларошфуко и др.): «Надо заколачивать свой гвоздь в плаху истории (ой-ой- ой!)»3. Такое «внутреннее снижение» представляет собой не что иное как достаточно подробно изученный психологами феномен «внутреннего говорения», активно развитой рефлексии, источник которой можно видеть в «нравственном противоречии»4.
Контекстуально некоторые слова во фразеологии Шукшина наполняются антонимичностью, не будучи формально противопоставленными: «Да, я б хотел и смеяться, и ненавидеть, и так и делаю»5 (положение одновременности действия, при их явственной оксюморонности). В этой дневниковой записи, как и в целом ряде других текстов, писатель будто отвечает на чью- то реплику. Эти записи диалогичны, представляя собой опущенный ответ-противопоставление в первой части. Контекстуальная антонимия использует явственный зооморфный смысловой код и образы, олицетворяющие низкое, грязное, тёмное: «Грамматические ошибки при красивом почерке — как вши на нейлоновой рубашке».
Эти явления достигают своего апофеоза, думается, в ставшем уже хрестоматийном рассказе «Бессовестные». Само заглавие рассказа позволяет «поиграть» смыслами: набожная старушка Отавина «ввязалась» в историю, из-за которой ездила в церковь «грех замаливать», так как «бес её попутал» (первый элемент слова — приставка (бес-); воспоминания об «установлении» советской власти и гражданской войне (-сов-); боязнь «оглашения» «тайны» стариков, оповещения (-вест-). Большое значение в рассказе имеют числа, даты: старик Глухов овдовел в шестьдесят восемь лет и стал сначала единицей («Как же я теперь буду-то? Один-то?»), жил так один год, затосковал в одиночестве, вспомнил о младшем сыне, единственном оставшемся в живых... (Даже может показаться, что старик и исчез вовсе, стал нулём (визуально это передаётся необычайно большим числом букв «о »): он «...затосковал... А, пожалуй, затосковал. Дико стало одному в большом доме...»). Оппозицией миру мёртвых и живых единиц служат шесть (!) ульев, что держал старик, шесть крепких и полных семей... А 9 мая старик решил жениться. «Присоединить» к себе ещё одну «единицу» (бес+совестные). Помянул троих погибших сыновей и приметил в толпе старуху Отавину (опять тот же «нуль»); решил для начала посоветоваться с Ольгой Сергеевной Малышевой (не в этом ли их «фатальная» развязка — «трагедия нулей», одиночеств?). Пенсионные деньги, что «аккуратно» и «уважительно» (не без игры, конечно, лукавинки шукшинских «простаков») платит старику власть, весьма примечательны: пенсия его 20 рублей, а сын иногда даёт в четыре раза меньше — пятёрку (а вот Малышева иногда ставит старику «четвертинку» за помощь; небезынтересно, что старуха Отавина утверждает, что её дочь «ютится на пятачке».). Малышева рассуждает о «смысле жизни»: «Прожить можно и сто лет... А смысл-то был? Слоны по двести лет живут, а какой смысл?» И тут же — косвенно — отождествляет старика со ... слоном: «Ещё двести лет тесать — тогда только на людей будете похожи»6. (А пока ещё — не люди!) Потому не случайны такие сентенции старика: «Сравнила... телятину с козлятиной». В свою очередь, Малышева называет старика «жеребцом», а своего «комиссара» отождествляет с «орлом». Далее: красноречивое «наименование» старика «козлом» (далеко не случайное и очень частотное у шукшинских героев) и ответный призыв Отавиной «не гнать коней». Наконец, окончательный «приговор» Малышевой: «Совсем как... подзаборники. Тьфу! Животныи». Мир героев чётко разделён на «белое» и «чёрное» — это и является, по-видимому, причиной трагического конфликта, потери живого диалога, без которого у героев нет будущего.
Однако было бы неверным судить о «космосе» Шукшина только по этим простейшим сочетаниям, в которых двоемирие / антонимичность проявляются в явственной и недвусмысленной форме. Думается, структура художественного мира писателя подразумевает включение и других гораздо более сложных элементов: тройственных оппозиций и элементов единоначалия. Если бинарные оппозиции конфликтны по своей сути, то тройственные оппозиции подразумевают не столько конфликт, сколько иерархию / движение / компромисс. Тройственность — это и гегелевская триада, в которой синтетичность «снимает» первичную бинарность, но это и христианская Троица, где «элементы» слиянны и ипостасны. Одновременно это и «объективированная» реальность: три категории времени, три измерения пространства и т. д. Писатель переносит эту триаду на свою жизнь: «Всю жизнь свою рассматриваю, как бой в три раунда: молодость, зрелость, старость. Два из этих раунда надо выиграть. Один я уже проиграл»7. И — отчаянное: «В трёх случаях особенно отчётливо понимаю, что напрасно трачу время:
Когда стою в очереди.
Когда читаю чью-нибудь бездарную рукопись.
Когда сижу на собрании»8.
Подобные структуры сугубо иерархичны, построены от простого (малого, раннего) к сложному (большему, позднему); они личностны (написаны от первого лица); оппозиции оперируют категориями времени и траты времени, протекающими в статике («стою» — «читаю» — «сижу»). Троичные единства ассоциативны: судьба — рождение / молодость — сын; характер — женитьба/ зрелость; исповедь — старость / смерть — отцовство. Также следует подчеркнуть, что троичность становится ещё и особым ритмообразующим средством, прочитываемым даже графически (нумерация, выделение каждого отдельного элемента, причём подача этого выделения близка стихотворной анафоре — повторение первого элемента в каждой строке). Эти элементы цитатны или выражают точку зрения «другого», экспрессивны (маркированы восклицательными знаками или многоточиями), аллитеративны. Наконец, тут «испытуется», подвергается сомнению, явление, проясняется его новая сущность.
В целом же можно говорить о том, что семантическая оппозиционность — сущностная для прозы Шукшина характеристика, которая имеет непосредственное отношение к этическим категориям, организующим художественную философию писателя.
Примечания
1Кожинов В. В. Литература и слово // Поэтика и стилистика русской литературы. Л., 1971. С. 324.
2Глушаков П. С. Из размышлений над темой: Слово в художественном мире Василия Шукшина // Research on Slavic Languages. Seoul, 2009. Vol. 14-2. P. 300-320.
3 Шукшин В. М. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. М., 1996. С. 455.
4 Ананьев Б.Г. Психология чувственного познания. М., 1960. С. 362.
5 Шукшин В.М. Указ. соч. С. 456.
6 Там же. С. 236.
7 Там же. С. 222.
8 Там же. С. 232.