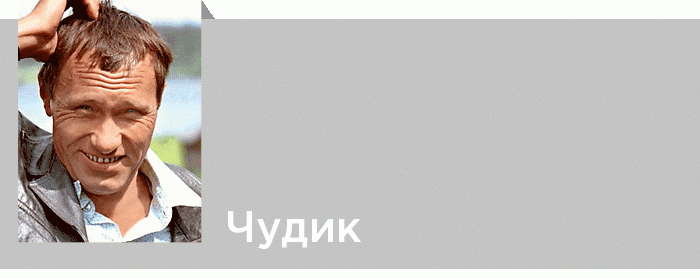«Алеша Бесконвойный» Василия Шукшина и конвоируемая Россия

DOI 10.15393/j9.art.2015.3161
УДК 821.161.1.09“19“-31
Иван Андреевич Есаулов
Литературный институт им. А. М. Горького
(Москва, Российская Федерация)
Аннотация. В шукшинском тексте обращает на себя внимание своего рода «гимн» субботе с ее баней. С одной стороны, освобождающийся в субботу от подневольного колхозного труда центральный персонаж противопоставляется автором своим односельчанам. Прослеживается изменение семантики таких слов, как «преподобный», «бесконвойный», «выпрягаться». С другой же стороны, праздничная суббота замещает христианское воскресение, что свидетельствует о трансформации православной традиции в советское время. Алеша Бесконвойный в контексте «большого времени» русской культуры продолжает субдоминантную линию юродства. В этом контексте нарушение им «закона» (принципиальный отказ от работы по субботам), воспринимаемое окружающими как недолжное и вызывающее чудачество, продолжает православную традицию неприятия греховной повседневности. Баня теряет функцию средства телесного очищения и соотносится со спасением души героя. Однако то же самое «субботничество» в культурном бессознательном автора символизирует и горестное забвение русскими людьми советского времени пасхальных истоков их собственной культуры, ее замещение другими моделями поведения.
Ключевые слова: бесконвойный, конвоируемый, преподобный, трансформация
Ivan A. Esaulov
The Maxim Gorky Literature Institute
(Moscow, Russian Federation)
“ALYOSHA BESKONVOINY” BY VASILIY SHUKSHIN AND THE ESCORTED RUSSIA
Abstract. In Shukshin's text there is a kind of an “anthem” to Saturday and its bathhouse that draws attention to itself. On the one hand, the main character that became free of the bonded kolkhoz labor is opposed to his fellow villagers. The change in the semantics of such words as “reverend”, “without escort”, “unharnessed” is evident. On the other hand, however, the festive Saturday substitutes the Christian Sunday, which makes obvious the transformation of the Orthodox tradition during the Soviet era. Alyosha Beskonvoiny in the context of “global time” of Russian literature follows the subdominant line of the foolishness. In this respect the violation of the “Law” (his firm refusal to work on Saturdays) is considered by others as an undue and provocative behavior and continues the Orthodox tradition of the rejection of sinful reality. The bathhouse looses its role of an instrument for physical purification and is associated with the act of salvation of the hero's soul. However, the same “Sabbatarianism” in the cultural subconscious of the author symbolizes the oblivion of the Easter origins of Russian culture by the Russian people of the Soviet time, substitution of their own culture for other models of behavior. Key words: beskonvoiny (at large, literally, “without escort”), escorted, reverend, transformation
Не которые тексты позднесоветской прозы представляют собой бесценные художественные свидетельства важнейших культурных процессов, происходивших в нашей стране в XX веке. К числу таковых относится и рассказ В. М. Шукшина «Алеша Бесконвойный».
В художественном мире Шукшина, как давно замечено, — обилие «чудиков», странных, эксцентричных персонажей, поведение которых особенно бросалось в глаза на фоне повседневной жизни советских людей того времени. Алеша Бесконвойный — один из этого ряда шукшинских «чудиков». Почему так важен этот текст как с историко-литературной, так и с исторической точки зрения? Потому что в этом рассказе в судьбе центрального персонажа символически передана несломленность, но, вместе с тем, драма русского народа в ХХ веке.
Обычное состояние шукшинского героя такое: он — работник. Притом «старательный работник» (курсив мой. — И. Е.) («летом он пас колхозных коров, зимой был скотником — кочегарил на ферме…»1).
Сегодняшний читатель Шушкина должен знать, что исходное неравноправие «деревни» и «города» в советское время (с раннебольшевистских времен до последних десятилетий) проявлялось в различных правовых ограничениях. В частности, если горожане имели два выходных дня в неделю, то деревенские жители — лишь один. Суббота в деревне была рабочим, а не выходным днем. Таков был порядок, закон. Поэтому «старательный работник» Алеша Бесконвойный у Шукшина — в глазах окружающих, его же односельчан — злостный нарушитель порядка, нарушитель закона.
«...Пять дней в неделе он был безотказный работник <…> но наступала суббота, и тут все: Алеша выпрягался» (курсив мой. — И. Е.) (254). Первое значение глагола «выпрягаться» — освобождаться от упряжки. Оно относится не к человеку, а к лошади; тягловой лошади (рабочей скотинки), которую запрягают и на которой ездят.
Именно такой рабочей скотинкой Алеша Бесконвойный и проживает всю свою жизнь, все дни недели, кроме субботы. Потому что в субботу должна быть баня.
К этому особому нарушению «закона» и к семантике самой бани мы обратимся несколько позже. Пока же вернемся к самому началу текста. В первом предложении рассказа Шукшин манифестирует смену имени, за которой мерцает общая семантика подмены как таковой. «Его и звали-то — не Алеша, он был Костя Валиков, но все в деревне звали его Алешей Бесконвойным» (254). Форма настоящей фамилии — Валиков (от «валик») — включает в себя исходное «катать, вертеться, поворачиваться»2. Мы видим глаголы движения, притом семантика отражает объектный, а не субъектный смысл. Всю жизнь шукшинского персонажа — в соответствии с «подлинным» именем — катают, поворачивают, вертят им. Вертят другие — те, которые «знают», как именно «нужно» ему жить. Можно сказать, что все дни его жизни он все-таки остается Костей Валиковым (латинское «постоянство», звучащее в полном варианте имени Костя, в данном случае имеет совершенно особенные коннотации). Алешей же Бесконвойным его делает баня.
Безотказный Костя Валиков — в субботу, как уже было отмечено, «выпрягается», он все-таки не желает быть рабочей скотинкой все время, все дни своей жизни. Шукшин использует советский тезаурус, дабы подчеркнуть странность ситуации. Обратим внимание на то, какие именно коннотации позитивные, а какие негативные.
Позитивные — «старательность, безотказность». Негативные — «неуправляемость, безответственность». Но самый поразительный в этом тезаурусе центральный концепт — бесконвойность. Что такое «конвой»? В данном случае — охрана, приставленная к субъекту. Приведу пример из рассказа Солженицына «Один день Ивана Денисовича» (1961): «Колыхнулась колонна впереди, закачала плечами, и конвой, справа и слева от колонны <...> пошел, держа автоматы наготове»3 (курсив мой. — И. Е.).
Таким образом, когда односельчане убеждают Алешу: «<...> нельзя же позволять себе такие вещи, какие ты себе позволяешь!» (254) — то денотат здесь — «не работать в субботу», а коннотация — «освобождаться», ходить без конвоя. Нельзя позволять себе ходить без конвоя; поскольку же в субботу Алеша «выпрягается», ходит без конвоя, своей волей — он бесконвойный. Иными словами, быть запряженным, ходить в упряжке — это хорошо; «распрягаться» — плохо.
Драма русского народа, передаваемая Шукшиным на словесном уровне, уровне самого языка, в данном случае состоит именно в том, что конвоируемое состояние декларируется самими конвоируемыми как норма, закон, порядок, а бесконвойность (т. е. свобода) понимается ими как «неуправляемость, безответственность». Первый абзац шукшинского текста выразительно заканчивается так: «Он даже на собрания не ходил в субботу» (254).
Замечу тут же, что в этом же первом абзаце наряду с сакрализацией «собрания», которое, оказывается, важнее и самой работы, имеется характерная десакрализация: «И даже уж и забыли, когда это он завел себе такой (курсив мой. - И. Е.) порядок, все знали, что этот преподобный Алеша “сроду такой”...» (254). Слово «преподобный» означает «весьма подобный, схожий» и подразумевает подобие/уподобление человека, которого так называют, Христу [5, 84]. В самой ткани языка такое подобие подразумевает присущий русской культуре христоцентризм. Идея уподобления Христу является одной из ключевых для христианства и базируется на утверждении апостола Павла, что верующим Бог «предопределил быть подобными образу Сына Своего» (Рим. 8:29). Однако в советском тезаурусе слово «преподобный», как мы видим, теряет сакральные коннотации и обретает профанные. Это что-то явно недолжное, странное, требующее искоренения. Алеша Бесконвойный — потому и «преподобный», что — неправильный.
«В субботу он топил баню. Все. Больше ничего» (254). Один из лучших истолкователей шукшинской поэтики Евгений Вертлиб проникновенно писал в свое время о настоящем гимне русской бани, который создают, как ему представлялось, Шукшин и Высоцкий. Вертлиб полагал, что «Алеша Бесконвойный, как истый христианин, каждую неделю причащается (курсив мой. — И. Е.): баня — его заутреня и вечеря (курсив мой. — И. Е.), “тайная вечеря”», добавляя: «благодаря этому Храму он душу блюдет в чистоте. Самозабвенно и ревностно он устраивает себе праздник души (курсив мой. — И. Е.), самим ритуалом которого и то уже противопоставляет себя колхозу» [3, 356].
В шукшинском тексте действительно можно найти подтверждение этим выводам, начиная с подготовки к бане: «В субботу он просыпался и сразу вспоминал, что сегодня — суббота. И сразу у него распускалась в душе тихая радость. Он даже лицом светлел» (254). «Тихая радость», «лицом светлел» — эти определения не относятся собственно к телу, хотя речь и идет о бане, но — к душе человеческой. Однако дело обстоит, по-видимому, несколько сложнее — и значительно трагичней, — чем это представляется Вертлибу в его интерпретации шукшинского текста.
Достаточно заметить, что Алеша бормочет в бане в качестве своего рода священнодействия слова пошлой интернациональной песенки:
«Догоню, догоню, догоню,
Хабибу догоню!.. —
пропел Алеша негромко, открыл дверь и ступил в баню» (263). Хороша же «молитва» — перед входом в святилище.
Герой пытается понять, кто же он такой и в чем смысл его жизни, однако не осознает, что эта вбитая в его голову по «советскому радио» песенка и призвана заместить в его сознании слова православной молитвы, которые хорошо знали его отцы и деды, равно как и пресловутая «суббота» — с «баней» — заместила Воскресение и стояние на службе в храме. Православный человек трансформируется в своего рода «субботника».
При этом нельзя сказать, что Алеша — человек с начисто ампутированными мозгами, ведь наряду с этой Хабибой в тексте постоянно упоминается и о душе: «Какой желанный покой на душе, Господи! Ребятишки не болеют, ни с кем не ругался...» (259). И дальше: «Стал случаться покой в душе — стал любить. Людей труднее любить, но вот детей и степь, например, он любит все больше и больше» (264-265). Любопытно, насколько представления Алеши Бесконвойного о войне отличаются от навязываемого «совпатриотизма»: «Алеша воевал, был ранен, поправился, довоевал и всю жизнь потом с омерзением (курсив мой. — И. Е.) вспоминал войну. Ни одного потом кинофильма про войну не смотрел — тошно. И удивительно на людей — сидят смотрят!» (259). Но, кажется, именно так и должен думать о войне Алексей — Божий человек.
Шукшин показывает и горестное непонимание Алеши в его семье. Хотя он и любит своих детей, но те как-то отчуждены от его мира. «Так и не приучил Алеша сыновей париться: не хотят. В материну породу — в Коростылевых» (3, 266). Женщины, как это частенько бывает у Шукшина, за очень редкими исключениями, чрезвычайно прагматичны и абсолютно чужды душевным переживаниям «блаженных» героев. «Все. Гори все синим огнем! Пропади все пропадом! “Что мне, душу свою на куски порезать?!” — кричал тогда Алеша не своим голосом» (258) («тогда» — когда жена, вполне отвечающая «общему мнению», донимала его и в «сакральную» для него субботу: «надо то сделать, надо это сделать — не день же целый баню топить!» (258)).
В данном случае жена уступила субботу. Но исключительно из прагматических соображений: «Дело в том, что старший брат Алеши, Иван, вот так-то застрелился. А довела тоже жена родная: тоже чего-то ругались, ругались, до того доругались, что брат Иван стал биться головой об стенку и приговаривать: “Да до каких же я пор буду мучиться-то?! До каких?! До каких?!” Дура-жена вместо того, чтобы успокоить его, взяла да еще подъелдыкнула: “Давай, давай... Сильней! Ну-ка, лоб крепче или стенка?” Иван сгреб ружье... Жена брякнулась в обморок, а Иван полыхнул себе в грудь. Двое детей осталось. Тогда-то Таисью и предупредили: “Смотри... а то — не в роду ли это у их”. И Таисья отступилась» (258). Понятно, «отступилась» совершенно не потому, что стала понимать мужа.
В рассказе имеется вставная новелла, где повествуется, как вокзальная воровка — «Аля крепдешиновая» — выбирала «солдатика поглупей», уводила с собой, а затем и обкрадывала его. Таким солдатиком и становится возвращающийся с войны Алеша. «Но вот штука-то, — замечает Шукшин, — спроси она тогда утром: отдай, мол, Алеша, ковер немецкий, отдай гимнастерку, отдай сапоги — все отдал бы» (260). «Никому никогда не рассказывал Алеша про тот случай, а он ее любил, Алю-то. Вот как» (261). В сущности, этот вывод шукшинского героя, пытающегося вспомнить свою собственную историю любви: «вот как» — абсолютно чудовищная фраза. Потому что Алеша, находясь с его ищущей душой на жестком прагматическом безлюбьи, когда сын-грамотей читает какую-то книгу, но не желает общения с отцом («Борис, сын, с некоторых пор стал — не то что стыдиться, а как-то неловко ему было, что ли <...> что отец его — скотник и пастух» (265)), а жена «ворочает глупость за глупостью» (261), — любит эту обманувшую его воровку, для которой он — один из десятка, сотни таких же «солдатиков». «И тепло это — под рукой ее — помнил же. Да...» (260). Колючки крепдешинового платья вокзальной Али и есть то, что заменило ему (даже в мечтах и воспоминаниях) настоящую любовь.
Столкновение двух типов дискурса — идеального и прагматического — мы видим в финале рассказа:
— Помнишь, — сказал Алеша, — Маня у нас, когда маленькая была, стишок сочинила:
Белая березка
Стоит под дождем,
Зеленый лопух ее накроет,
Будет там березке тепло и хорошо.
Жена откачнулась от ящика, посмотрела на Алешу... Какое-то малое время вдумывалась в его слова, ничего не поняла, ничего не сказала, усунулась опять в сундук, откуда тянуло нафталином. Достала белье, пошла в прихожую комнату. На пороге остановилась, повернулась к мужу.
— Ну и что? — спросила она.
— Что?
— Стишок-то сочинила... К чему ты?
— Да смешной, мол, стишок-то.
Жена хотела было уйти, потому что не считала нужным тратить теперь время на пустые слова, но вспомнила что-то и опять оглянулась.
— Боровишку-то загнать надо да дать ему — я намешала там. <...>
— Ладно.
Баня кончилась. Суббота еще не кончилась, но баня уже кончилась (266).
Нарушение «правдоподобия», которое маленькая Маня допустила в своем «стишке», по-своему трогательно и замечательно, оно говорит о человеческой заботе и желаемом сопряжении телесного («тепло») и душевного («хорошо»). Казалось бы, как этого не понять? Но ее прагматичная мать понимать не желает.
Культурной моделью этого текста является житие преподобного Алексея, человека Божия. Житие блаженного Алексея было одним из самых любимых в России. Алеша Бесконвойный, разумеется, наследует традиции юродства [4, 155-185], однако, наделяя его чертами юродства, вплоть до имени, до именования «преподобным», Шушкин делает это, скорее всего, бессознательно.
Может быть, поэтому такое значение для понимания именно русской культуры ХХ века и имеет категория культурного бессознательного [4, 7-43]. Ведь практически всё: вся традиция, все обыкновения, весь уклад жизни — было старательно выкорчевано. Да и сам русский язык претерпел, как мы постарались показать на частном, но выразительном примере, тотальную семантическую трансформацию, при которой изменился сам «дух» языка. К сожалению, сколько-нибудь объективное описание масштабов этой трансформации в нашей научной литературе, посвященной изучению писателей 60-70-х годов прошлого века [1], [2], [6], пока отсутствует.
Суббота в России на самом деле была лишь подготовкой к воскресенью, очищение тела — как подготовка к очищению души, к воскресному причастию в православном храме. Суббота как ступень к Воскресению. Однако все это было затоптано, уничтожено и, в конечном итоге, забыто. Трагедия народа в том и состояла, что внешний — насильственный конвой — в том числе, ментальное конвоирование переходило уже в воспевание конвоя как должного состояния, а освобождения от конвоя — как состояния недолжного. Именно поэтому не только жена, но и другие «бабы у колодца» не понимают шукшинского «чудика», обсуждая его: «Вот — весь день будет баней заниматься. Бесконвойный он и есть... Алеша» (255).
Но смутная память о том, что земными заботами, трудами, «старательной работой» не исчерпывается человек, в культурном бессознательном русского народа осталась. Однако в целом все-таки баня в известной мере заместила церковь, приняла при этом некоторые сакральные атрибуты; произошла вторичная сакрализация, но не сверху, а снизу.
В природе этой трансформации и пытался разобраться Василий Шукшин. Пытался понять — что же с нами сделали и что с нами происходит. И мы тоже пытаемся понять это, вслед за ним.
Примечания
* Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект № 15-04-00212.
1 Шукшин В. М. Алеша Бесконвойный // Шукшин В. М. Собрание сочинений: в 6 т. М.: Молодая гвардия, 1993. Т. 3: Рассказы 1970-х годов. Повести для театра. С. 254. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием страницы в круглых скобках.
2 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. М.: Прогресс, 1988. Т. 1. С. 268.
3 Солженицын А. Рассказы. М.: ИНКОМ НВ, 1991. С. 26.
Список литературы
- Белая Г. А. Художественный мир современной прозы. — М.: Наука, 1983. — 192 с.
- Бодрова Л. Т. Малая проза В. М. Шукшина в контексте современности. — Челябинск: Изд-во Челябинского гос. пед. ун-та, 2011. — 369 с.
- Вертлиб Е. Русское — от Загоскина до Шукшина: опыт непредвзятого размышления. — СПб.: Звезда, 1992. — 414 с.
- Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. — М.: Кругъ, 2004. — 560 с.
- Живов В. М. Святость: краткий словарь агиографических терминов. — М.: Гнозис, 1994. — 112 с.
- Разуваева А. И. Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов. — М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 612 с.
References
- Belaya G. A. Khudozhestvennyy mir sovremennoy prozy [Th e Artistic world of modern fi ction]. Moscow, Nauka Publ., 1983. 192 p.
- Bodrova L. T. Malaya proza V. M. Shukshina v kontekste sovremennosti [Th e short prose of V. Shukshin in the context of modernity]. Chelyabinsk, Chelyabinsk state pedagogical university Publishing house, 2011. 369 p.
- ertlib Evgeniy. Russkoe — ot Zagoskina do Shukshina: opyt nepredvzyato- go razmyshleniya [The Russianness from Zagoskin to Shukshin: the experience of an unbiased refl ection]. Saint-Petersburg, Zvezda Publ., 1992. 414 p.
- Esaulov I. A. Paskhal'nost' russkoy slovesnosti [Pashalnost' of Russian Literature]. Moscow, Krug Publ., 2004. 560 p.
- Zhivov V. M. Svyatost': kratkiy slovar' agiografi cheskikh terminov [Sanctity: a Brief Dictionary of Hagiographique Terms]. Moscow, Gnozis Publ., 1994. 112 p.
- Razuvaev A. I. Pisateli-«derevenshchiki»: literatura i konservativnaya ideologiya 1970-kh godov [Writers-“derevenshchiki”: literature and the conservative ideology of the 1970s]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2015. — 612 p.
Дата поступления в редакцию: 30.07.2015