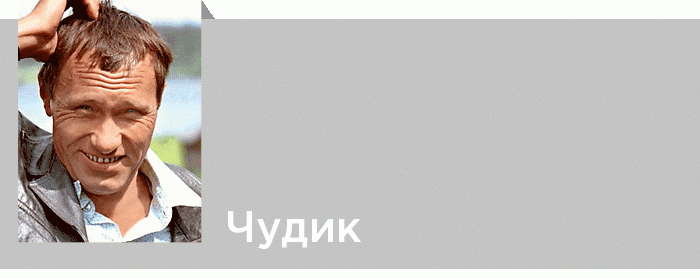Лирическое начало в романе Василия Шукшина «я пришел дать вам волю»

Т.Ю. Сушкова
Sushkova T.Y.
The lyrical beginning in Shukshin's novel «I've come to give you a will». The lyricism spiritualizing V. Shukshin's work integrally penetrates into a gist of an epic narration, introducing an individual originality. There are various forms of manifestation of the lyrical in the novel «I've come to give you a will». The author's position expressed at all levels of the narration is a significant part of poetics, and it characterizes a stylistic originality of the artist's prose.
К вопросу о наличии и значении лирического в творчестве В.М. Шукшина исследователи обращались неоднократно. В частности, Ю.М. Адрианов отмечает: «Большое место в шукшинском произведении занимает лирическое начало, которое в современном советском историческом романе свидетельствует - в самом общем виде - об усилении авторской субъективности и активности. Лирическое начало в шукшинском романе прежде всего воплощено в прямых авторских обращениях к Разину и повстанцам. Проявляется это начало и в форме лирического пейзажа с прямым выходом к созданию определенного настроения» [1]. По мнению Т.П. Дроновой, «лирический тон шукшинского письма в значительной мере обусловлен близостью автора и героя, не имеющей аналогов в исторической прозе» [2]. Но, несмотря на внимание ученых к данной теме, к сожалению, в литературоведческих трудах проблема лирического в художественном наследии писателя глубоко не изучена.
Лиризм, одухотворяющий произведение В. Шукшина, органично проникает в ткань эпического повествования, привнося индивидуальное своеобразие. Формы проявления лирического в романе «Я пришел дать вам волю» разнообразны: важными составляющими поэтики лирического континуума являются устойчивая символика, лейтмотивы, художественные образы, созданные писателем, несущие в себе ярко выраженную экспрессию, субъективную окрашенность, эмоциональную оценочность, интонационную поливариативность, насыщение повествования монологами, несобственно прямой речью, связь с народнопоэтическим творчеством. Лирическая стихия ярко проявляется и в изображении природы, в поэтически преображенном пейзаже, углубляющем психологическую характеристику героя, и в повышенном внимании к внутреннему миру человека.
Лиризм прозы прямо связан с субъективной сферой, с проникновением авторского присутствия в текст. Позиция писателя, выраженная на всех уровнях повествования, становится значительным звеном поэтики, характеризует стилевое своеобразие прозы художника. Авторское видение мира, реакция на происходящее, восприятие душой описываемых событий находит свое отражение в полифоническом звучании голосов героев, переносится в подтекст, пробиваясь наружу через многоговорящую символику, отдельные, открыто выраженные эмоционально-оценочные понятия, переходящие в философские размышления с интонацией загадочности по поводу сложности и окончательной непостижимости человеческой души, поведения человека, движения самой истории, но особую идейно-эмоциональную нагрузку заключает в себе лирическое начало.
Начинается повествование с чтения официальных документов. На протяжении всего романа документ действует как самостоятельный образ, помогающий выявить авторскую позицию к герою, происходящим событиям, истории. Отношение художника к силе государственного бюрократизма предваряет широкая картина бумажной системы, представленной через призму жизни символической «госпожи Бумаги». Для более колоритного изображения судьбоносной значимости и весомости бумажного круговорота писатель использует прием олицетворения, наделяя неодушевленный предмет человеческими качествами («Царская грамота заторопилась ...», «А к царю шли, ехали, плыли - бумаги. Рассказывали» [3]). Неприятие героем и народом «госпожи Бумаги» становится одним из способов реализации социального конфликта в художественной канве произведения. Желанной мечте Степана Разина о воле и справедливой жизни противостоит могучая порабощающая сила государственной власти, символичным воплощением которой и становится «госпожа Бумага».
В канве произведения сначала констатируется позиция самого Разина и казаков: «Тем временем подали Степану царские грамоты. Он, не разглядывая, изодрал их в клочья и побросал в воду. Бумаги он ненавидел люто. Казаки издавна не жаловали бумаги... бумаги московского Посольского приказа стали обретать силу, и казаки, особенно те кто сожалел о былых вольностях, возненавидели бумаги, чуяли в них одно недоброе» [3, с. 422]; затем народа: «На площадь... сносили всякого рода «дела», списки, выписи, грамоты... Еще один суд - над бумагами... Костер празднично запылал; и мерещилось в этом веселом огне - конец всякому бессовестному житью, всякому надругательству и чванству и - начало жизни иной, праведной и доброй. Как ждут, так и выдумывают... Видно, жила в крови этих людей, горела языческая искорка - то был, конечно, праздник: сожжение отвратительного, ненавистного, злого идола - бумаг. Люди радовались» [3, с. 583-584]. Очередной свершаемый суд предстает «вызывающе-дикой» пляской, усиливающей эмоциональное напряжение: «...звонницы ... названивали нечто небывалое веселое, шальное, громоздкое... охота было сделать несуразное, дерзкое - охота прыгать, орать... и драться... То был пляс и не пляс - что-то вызывающе-дикое, нагое: так выламываются из круга и плюют на все» [3, с. 583]. В «бесовском», безумном круге раскрепощается душевная стихия, «…танец суть экстатическая агония празднично-похмельного бытия разинской «воли».
Причем авторское присутствие к концу событий, когда действие достигает своего апогея, нарастает, становится более открытым и явным, переходит к высказыванию и рассуждению, в котором воплощается определенное отношение к миру, субъективный взгляд на действительность. От передачи личного восприятия героя и народа происходит переход на всеобщее объединение частного и государственного. В заключительной части отступления становятся эмоционально насыщеннее и голос автора не просто звучит в подтексте, а криком срывается со страниц. «Нет, не зря Степан Тимофеич так люто ненавидел бумаги: вот «заговорили» они, и угроза зримая уже собиралась на него. Там, на Волге, надо орать, рубить головы, брать города, проливать кровь... Здесь, в Москве, надо умело и вовремя поспешить с бумагами, - и поднимется сила, которая выйдет и согнет силу тех, на Волге… Государство к тому времени уже вовлекло человека в свой тяжелый, медленный, безысходный круг; бумага, как змея, обрела парализующую силу. Указы. Грамоты. Списки... О, как страшны они!.. Ничто так не страшно было на Руси, как госпожа Бумага. Одних она делала сильными, других - слабыми, беспомощными» [3, с. 604]. Использование различных литературных приемов способствует наполнению монологического авторского высказывания мощной экспрессией. (Олицетворение: «госпожа Бумага», бумаги «заговорили, кричали голосами, стонали, бормотали проклятья, молили пощады, восстали мстить»; сравнение: «бумага, как змея, обрела парализующую силу»; противопоставление: если «Там на Волге, надо орать, рубить головы, брать города, проливать кровь...», то «Здесь, в Москве, надо умело и вовремя поспешить с бумагами, - и поднимется сила, которая выйдет и согнет силу тех, на Волге...»; мощь затраченных колоссальных народных душевных и физических сил, необходимых для достижения желаемой свободы и справедливости, передается посредством нагнетания глаголов («...орать, рубить головы, брать города, проливать кровь.»).
Интонационные, смысловые срезы многочисленны, многоэтажны, объемна смысловая нагрузка открыто выраженных авторских суждений. Переплетение драматизма и иронии, мажорных и минорных интонаций создает особый эмоциональный накал. Стремясь обличить уродливые стороны социальной действительности, уничтожающих самое ценное - жизнь человека, автор использует наполненный иронии и сарказма едкий образ «госпожи Бумаги», творящей бесправие, управляющей судьбами простых людей, делая, их «слабыми и беспомощными». Писатель, сознавая бессилие человека перед несправедливостью государственной машины, восклицает слова, насквозь пропитанные надеждой и болью за судьбу своего народа, выражающие «полное «нутряное» слитие» автора и героя, их общую мечту о справедливости и человеческой воле: «Помоги тебе господи, Степан! Помоги тебе удача, искусство твое воинское. Приведи ты саблей своей острой обездоленных, забитых, многострадальных - к счастью, к воле. Дай им волю!» [3, с. 604].
Лирические отступления являются выражением авторской оценки происходящего, связаны «с особым нравственно-психологическим подходом писателя к истории». К слову, сам Шукшин был искренне честным и правдивым человеком, не понимал и не принимал такую форму человеческих отношений, как «купи-продай». Что подтверждают не только воспоминания его родственников, друзей, коллег, но и непосредственно само творчество писателя.
Эмоционально насыщенные авторские высказывания помимо придания произведению лирического ореола переводят повествование на более глубокий и значимый пласт философского осмысления действительности. Гневными обличениями прерывает автор очередное зачитывание государственных бумаг с проклятиями Степану Разину: «Господи, господи!.. Кого клянут именем твоим здесь, на земле! Грянь ты оттуда силой праведной, силой страшной - покарай лживых. Уйми их, грех и подлость творят. Зловоние исторгают на прекрасной земле твоей. И голос тут не подай, и руку не подыми за слабых и обездоленных: с проклятиями полезут!.. С бумагами... С именем твоим… Как, однако!.. Как величаво лгут и как поспешно душат всякое живое движение души, а всего- то - чтоб набить брюхо. Тьфу!.. Оно бы и хрюкай на здоровье, но ведь хотят еще, чтобы пятки чесали - ублажали. Вот невмоготу- то, господи! Вот с души-то воротит, вот тошно-то» [3, с. 665]. «Вселенской тоской» пропитан авторский плач о судьбе своего героя, народа, страны, не в силах изменить происходящее писатель взывает к Господу, надеясь, что творимое беззаконие «на прекрасной земле», созданной для счастливой свободной жизни каждой живой твари, будет свергнуто. Обращение к Богу является напоминанием о вечных, незыблемых истинах, открытых людям Христом, но попранных ради ублажения низменных желаний «есть- пить сладко надо». Сознание писателя не принимает одного скотского стремления насыщения и наживы, явное презрение к сильным мира сего, продавшим все самое святое, забывшим «слабых и обездоленных» и прикрывающимся именем Бога, прорывается наружу в каждой строчке. Но страшнее для жизненной философии художника не существование человека, уничтожившего в себе истинное, а стремление вопреки Божьим законам установить собственный порядок мироустройства «всего-то - чтоб набить брюхо».
Авторские отступления невелики по объему, но это не уменьшает значимости затронутых проблем, которые и сегодня, в наше, время уже в XXI в., к сожалению, не утратили своей актуальности, а наоборот приобрели еще более острое звучание. Ставя перед собой извечные «проклятые вопросы», Шукшин пропускает их через свою «душу
живу», изливая на страницы романа наплыв лирической стихии, «горестный тоскующий лиризм русской души».
Литература
- Андрианов Ю.М. // Жанрово-стилевые проблемы современной литературы: сб. науч. тр. Калинин, 1985. С. 86.
- Дронова Т.И. // Эволюция жанрово-композиционных форм: межвуз. тематич. сб. науч. тр. Калининград, 1987. С. 70.
- Шукшин В.М. Собр. соч.: в 3 т. М., 1984. Т. 1. С. 346, 610.