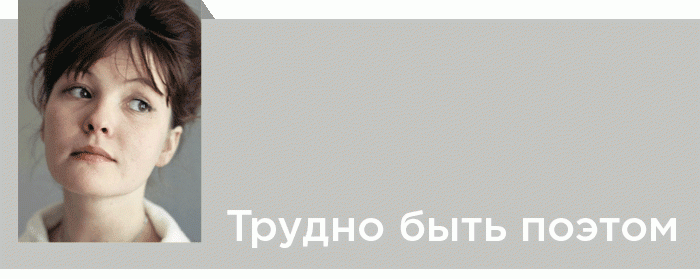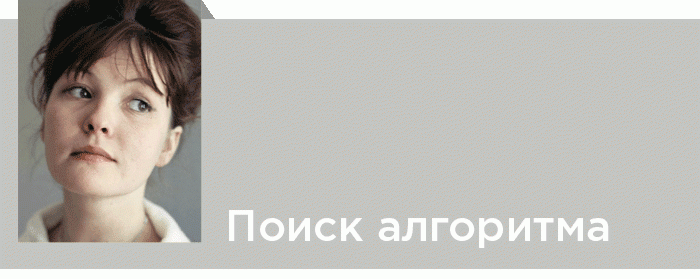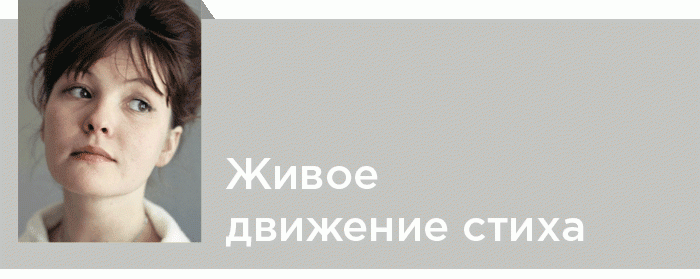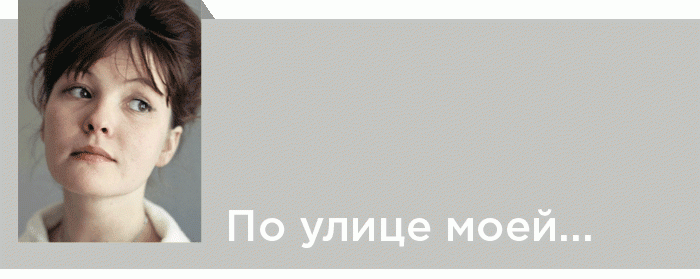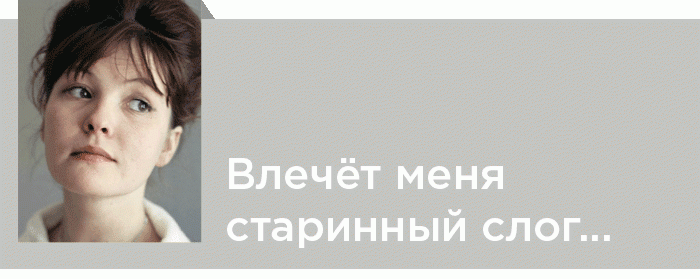«Больничный» текст в лирике Беллы Ахмадулиной 80-90-х гг.

М.С. Михайлова
Барнаул
Стихотворения Б. Ахмадулиной, в которых представлен концепт «болезни», можно условно разделить на две группы. Во-первых, это лирика 60-70-х гг., где «болезнь» осмысляется не как промежуточное состояние между жизнью и смертью, но как необходимое условие для творчества. Здесь актуализирован мотив игры: «болезнь» осмысляется как «игра», конечной целью которой является не излечение, но создание поэтического произведения. «Болезнь - для вольной выдумки предлог» (см. «Прощание с капельницей» из более позднего цикла «Глубокий обморок») [1] - именно эта поэтическая формула выявляет общую концепцию «болезни» в ахмадулинском творчестве.
Другая группа включает в себя стихотворения из циклов «Санкт- Петербург» (1984-85 гг.) и «Глубокий обморок» (1998 г.): «Бессмертьем душу обольщая...» (1984 г.), «Когда жалела я Бориса...» (1984 г.), «Елка в больничном коридоре» (1985 г.), «В Боткинской больнице», «Послесловие к I», «Прощание с капельницей (Помышление о Кимрах)», «Больничные шутки и развлечения», «Возвращение (после больницы)». Произведения этой группы образуют «'больничный» текст; в отличие от первой группы, у «болезни» появляется свое особое пространство. Таким образом, центральным концептом второй ьренны заявлена «больница».
Ключевым отличием стихотворений с «'больничным» текстом от более ранней лирики является появление категории смерти. Такая смена акцентов, на наш взгляд, связана с фактами жизни поэта: в 90-х годах ей пришлось пережить клиническую смерть [2]. Во время пребывания в больнице или вскоре после этого был написан цикл «Глубокий обморок». Итак, «болезненный» дискурс, включающий в себя семантический ряд «боль» - «болезнь» - «больница», реализуется в поэзии Ахмадулиной во всем ее творчестве, в ранней лирике - с доминированием концепта «болезни», в поздней - «больницы».
«Болезнь» у Ахмадулиной - это пограничное состояние между двумя мирами. В результате появляются и явные христианские отсылки, и рассуждения об умерших уже поэтах, как, например, в стихотворении «Бессмертьем душу обольщая...» из цикла «Санкт-Петербург» (1984 г.), посвященном памяти А. Блока. Мысли о судьбе поэта приходят к героине во время бессонницы в больнице, «белой, большой» петербургской ночью, видимой в больничном окне. Мотив больничного окна - аллюзия на стихотворение Б. Пастернака «В больнице». Хронотоп стихотворения «Бессмертьем душу обольщая...» своеобразен: «белая, большая» ночь в больничном окне, которое является медиатором между пространствами (одно из них реальное, другое - условное), внутреннее пространство героини, где и имеет место рассуждение о судьбе Блока и о судьбе поэта вообще.
Мотив больничного окна появляется и в стихотворении «Елка в больничном коридоре»:
В край окна моего ленинградская входит луна
И недолго стоит: много окон и много стояний (3, 186).
Здесь в окне видна луна, спутница и вдохновительница: «чело» всегда «слепо подчинено луне» {«Закрытие тетради»). Семантика «больничного» окна усложняется, пограничное положение окна определяют уже не два пространства, а три: 1) мир реальный, ощутимый, мир города - Петербурга- Ленинграда, 2) мир «горний», связанный с воскресением и творчеством; 3) мир «больничный» - пограничный. «Больничное» окно зависает между «нижним и «верхним» пространствами, составляя промежуточное звено между жизнью и смертью:
Жизнь со смертью - в соседях. Каталка
всегда не пуста -
лифт в ночи отскрипит равномерность ее упаданий
(3, 186).
«Белая» ночь в больничном окне «обольщает бессмертьем душу» - такова авторская концепция бессмертья как отсутствия темноты: больничные окна, которым ночью светло, и есть знаки того, что «белая ночь» сама по себе уже есть возможность бессмертия.
Белый цвет петербургской ночи в больничном окне впоследствии переносится и на саму «больницу»; «больница» в поэзии Ахмадулиной всегда связана с белым цветом, вероятно, - с бессмертием, с возможностью воскресения через творчество. Парадокс заключается в том, творчество бессмертно, а поэт смертен: «Все приживается на свете, //и лишь поэт уходит в срок» (3, 182).
Особая природа поэта, отличная от обычной, человеческой, проявляется в отношении боли и страдания: естественная человеческая реакция на боль - «слезы» - поэтом трансформируется в «стихотворение», которое в «минуту многотрудную», по дороге в больницу, в пограничном состоянии между «жизнью» и «смертью» у героини «в глазах стояло вместо слез». Таким стихотворением оказалось пастернаковское «Больница» и его финальная «строка про перстень и футляр» («Когда жалела я Бориса...»).
Кончаясь в больничной постели,
Я чувствую рук твоих жар.
Ты держишь меня, как изделъе,
И прячешь, как перстень в футляр. [4]
Последние строфы стихотворения Пастернака содержит обращение к Богу в последние минуты жизни. Душа человека, сам человек уподоблены «изделию» Бога, это его «перстень», хранимый в «футляре». У Пастернака присутствует игра слов, «футляр» двузначен: паронимически обыгрываются слова «хранить» - «хоронить», человек и сохраняется Богом в футляре, и хоронится в нем. Память ахмадулинской героини в «минуту многотрудную» любуется этой строкой уже как будто перед смертью, перед прощанием с жизнью-«алмазом». Ахмадулина трансформирует пастернаковский образ. «Алмаз» больше свойственен ее поэтике, так как соотносится с другими прозрачными кристаллическими субстанциями (стекло, лед), часто встречающимися в ей творчестве. Жизнь - не просто «перстень-изделие», но драгоценный прозрачный камень, поэтому прощание с жизнью оказывается преждевременным: «целительное» пространство «больницы» возвращает к жизни.
Сакральность больницы проявляется не только в способности исцелять, возвращается и способность «складывать слова». В литературной традиции распространено понимание поэта как посредника между людьми и некоей вые шей силой, будь то Бог (концепция поэта - «господней дудочки») или Муза [5].
В ахмадулинской концепции поэт не просто «подслушивает», прочитываем' знаки жизни и воплощает их в творчестве, устами поэта говорит сама
Жизнь стала складывать слова
О том, что во дворе - о радость! -
Два возлежат чугунных льва. (3, 184)
Появление образа «льва», в данном случае «двух львов», не случайно. Во-первых, оно маркирует «больницу» как часть пространства Петербурга-Ленинграда с его «белыми» ночами. Отметим: стихотворный цикл, названный «Санкт-Петербург», почти весь посвящен «больничной» теме, причем в заглавие взято историческое название города. Цикл вписывается в контекст «петербургского текста» с его традицией изображения «северной столицы» как «призрачного», «больного», причиняющего «боль» города: «Опять Дана глазам награда Ленинграда... //Когда сверкает шпиль, он причиняет боль» (3, 178). "Больничное" целебное пространство противопоставлено пространству «болезненного», «чахоточного» Петербурга. Игра со львами (одним из символов Петербурга) в больничном дворе имеет семантику приобщения к сакральному «больничному» пространству, принятие его и - ожидания чуда.
«Львиный» мотив появляется неоднократно в ахмадулинском творчестве, генезис «львиной» семантики поясняется автором в посвященном Марине Цветаевой выступлении в Литературном музее. Говоря о появление «льва» в стихотворении, посвященном Марине, она мотивирует это особым отношением Марины и Анастасии Цветаевых к двум животным - собаке и льву: «Так вот: собака - божество, перед которым надо падать ниц, но лев - ровня, которого можно потрепать по загривку, И этот лев, который так таинственно приснился однажды Марине Ивановне (я не нашла сегодня, когда искала, точного описания этого сна, но помню, что снился лев), и она так это попросила: подвинься, дескать, и он подвинулся - она прошла. Лев как символ чего-то чудного. Вот, например, тарелка, упоминаемая и Ариадной Сергеевной Эфрон, и самой Мариной Ивановной Цветаевой, - тарелка с изображением льва. (Мне, кстати, подарили такую. И там - лев)» [6]. Любопытно последнее замечание Ахмадулиной (в скобках) о подаренной тарелке: духовная связь Ахмадулиной с ее «учителями» - Ахматовой, Цветаевой - реализуется и на вещном уровне, она не только преемница «старинного русского слова», она и наследница вещей, принадлежащих ее кумирам. Так, Ахмадулина перенимает от Ахматовой понятие «наследства» [7]. Материальные «ценности» - и тарелка со львом, сближая ее с Мариной Цветаевой, и фотография Анны Ахматовой, также преподнесенная в дар, - находят свое поэтическое воплощение в стихах Ахмадулиной. «Больничный лев» (чугунная статуя во дворе больницы) предстает как символ чего-то чудного» и родного, - через этот образ происходит принятие «больницы», единение с ее пространством и ее обитателями, которые «все казались правы»: так «болезнь» актуализируется как особое сакральное состояние, в котором человек получает особые права. Пространство «больницы» - кровать, больничный двор и сад - также сакрально: в нем оживают львы и умирают люди.
«Больница» - это «обитель страданий» («Елка в больничном коридоре»), место «упадка плоти» и «грубо поврежденного духа» («Когда жалела я Бориса...»). Но одновременно - это место, в котором как нигде человек ощущает себя живым, надеясь на чудо «воскресения». Посещение родных происходи по субботам — накануне воскресения, этот «некрасивый праздник» встреча «больных» и «здоровых», неравных между собой людей, держит человека на земле так же, как и инстинктивная человеческая тяга к жизни: В алмазик бытия бесценный Вцепилась жадная душа (3, 185).
После «некрасивого праздника» субботы над «небесным краем» вырастает «единый пламень» двух зорь. Числовая «симметрия» этого стихотворения: две зари и два льва. Героиня вписывается каждую из этих «симметрии», она посередине - так вновь актуализируется «промежуточное» состояние «больной», состояние между «жизнью» и «смертью». Чудесное явление двух зорь в воскресное утро не объясняется напрямую как христианское «чудо», однако явно имеет христианские коннотации: соединяющийся, «единый пламень» двух зорь в небе напоминает очертания храмового купола.
В поздней поэзии Ахмадулиной ощущается тяготение к христиански концепции: человек - творение Бога, и все, что с ним происходит, тоже подвластно некой высшей силе. В данном стихотворении эта высшая сила не названа напрямую, она выявляется опосредованно - через цитацию строки Пастернака о «перстне и футляре», только по ней можно догадаться, чей «суровый окуляр» смотрит на игры жизни напоследок.
Эксплицитно христианские мотивы обозначены в стихотворении «Елка в больничном коридоре»: и как введение особого «рождественского» временного континуума, и как обращение к Божьей Матери в финальной строфе; «Матерь Божия! Смилуйся! Сына о том же проси. // В день рожденья его дай молиться, и плакать о каждом» (3, 187). Для героини Беллы Ахмадулиной период Нового года и Рождества сливается в единое сакральное время, время наивного ожидания чуда. Мотив елки часто встречается в ахмадулинских стихотворениях в контексте ее творчества и становится знаком непосредственного, детского (следовательно, и мифологического) мышления ее героини. «Елка» неизбежно связана с временным пограничным континуумом, это и Новый год, и Рождество. В стихотворении «Елка в больничном коридоре» появление елки действует на больных в «обители страданий» угнетающе: елка, символ светлого праздника, становится «причиной для слез».
«Больница» - замкнутое пространство, ограниченное не только стенами, но и душевным состоянием героини, ее телесной немощью. При таком положении вещей неудивительно появление большого количества реалий-медиаторов, делающих возможным не физическое, так духовное передвижение лирического объекта. Смена пространств представлена как материально-бытовая реальность: кроме окна, есть еще один медиатор - лифт, осуществляющий соединение верха и низа, жизни и смерти. Елка в стихотворении также выступает в роли своеобразного медиатора, так как соотносима с образом мирового древа, корни которого находятся в водах загробного мира мертвых, ствол проходит через землю, а вершина достигает небес. Во многих традициях на древе жизни изображаются звезды [8]. В ахмадулинском стихотворении вертикальность елки увенчана «звездой Вифлиема», которая напоминает о рождении «младенца с отметиной чудной во лбу». Рождественская елка связана также со средневековым образом Христа, распятого не на кресте, а на дереве. В таком прочтении образ Христа, принявшего на себя все грехи мира, объединяет собой древо жизни и древо познания (грехопадения) [9]. Здесь актуализирована проблема познания как приобщения к тайному, божественному знанию, что в христианской трактовке является первогрехом. Чтобы очиститься от греха, «излечиться», необходимо освободиться от знания - «впасть в простоту». Простой и с детства знакомый сюжет о Рождении Младенца необходим больным для поддержания жизни: «Этой плоти больной, изврежденной трудом и войной, //что нужней и отрадней столь просто описанной сцены!» (3, 187). Больные, подобно детям, беспомощны перед «болезнью», возвращающей им непосредственное, детское мышление, которое даже проезжающий мимо светящийся изнутри трамвай воспринимает, как волшебное чудо:
А как стали вставать, с неохотой глаза
Открывать, -
Вдоль метели пронесся трамвай, изнутри
Золотистый.
Все столпились у окон, как дети:
- Вот это трамвай!
Словно окунь, ушедший с крючка:
Весь пятнистый, огнистый (3, 187).
«Окно», «лифт» и «елка» осуществляют движение по вертикали, а «трамвай» - по горизонтали. Но значение его движения не столь велико: трамвай не принадлежит пространству «больницы», он служит напоминанием о чуде. Суть движения по вертикали и горизонтали заключается в изменении, преображении пространства, которое происходит во время христианского праздника Рождества - рождения Бога. Кроме того, в описании обновления мира на Рождество Христово прочитывается и мифологический подтекст: в греческой космогонии сотворение богов приравнивалось к сотворению мира.
Мифологическим «детским» мышлением отмечено и стихотворение «Больничные шутки и развлечения» (цикл «Глубокий обморок»). Эпиграфом к нему автор выбирает свои собственные строки, в которых актуализируется «детский» мотив: «смеха детского звезда // живет во мгле твоих трагедий» (1, 468). Эпиграф заявляет главный тезис «больничного» цикла: возвращение в детство, в «простоту» есть единственное спасение от физической и духовной смерти. «Больничное» мироощущение активизирует «детское», чистое восприятие мира, но вместе с тем раскрывает отличие «поэтического» непосредственного сознания настоящих «детей», не познавших соседства жизни и смерти:
Зачем дитя, корреспондент, малютка
С утра звонит: - Я нынче к вам приду, -
<... >
Но чужаку не след якшаться с бездной,
Где в пристальных соседях жизнь и смерть (1, 468).
Героиня соотносит себя со спасенным зайцем из традиционно воспринимаемой как «детская» поэмы Некрасова «Дед Мазай и зайцы». Благодарность «сердобольному другу Мазаю» относится ко всему тому детскому, что живо в душе. «Тайное», тяжелое знание жизни и смерти стимулирует тяготение к «простым утехам»:
Недельной смерти я сдала экзамен,
Престиж велит искать утех простых (1,470).
«Больничный» текст построен на игре пространствами; в стихотворении «Прощание с капельницей (Помышление о Кимрах)» (цикл «Глубокий обморок») это видно особенно отчетливо. Ограниченное пространство больницы. «Боткинского приюта», сакрализовано - это пространство «игры», уподобление «обители страданий» «обители» азарта - казино - имеет значение инициации: «болезнь» есть испытание для поэта, проверка его измышлений. У этого «азарта» есть и цена, проявляющаяся на физическом, телесном уровне: «мой выигрыш - трофей кровоподтеков». В сакральном пространстве вертикаль капельницы выступает как медиатор, осуществляющий связь с другими пространствами. В тексте появляется множество географических названий: Милан, Париж, курорт Баден-Баден, Таруса, Кимры, состоявшиеся и несостоявшиеся города в жизни героини. Движение по пространствам связано с вертикалью; капельница позволяет перенестись не только в «лечебное» пространств Баден-Бадена, города- курорта, но и, через соотнесение с Эйфелевой башней, Париж. Капельница - медиатор, медикаментозное действие ее содержимого, попадающего в кровь (это вещество - глюкоза), чуждо организму («Чу! Чем-то, чуждым организм запасся»), сама по себе капельница «дружественна» ее мысли:
Болезнь — Для вольных выдумок предлог.
Я с капельницей накрепко сдружилась.
Приму ее, когда она придет,
За существо, зародственную живость (1,465).
Капельница соотносима с антиномией жизнь/смерть. В семантическое ряду «капельница» - «капля» - «капель» выявляется семантика воскрешения через «весенний» признак - капель. Но через образ «плачущей» капельницы возможна и трактовка ее как «оплакивающей больную», прощающейся с нею перед расставанием. Актуализация женского начала в капельнице- «плакальщице» соотносима с рождественской елкой («Елка в больничном коридоре»), ассоциирующейся с древом жизни, которое в различных традициях также символизирует женское начало [10].
Вертикаль капельницы соотносится и с цветаевским пространством: «В Тарусе я дружила со столбом» (1, 465). Одушевление предмета-столба через наименование его («Давно воспет и назван «Мой Пачевский», 1, 465), перенимается и Ахмадулиной, героине которой капельница видится то «при усах,// то в белокурых локонах» (1, 465). Еще одна форма медиатора - сфера, которая значима не своей пространственной характеристикой, а ассоциативной соотнесенностью: апельсин своим теплом связан с «теплой» страной Италией. Языковая игра с наименованиями одного предмета (апельсин, цитрус, ротит) утверждает свободу мысли и чувства в замкнутом пространстве «'больницы»:
Больничная свобода велика:
Как захочу, смеюсь или печалюсь (1, 467).
В пространство «больницы» загадочным образом попадает и пространство маленького городка Кимры, замечательно то, что весь персонал, «все сиделки, сестры, санитарки», прибыли из Кимр. Автор погружает читателя в историю и географию городка, который, как и «больница», в сознании героини предстает местом жизни и смерти, «святым» некогда городом, где сегодня разрушен храм, а на месте кладбищенской церкви находятся места пошлых, «низких» человеческих развлечений:
Я позабыть хотела, что больна,
Но скорбь о Кимрах трудно в сердце прятать.
Кладбищенская церковь там была
И называлась «Всех скорбящихрадость».
В том месте танцплощадка и горпарк,
Ларек с гостинцем ядовитой смеси (1, 467).
Подмена пространства (кладбище / танцплощадка) пугает героиню, для которой провинциальное пространство неведомого старинного города Кимры становится «своим» внутренним пространством, «столицей сердца». Очевидно удвоение «центровой» семантики в определении Кимр как «столицы сердца»: столица - центр страны, и сердце - центр человеческого тела. «Исконное», привычное пространство милой ее сердцу старины Кимр соотносимо со ставшим родным пространством «больницы». «Больница» стимулирует внутреннюю жизнь героини. Вследствие этого, прощание с больницей, сестрами и капельницей печалит и пугает героиню:
Привыкнув жить внутри, а не вовне,
Страшусь изведать обитаний разность.
Я засыпаю. Сплю уже. Во сне
Ко мне нисходит «Всех скорбящихрадость...» (1, 468).
Онейрическое пространство, возникающее здесь, соединяется с жизнью души и сердца: Кимры с их кладбищем - «столица сердца». Если в стихотворении «Послесловие к I» сон - «маленькая смерть», то здесь онейросфера несет позитивные смыслы: сон как соединение с «духовным» пространством.
Как стихотворение «Больничные шутки и развлечения», так и другие стихотворения цикла «Глубокий обморок» (1998 г.), в котором мотив «болезнь» является одним из первостепенных, раскрывают авторскую концепцию «воскресения» и «исцеления» как возвращение к «простоте утех» и «стиха». Цикл представляет собой лирический дневник пребывания Ахмадулиной в больнице после клинической смерти - «глубокого обморока», в нем отчетливо ощущается сближение лирического субъекта и объекта. Этот цикл состоит из 16 стихотворений, 5 из которых непосредственно связаны с «больницей» и «болезнью»: «В Боткинской больнице», «Послесловие к /», «Прощание с капельницей (Помышление о Кимрах)», «Больничные шутки и развлечения», «Возвращение (после больницы)».
В первом стихотворении цикла - «В Боткинской больнице» - «излечение» происходит при помощи врачей, названных по имени - Боткина, ангела-хранителя больницы, и Солдатенкова - лечащего врача, имеющего почти божественный статус. «Угодья» «великосердого Солдатенкова» - не только стены больницы, но и какие-то загадочные «-иные» угодья, откуда он помог героине вернуться. Разворачивается дискурс «воскресения», героиня - «новичок-жилец» - приходит в себя после семи суток без сознания. «Семь Дней» - знаковое число, седьмой день недели - воскресение. В размышлении о смерти, «тайне тайн», погружение в которую запечатало уста героини запретом, который наложен «страшно молвить: Кем», есть и сомнение в своем знании этой тайны:
Как, впрочем, знать? В тех нетях, где была я,
На что семь суток извели врачи,
Нет никого. Там не было Булата.
Повелевает тайна тайн: молчи» (1,453).
В этой строфе очевиден автобиографический подтекст: в интервью корреспонденту интерактивной газеты «Настоящая литература. Женский род» Ахмадулина на вопрос об ощущениях, пережитых во время клинической смерти, ответила: «Нет, ничего у меня такого не было. Почти неделю врач меня спасали, а когда я пришла в себя, то ничего не соображала, ничего не помнила, и видимо, сильно обидела врачей, потому что, когда я очнулась, еще в полубессознании, моими первыми словами были: "Угодила-таки в подвалы КГБ. Потом я, конечно, долго извинялась»" [11]. Страх поэта перед подвалами КГБ - это знак эпохи, тем более что Ахмадулина принимала участие в акции протеста против травли Пастернака и была отчислена из Литературного института, позже же была одним из авторов полузапрещенного поэтического альманаха «Метрополь». В подмене пространства «больницы» хтоническим пространством «подвала» проявляется бессознательный страх перед преисподней. Однако в восприятии поэтом «больницы» чувствуется особое отношение к больничном миру как к сакральному пространству, «целительному» самому по себе: «больница» противопоставляется хтоническому «подвалу». В пространстве «больницы» происходят чудеса - оживают ««больничные» предметы: «грамотей-компьютер», аппарат, подключенный к мозгу и поддерживающий его работу (по-видимому, энцефалограф), воспринимается как живое существо:
Возглавье плоти, гость загадки вечной,
Живет вблизи, как нелюдим-сосед,
Многоученый, вежливый с невеждой,
В заочье глядя, словно мне во след (1, 453).
«Грамотей-компьютер» контролирует работу мозга - ума, - то есть пытается «затесаться в луны», принять на себя функции луны, которая ответственна за творческие порывы: «Луны наитья длились и терзали чело, // что слепо ей подчинено» («Закрытие тетради», 1, 473). В телесном облике для Ахмадулиной все творческое неизменно связано со лбом (челом) - с умом, разумом. Результат «отключки мозга», «глубокого обморока» - одичание, находящее выражение в затруднении поэтической речи, при котором уста заняты лишь пищей или зевотой, а лоб темен, «пустынен и угрюм». Необходимое условие творчества - «здоровый и стройный ум» - недостижимо, «разум» подверг «неодолимой порче» «сглаз ворожеи», и единственный выход для творческого начала - это смирение с состоянием «отключки мозга», приятие «ниспосланной» больничной кровати. «Больница», воспринимаемая как «целебный охранительный постой», «белый», как белый свет, с белостенной палатой и персоналом на «белых крыльях», - некая вариация рая. Авторская концепция «исцеления» сходна с христианской: чтобы жить, необходимо оживить в сердце «Дух смирения», в основе авторской концепции творчества - принцип «писать попроще».
В своем понимании творчества Ахмадулина явно идет вслед за Пушкиным, цикл пронизан пушкинскими аллюзиями («Дух смиренья в сердце оживи», «мороз и солнце - день чудесный» и т.д.), и уже первое стихотворение провозглашает пушкинские принципы поведения 30-х гг.: простоту и смирение. Приведенная в стихотворении «В Боткинской больнице» неполная цитата из письма Пушкина П. Вяземскому («...должна быть глуповата») в оригинале - звучит, как «...а поэзия, прости Господи, должна быть глуповата» [12]. Идея необходимости смирения и простоты в жизни и поэзии имеет продолжение в «Послесловии к I»; для героини, как для поэта, необходимо «детское», непосредственное восприятие жизни. «Больничная койка» подобна «детской кроватке», а «беспомощно простой» стих подобен «девочке», «девочке-санитарке», предельно, по мнению «книжной» Ахмадулиной, «простой» - не знающей пушкинской строки «Мороз и солнце - день чудесный».
Ахмадулина ставит в своем цикле вопрос о взаимоотношении сложности и простоты, литературы и жизни, и решает его в пользу «простоты жизни». Поэтическая истина, подсказанная Пушкиным, заключается в самой живой жизни, а не в «сложной» литературе. «Целебный охранительный постой» «больницы» вызывает в героине желание «безгрешной радости» - простоты стиха. Все, «добытое заумственным усильем, // надзору высших сил не угодит»: после пребывания на грани жизни и смерти невозможно возвращение к зауми, уйти от пушкинской простоты - значит впасть в ересь, в грех. В «болезненном» состоянии «отключки мозга» героиней осознается необходимость разделить «литературу» и «жизнь», где «чужая» пушкинская «простота» стиха является для героини Ахмадулиной недостижимым идеалом. Отказ от «своего» «заумного» творчества становится необходимым условием для продолжения дальнейшей жизни, в которой может быть только «чужая» поэзия, подобная пушкинской.
Строка «Мороз и солнце - день чудесный» создает в героине состояние праздника. Возвращение в будни после праздника соотносимо с омертвением: свежесть мороза превращается в холод, а солнце «смеркается в траур». Обе эти метаморфозы есть признаки не столько заката дня, сколько смены внутреннего состояния - «сердцебиенья и строки обрыв». «Безгрешные радости» пребывания в «целительном» покое «'больницы» не могут спасти от греха уныния, который сопровождается отказом от «мозга», от творчества:
В отлучке бывший - здесь он или там он,
Зачем он мне? (1,465)
И хотя героиня добровольно отказалась от «своей» «сложной» поэзии, прекращение творчества для поэта равноценно смерти. «Маленькой смертью» для героини становится сон, отнимающий у нее ночь - самое продуктивное поэта время. Героине, желающей «не спать в ночи», снотворное представляется ядом.
В стихотворениях цикла «Глубокий обморок» обыграны две ключевые фразы: «Болезнь — для вольных выдумок предлог» и «На воле жить - тяжелее и больней». Оппозиция больница/воля соотнесена с мотивом творчества. «Больница» связана с «отключкой мозга», с пустотой лба, т.е. с поэтическим бесплодием. Свойственный лирике первой группы стихотворений морбуального дискурса мотив горла/болезней горла (а также сопутствующий ему мотив творческой немоты) в этом позднем цикле не встречается ни разу. В соматической системе доминантой явно становится «сердце», которое отвечает за духовную жизнь, в пространстве «больницы» поэтическая миссия уходит на периферию, «болезнь» не только дарит свободу мысли, но и - главное - заставляет задуматься об истинных ценностях жизни, о сострадании и смирении. «Больница» излечивает тело и душу, но «отключает» мозг/лоб. Парадокс в том, что возвращение на «больную волю» происходит через преодоление привычки к «свободной больничной» жизни. После прощания с «белеющей больницей», где было так приятно жить под лилейной заботой медицины, вхождение в прежнюю жизнь происходит трудно - героиня ощущает на себе бунт вещей, не желающих принимать хозяйку («Возвращение после больницы»). Пространство квартиры превращается в «чужеродный континент», где «все вещи существуют самовольно». «Вестниками» из прежней, «больничной», жизни «сердца» являются синицы, потянувшиеся к окну; «птичий» код неизменно связывается с жизнью души, кроме того, у самой Ахмадулиной особое, трепетное отношение к птицам и к животным вообще, об этом она упоминает в своем интервью [13]. Желание «не дать окоченеть» сердечкам синиц, кормление их «подсолнечным кормом» - это попытка согреть холод «чуждой» квартиры «подсолнечным» теплом сердца.
Возвращение из «больницы» - это очередная инициация, очередное рождение, после которого героиня ощущает себя «младенцем, что не освоил новость леденца». Леденец - опосредованная отсылка к речи, возникающий мотив «немоты души» предстает именно как неспособность к творческому крещению, неспособность складывать слова, позабытые за время пребывания в «больнице». «Страдания и сомнения» мозга, претерпевающего тяжкое возвращение к прежнему, привычному «греху» - «опасной гордыни пера» - сменит позже «празднеством» творчества в последующих стихотворениях цикла «Закрытие тетради», «Невольные прегрешения в ночь на 25 декабря» и др. «Больничное» самоощущение знаменовалось осознанием необходимости пушкинской «простоты» стиха и жизни, смирением перед высшими силами - не только Богом, но и богоподобными «целителями» - Боткиным и Солдатенковым, перед властью «медицинских» предметов - энцефалографа и капельницы.
После пребывания в «больнице» героиней еще отчетливей, чем прежде понимается греховность творческой гордыни, но справиться со своей поэтической природой она не в силах. Для самооправдания героини Ахмадулина применяет маленькую хитрость и лукаво переносит гордыню поэта на гордыню пера, перекладывая вину поэта на его инструмент:
Перо - самоуправно, самовластно,
Как страсть его к бумаге превозмочь? (1, 472).
Итак, «больничный» текст у Ахмадулиной являет собой дискурс состояния между «жизнью» и «смертью», существующих в дихотомии. «Больница» как особое сакральное пространство активизирует «мифологическое» (детское) мышление лирического субъекта/объекта, которым осознается приоритет «простоты жизни» перед «литературой». Соматический уровень «болезни» представлен, в основном, «сердцем», отвечающим за духовную жизнь героини, «творческая» же ее ипостась уходит на периферию, т.к поэтическая функция героини редуцирована в связи с «отключкой мозга» - главного «творящего» центра. Семантической доминантой цикла становится христианское смирение перед «высшими силами» и приятие своего состояния как время искупления «грехов» за «поэтическую гордыню».
Примечания
- Стихотворения Б. Ахмадулиной цитируются по: Ахмадулина Б. Влечет меня старинный слог. М., 2001. Далее номер страницы указывается в круглых скобках сразу после цитаты: первая цифра означает условную нумерацию цитируемого издания, вторая – номер страницы.
- Цитируется по: Пикунова Е. Интервью с Беллой Ахмадулиной.
- Ахмадулина Б. Стихотворения. М., 2001. Принцип цитирования обозначен в сноске 1.71
- Пастернак Б. Сочинения: В 2 т. Т. 1. Тула, 1993. С. 320.
- Античная традиция, продолженная многими поэтами, например, Ахматовой: («Ты ль Данту диктовала // Страницы «Ада»?) и т.д. В стихотворении «Поэт» из цикла «Тайны ремесла» Ахматова изображает поэта беспечным «подслушивателем» музыки: Подумаешь, тоже работа, // Беспечное это житье: // Подслушать у музыки что-то // И выдать шутя за свое.
Цитируется по: Ахматова А. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М, 1986. С. 191. - Ахмадулина Б. О Марине Цветаевой //Ахмадулина Б. Влечет меня старинный слог. М., 2001.с. 415.
- В стихотворении «Наследница», эпиграфом к которому является пушкинская строка, Ахматовой заявлена идея о духовном и поэтическом наследовании через соприкосновение с вещным, со сквозными галереями дворца, с липами дивной красоты и т.д.
- Тресидер Д. Словарь символов. М., 1999. С. 75-77.
- Тресидер Д. Указ. соч. С. 76.
- Там же. С. 76.
- Пикунова Е. Интервью с Беллой Ахмадулиной.
- Пушкин А.С. Собр. соч.: в 10 т. Т. 10. М., 1958. С. 207.
- Пикунова Е. Интервью с Беллой Ахмадулиной.