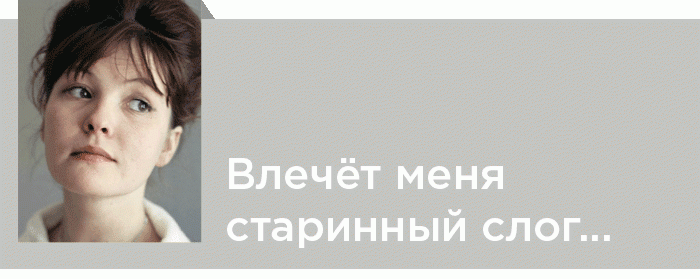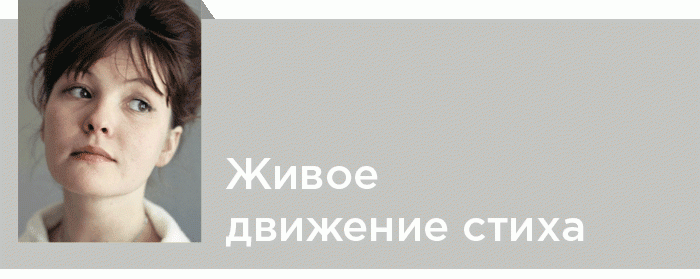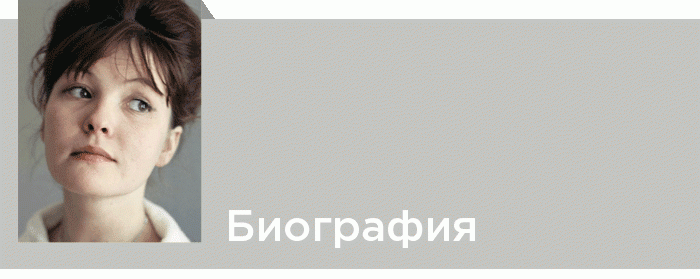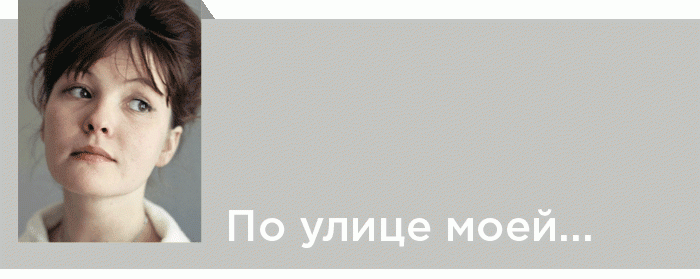Поиск алгоритма (Заметки о поэзии Беллы Ахмадулиной)
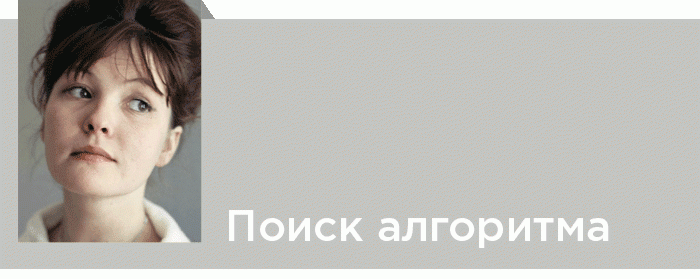
Рафаэль Мустафин
Кодированный оригинал-макет издания подготовлен на электронном печатно-кодирующем а корректирующем устройстве «Север»...
Эти странные и, признаюсь, не до конца понятные мне слова набраны мельчайшим шрифтом в выходных данных книги Беллы Ахмадулиной «Свеча» (М. Изд-во «Советская Россия». 1972). Они-то и натолкнули на мысль: найти и составить алгоритм поэзии Ахмадулиной. Правда, для этого придется разложить ее дар по полочкам, разъять тело поэзии скальпелем анализа. Но как без алгебры поверить гармонию?!
«...СТАРЫЙ ГЛАГОЛ В СОВРЕМЕННОЙ ОБЛОЖКЕ» Словарь
Самая приметная, сразу бросающаяся в глаза особенность поэзии Ахмадулиной, та, которую отмечали почти все, писавшие о ней, — тяга к архаизмам, к старой лексике.
...Прежде было — страшусь и спешу: есмь сегодня, а буду ли снова?
...Благоволите, сестра и сестра, дочери Елизавета и Анна, не шелохнуться!..
...Не расставаться давайте, сквозь слезы смотреть и нижайше дивиться друг другу.
Она предпочитает говорить не «лоб», а «чело», не «лодка», а «челн», не «друзья», а «други», не «восемнадцать», а «осьмнадцать». На столе ее, конечно же, не банальная электрическая лампа, но старомодная восковая свеча.
При этом Ахмадулина употребляет не архаизмы вообще, не просто старую лексику, а обороты и выражения, если можно так выразиться, облагороженные литературной традицией, прежде всего гением Пушкина. Это не производит впечатления чего-то натужного, искусственного, чужеродного. Поэзия ее выросла на этой питательной среде, вскормлена ею, поэтому даже возникающие то и дело реминисценции, а то и буквальное цитирование (даже слово в слово, без кавычек: «Друзья мои, прекрасен наш союз!») кажутся вполне оправданными и естественными. Влечение к лексике пушкинской поры настолько сильно, что, если б не редакторы и корректоры, Ахмадулина, кажется, придерживалась бы и прежних норм правописания. «Есть тайна у меня от чудного цветенья, здесь было б чуднАГО — уместней написать...»
Стилизация ли это? Бывают случаи, когда поэт действительно использует прием для создания определенного колорита и временной дистанции. Так, в поэме «Ромео и Джульетта» архаичность лексики обусловлена самим материалом. Но в подавляющем большинстве случаев она свободно и непринужденно вплетается в поэтическую ткань независимо от темы, материала и времени, о котором идет речь. Источник ее, очевидно, следует искать не в словаре, а в сердце поэта. Явные или скрытые обращения к Пушкину можно встретить едва ли не на каждой странице книг Ахмадулиной. Пойду спущусь к Оке для первого поклона.
Любовь души моей, вдруг твой ослушник — здесь и смеет говорить: нет воли, нет покоя, а счастье — точно есть. Это оно и есть.
Не нужно особой эрудиции, чтобы увидеть здесь перифраз знаменитых пушкинских строк. Даже с неизбежностью смерти она готова примириться с помощью такого силлогизма:
Еще спросить возможно: Пушкин милый, зачем непостижимость пустоты ужасною воображать могилой?
Не лучше ль думать: это там, где Ты.
Белла Ахмадулина обращается к Пушкину на «ты», но это «Ты» с большой буквы.
При той, я бы сказал, болезненной чуткости к слову, которой отличается ее поэзия, обращение к лексике пушкинской поры обретает значение, далеко выходящее за пределы просто стилистического приема. В этом обращении мне видится глубокая внутренняя тяга к пушкинской гармонии сердца и разума, внутреннего мира человека и природы, формы и содержания. Это тяга к тем устойчивым состояниям духа, которые связаны в нашем сознании с пушкинским гением.
Ахмадулина признается: «Сама по себе я немногого стою. Я старый глагол в современной обложке».
Старый глагол в современной обложке! Вот он, один из искомых существенных элементов алгоритма словаря Ахмадулиной! Это явление качественного порядка, составляющее органическое свойство ее таланта.
Однако при несомненном влиянии языка русской классики стих Ахмадулиной остается оригинальным и современным. Пушкинские слова и обороты не «списаны», они как бы «вплавлены» в структуру хотя и не разговорного, не бытового, но тем не менее живого литературного языка второй половины нашего века. Архаизмы мирно уживаются с архисовременными магнитофонами, светофорами, мотороллерами, автоматами для газированной воды, пишущими машинками, стетоскопами и так далее. В общем ряду приподнятого слога самые обиходные обороты (вроде привычной формулы вежливости «будьте добры») звучат совсем по-новому и как бы обретают свой изначальный, давно утраченный смысл:
О дом чужой! О милый дом!
Прощай! Прошу тебя о малом:
не будь так добр. Не будь так добр.
Не утешай меня обманом.
Создается своеобразный и необычный сплав. Архаика придает языку поэта эффект приподнятости над будничным, бытовым, обыденным. Современные же слова и обороты лишний раз напоминают о том, что речь идет о внутреннем мире человека нашего времени. Сплав этот оказывается способным выразить душевную драму поэта, его философию, вместить новое лирическое содержание.
«КАК ТЯЖКО СЛОВО...» Поэтический синтаксис
В едкой, аналитически острой и, на мой взгляд, во многом несправедливой статье «Причина для стихосложения» («Литературная газета» от 28 января 1976 года) есть, однако, справедливые наблюдения. Е. Ермилова отмечала, что поэтической манере Ахмадулиной свойственна определенность и завершенность, повторяемость четких примет. Самой приметной и «отработанной» чертой поэзии Ахмадулиной Е. Ермилова называла синтаксис. При этом она имела в виду синтаксическую структуру стиха, синтаксис, понимаемый как грамматическое выражение интонации.
В самом деле, строение фраз, порядок слов, инверсии, пристрастие к своим, четко индивидуализированным структурам в поэзии Ахмадулиной настолько определенны, что любая ее строка, даже взятая в отдельности, сразу выдает авторство. Не только оригинальные стихи, но и переводы в подавляющем большинстве случаев сохраняют свойственную ее голосу окраску, ее обертоны. Это и переносы фраз из строка в строку, что придает дыханию стиха прерывистость, взволнованность. И разъясняющие повторы, как бы нагнетающие напряжение и заставляющие нас ждать чего-то необычного. И прихотливые изгибы образной мысли с неожиданными переходами от одной причудливой метафоры к другой, придающие поэтической ткани некоторую витиеватость. И частые восклицания, обращения к давно исчезнувшим людям, предметам, явлениям, что создает особую экспрессию, проникновенность и доверительность интонации.
Для стиля Ахмадулиной характерна намеренная усложненность, пропуски каких-то звеньев, то, что в живой речи подразумевается само собой, а в письменной создает эффект взволнованности, своего рода «захлеба»:
Люблю, Марина, что тебя, как всех, что, как меня, — озябшею гортанью
не говорю: тебя – как свет! как снег! — усильем шеи, будто лед глотаю, стараюсь вымолвить: тебя, как всех, учили музыке.
Не нужно особой проницательности, чтобы разглядеть за этими строками тень той, кому они посвящены. Да, в той же мере, в какой словарь Ахмадулиной навеян Пушкиным, синтаксические структуры ее стиха отмечены влиянием цветаевских. Так в поэзии Цветаевой часто встречается нагнетание развернутых определений, далеко отнесенных от завершающей части фразы:
Моим стихам, написанным так рано.
Что и не знала я, что я — поэт,
Сорвавшимся, как брызги из фонтана.
Как искры из ракет.
Ворвавшимся, как маленькие черти,
В святилище, где сон и фимиам,
Моим стихам о юности и смерти — Нечитанным стихам! —
Моим стихам, как драгоценным винам, Настанет свой черед.
От строки к строке напряжение нагнетается и разрешается только в самом конце — как вздох облегчения. А вот та же конструкция в стихе Ахмадулиной:
Мне — пляшущей под мцхетскою луной, мне — плачущей любою мышцей в теле, мне — ставшей тенью, слабою длиной, не умещенной в храм Свети-Цховели, мне — обнаженной ниткой серебра, продернутой в твою иглу, Тбилиси, мне — жившей под звездою, до утра, озябшей до крови в твоей теплице о господи, как мне хотелось спать в глубокой, словно колыбель, постели.
Свойственная речи Ахмадулиной «неправильность» (а на самом деле предельная отточенность), постоянные перебросы неоконченной фразы из строки в строку, тяготение к резким и контрастным сопоставлениям во многом навеяны Цветаевой. (Сравните хотя бы стихи «Вчера еще в глаза глядел...» Цветаевой и «Я думала, что ты мой враг» Ахмадулиной)... Сжатость, афористичность поэтической речи Ахмадулиной также восходит к Цветаевой: «Любовь к любимому есть нежность ко всем вблизи и вдалеке», «Как все, хотела, и поила грудью, хотела — медом, а вспоила — ядом». Не случайно, как уже было замечено кем-то из критиков, ее емкие, экспрессивно окрашенные строки так охотно разбираются на цитаты и заголовки: «привычка ставить слово после слова», «капроновые два крыла», «любви и печали порыв центробежный», «не зря слова поэтов осеняют», «причина для стихосложения» и так далее, разбираются даже теми, кто пишет о ней в неодобрительном духе.
Влияние Цветаевой не ограничивается, разумеется, одним лишь синтаксисом. В поэзии Ахмадулиной есть стремление быть «противу всех», беречь пуще глаза свою индивидуальность и постоянно оставаться «самой по себе». Думается, именно с цветаевскими мотивами во многом созвучна и тема внутреннего одиночества поэта, духовного «сиротства». В цветаевской интерпретации употребляет Ахмадулина и понятия-образы: «лоб», как вместилище высшей, богом данной мудрости (и почти никогда — «голова», «разум»); «горло», «гортань» как орган пения, вольного самовыражения в отличие от «языка» как «органа» не поэзии, а болтливой «литературы»; «ремесло» или чаще «святое ремесло» в отличие от высокопарного и давно скомпрометированного «творчества» (вспомним хотя бы едкое ахмадулинское «Дома творчества дикую кличку») и целый ряд других. Отсюда же, как мне думается, идет взгляд на поэтическое творчество как на нечто не подвластное рассудку и воле и на гениальность как на «высшую степень подверженности наитию» (Цветаева). Цветаевские нужда, гордыня, ненависть к «бархатной сытости», всяческой пошлости и духовной скудости — излюбленные мотивы творчества Ахмадулиной. От Цветаевой же идет, как мне кажется, и сближение поэзии со стихией и даже сам мотив послушных поэту «подручных стихий».
В структуре поэтической речи Ахмадулиной ощутимы и другие влияния. В частности, интонации Анны Ахматовой, ее излюбленные обороты речи. Вспомните хотя бы известные строки Ахматовой «Многое еще, наверно, хочет быть воспетым голосом моим» и сравните с перифразом у Ахмадулиной: «Его душа желает быть воспета, я непременно голосом моим». В иных случаях Ахмадулина не скрывает своего восхищения ахматовскими строками и сознательно вводит их в стих («Строка»), в других ахматовские обороты всплывают, видимо, неосознанно.
Можно заметить в поэтике Ахмадулиной и влияние О. Мандельштама, Б. Пастернака. Оно проявляется не столько в интонационном рисунке, сколько в особенностях образного мышления, характере метафор, изысканно усложненных и прозрачных одновременно. Все эти воздействия и «первоисточники» ахмадулинского стиха также необходимо учесть при составлении алгоритма.
Однако ни один из перечисленных выше «ключей» не может стать универсальной «отмычкой». Поэтический синтаксис Ахмадулиной определяется частотой ее собственного пульса, биением ее сердца. Стих ее органично и естественно «осваивает» чужие влияния, подчиняя их собственной стихии и делая своими, кровными. Именно естественность живого дыхания и определяет своеобразие стилистики Ахмадулиной, так резко выделяющее ее среди других поэтов. Достаточно, скажем, услышать всего четыре строчки, вырванные из контекста, пусть даже незнакомые доселе, как сразу, что называется, с закрытыми глазами можно определить авторство.
СЕРЕБРЯНАЯ ФЛЕЙТА Ритмика
Метрика стиха Ахмадулиной не отличается разнообразием. Она пользуется почти исключительно четырех- и пятистопным ямбом, изредка дактилем. Так что запрограммировать стиховой размер не так уж сложно. Но при этом придется ввести в машину и тот особый «распев», «неразгаданную мелодичность» (Т. Кузовлева), которые так четко и однозначно выделяют стихи Ахмадулиной среди других.
Если в отношении словаря и синтаксиса можно было провести довольно убедительные аналогии, то в отношении мелодики сделать это затруднительно. Конечно, можно вспомнить музыкальность Блока, напевность Северянина, звуковую игру Бальмонта, но сходство в любом случае останется чисто внешним, глубокого внутреннего родства обнаружить не удастся.
Евг. Евтушенко в одной из своих статей сравнил поэзию Ахмадулиной с тонкой серебряной флейтой, от которой нельзя требовать громкости барабанного боя или басовитости боевой трубы, но которой тем не менее доступна «симфоническая тема ответственности». Музыкальную природу поэзии Ахмадулиной отмечали почти все, писавшие о ее творчестве.
Подчиняясь стихии ритма, даже пресловутая «велеречивость» и архаичность слога Ахмадулиной обретает особый смысл, убеждая музыкой звучания, завораживая гармоничностью и своеобразным распевом. Настраивая ЭВМ «под Ахмадулину», нам придется наделить ее «удивительным слухом» (Евг. Евтушенко). Ведь ей придется подбирать свежие, глубокие, по-ахмадулински звучные рифмы, чувствовать и тонко обыгрывать внутренние созвучия, допускать порою сбои ритма, те милые неправильности, которые придают особое очарование:
Эта японская порода ей так расставила зрачки, что даже страшно у порога — как их раздумья глубоки.
В этом стихотворении (как, впрочем, и в других стихах Ахмадулиной) содержательна уже сама мелодия — грустно-раздумчивая, умудренно-созерцательная, с глубоко запрятанной болью. Обращают на себя внимание и рифмы — отточенные, может быть, чуточку изысканные, типично ахмадулинские рифмы. В слове эта ударение не соответствует размеру. Происходит сбой ритма, заставляющий проглатывать, притушевывать служебное слово, чтобы с тем большей силой выделить следующие за ним ударные понятия.
Иной раз при чтении ее стихов возникает ощущение некоторой монотонности. Однажды счастливо найденный мелодический рисунок может затем всплыть в самых разных стихах. Но при всем том это ее мелодия, отмеченная неповторимыми модуляциями собственного поэтического голоса.
Звукопись Ахмадулиной, как правило, не «кричит», не режет слух, но тем не менее всегда присутствует как бы подспудно, имея большую смысловую и художественную нагрузку: «Я не из гордости — из горести так прямо голову держу». Или вслушайтесь в строчки, посвященные Анне Ахматовой:
Да, как колокол, грузный, седой, с вещим слухом, окликнутым зовом: то ли голосом чьим-то, то ль звоном, излученным звездой и звездой.
На четыре строки — восемнадцать «о», подчеркнутых и усиленных ударениями. Возникает ощущение мерного колокольного звона, причем басовитый гул больших колоколов как бы завершается позваниванием мелких... Ахмадулина тяготеет к кольцевой организации строфы и глубоким корневым рифмам, отмеченным смелостью и безупречным вкусом:
Я завидую ей — молодой и худой, как рабы на галере: горячей, чем рабыни в гареме, возжигала зрачок золотой...
Рифмы второй и третьей строки настолько глубоки и неожиданны, что опоясывающие рифмы («молодой» — «золотой») приходится даже несколько «притушить», иначе бы они отвлекали внимание и нарушали общую гармонию.
Этому «монотонному» стиху доступны самые разнообразные оттенки: лукавство, озорство, веселая и бесшабашная удаль.
И еще одна особенность, которая нагляднее всего выступает в авторском исполнении: стихи Ахмадулиной, как правило, начинаются на звеняще высокой ноте. Кажется, что голос ее вот-вот сорвется. Но нет, у нее хватает дыхания довести мелодию до конца, не снижая накала и напряжения страсти.
«НА ПЛЕЧИ НАКИНУВ СМЕРТЬ ЗВЕРЕЙ...»
Давно замечено, что в поэзии Ахмадулиной описываемый предмет или явление, как правило, не называются прямо, а подаются иносказательно, через связи с другими.
Так, Ахмадулина пишет не «любила таких-то поэтов», а «имена их любовью твоей были сосланы в даль обожанья». Автор у нее не просто сидит за столом, а «хищно и неопытно» владеет «углом стола и лампой на столе». Петух не кричит, не поет или кукарекает банально, а на каторге таинственного дела о вечности радеет. Лирическая героиня гуляет по саду, не «нюхая цветы» и «надев меха», а «вдыхая жизнь соцветий и на плечи накинув смерть зверей».
Поэтическая речь всегда представляет собой иносказание. Любой троп — иносказание. Но в стихотворной ткани Ахмадулиной эти иносказания предельно сгущены, сконцентрированы. Если, скажем, в речи Пушкина троп прозрачен и не требует усилий для восприятия («деревья в зимнем серебре»), то иносказания Ахмадулиной скорее сближаются с метафоричностью народных загадок. Но если в загадке, как правило, упор делается на внешнее сходство или различие, то в ее стихах связи предметов более завуалированы и, скорее, функциональны. Кроме того, в них всегда есть авторское эмоциональное начало.
Некоторые критики, верно отмечая эту особенность, в то же время оценивают ее только со знаком минус. Стиль «замедляет, тормозит движение к сути предмета... делая неточность, приблизительность поэтической манерой», — пишет, например, та же Е. Ермилова. Если рассматривать строчки Беллы Ахмадулиной изолированно, отрешившись от их обаяния или же не поддавшись ему, так действительно может показаться. Если же войти в мир ее поэзии, принять ее законы и включиться в предложенную игру фантазии, все выглядит иначе. Дело в том, что эта замедленность, меафорическая окольность — не издержки стиля, а его суть, сердцевина.
О наступлении осени, например, сказано так: «Пришла пора высокородным осам навязываться кухням в приживалки». Не сразу сообразишь, что речь идет о поре созревания плодов, когда в кухнях хозяйки варят варенье, а осы летят на его запах. Но это лишь один и далеко не главный план ахмадулинского образа. Эпитет «высокородный» — не просто намек на тонкую, «аристократическую» талию. Автор — в подтексте — проводит свою излюбленную мысль о величии природы, выражает свое неодобрение: благородные создания природы вместо того, чтобы собирать нектар с полевых цветов, кормятся по кухням и верандам. И все это вскользь, как бы мимоходом, с очаровательной небрежностью...
Конечно, любая метафора в известном смысле загадка. Но Ахмадулиной свойственно опускать промежуточные звенья, оставляя простор воображению читателя. Это-то и создает «некоторую причудливость», «прихотливость», «нечто игрушечное», «карнавальное», о чем уже не раз писала критика. Ахмадулина не скрывает условность, а подчеркивает. Не старается выдать описываемое непременно за «истинную правду», а зачастую открыто говорит, что это «ложь», «сказка», выдумка. И даже самые обыденные ситуации (зашла в магазин, пришла в гости, смотрит в темный сад) приобретают под ее пером какую-то сказочность, нереальность. Каждый день она словно бы разыгрывает перед нами маленький спектакль, создавая «стихотворения чудный театр».
Одни видят в этом манерность, пустоту, прикрытую словами, «бумажную поэтику». Другие столь же горячо и безоговорочно поддерживают ее искания. Так, П. Антокольский, отмечая новаторский характер стиля Беллы Ахмадулиной, писал в связи с поэмой «Моя родословная»: «Воображение получило новое топливо, изобретено новое горючее, а то и взрывчатая смесь».
«КТО ЗНАЛ МЕНЯ, ТОТ ЗНАЕТ...» Поэтический характер
Каким вырисовывается характер лирической героини поэзии Беллы Ахмадулиной?
Я не согласен с теми, кто видит лишь женскую слабость, каприз, причуду, инфантильность; присоединяюсь к мнению тех, кто ценит в ее поэзии натуру здоровую, цельную, ум «по-мужски проницательный» (П. Антокольский). Ее стихи можно назвать интеллектуальными, но ни в коем случае — головными, придуманными. Ахмадулина в поэзии целиком доверяется интуиции, сознательно придерживаясь принципа: «Но может, чем умней, тем бесполезней стих».
Темперамент лирической героини — скорее элегический, но характер стойкий и мужественный, склонный к драматическому восприятию жизни. Ей не чужды и насмешка (чаще над собой), и своеволие, и бунтарство.
У нее почти нет отвлеченностей и дешевых условностей. Детали всегда конкретны, чувства и эмоции определенно выражены. Лирическая героиня Ахмадулиной ни в малой степени не склонна поучать других, она тяготеет к лирической исповеди, поражающей своей обнаженностью, даже уязвимостью. В «потоке» самовыражения лирической героини нередко угадывается внутренний жест («так скучно локтям опять ушибаться об угол сиротства»).
Что еще? Можно отметить грациозную беспечность, детскую непосредственность восприятия мира, порою проказливость. Многие писавшие о поэзии Ахмадулиной отмечали, что применительно к ней не подходит дряблое слово «поэтесса». В то же время некоторые из критиков видели главную особенность ее поэтического голоса именно в женственности.
На мой взгляд, женственность, безусловно, свойственна поэтическому характеру Ахмадулиной, но это женственность особого рода. Она совершенно лишена сентиментальной слезливости, расслабленности. Проявляется она прежде всего в обаянии, пленяющем даже самые рациональные натуры, в артистизме и изяществе ее слога. В то же время склад ее ума скорее мужской — проницательный и трезвый.
У Ахмадулиной нет любовной лирики в общепринятом значении слова. Чаще всего она передает чувство любви не к конкретному человеку, а к людям вообще, к окружающему миру, друзьям, деревьям, собакам, зиме и так далее. Даже в ее взгляде на женщин, в том, как она их воспевает и обожествляет, чувствуется нечто мужское:
Кто знал меня, тот знает, кто нимало не знал — поверит, что я жизнь мою всю напролет, навытяжку стояла пред женщиной, да и теперь стою.
Характерна ее обмолвка в этом же стихотворении — «на каторге чужой любви старея». Да чужая любовь для героини зачастую важнее и значительней собственной.
Противоречия и издержки стиля Ахмадулиной вытекают из противоречивости ее поэтического характера. Здесь присутствуют и уживаются пронзительная искренность и «легкий привкус нарочитости» (Б. Сарнов), подлинная боль и оттенок литературной изощренности, зрелость размышлений и искусственная приподнятость слога, повышенная требовательность к себе и витиеватость, даже выспренность. Их причудливое сочетание, взаимопереплетение, неожиданный выход на передний план то одного, то другого и составляет в своей совокупности поэтический характер Ахмадулиной.
«Я НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ И СЛЕПА...» Пейзаж
У Ахмадулиной почти нет стихов, «описывающих» те или иные картины и явления природы. Природа для нее — не просто окружающая среда, а нечто самоценное, живущее независимой от человека жизнью и обладающее высшей мудростью:
...Я ничего не знаю и слепа.
А божий день — всезнающ и всевидящ.
Нельзя привыкнуть и нельзя понять. Жизнь — знает нас, а мы ее — не знаем. Ее надзором, в занебесном «над» исток берущим, всяк насквозь пронзаем.
Природа в ее стихах — как самостоятельное действующее лицо, требующее должного уважения и не терпящее поверхностно-снисходительного отношения. «Несдобровать тому, кто был развязен с ним», — она избегает стертого и ставшего вульгарным от неумеренного употребления термина «природа», предпочитает слово «пространство». У нее есть целый цикл стихов о «ревности пространства», «милости пространства». Характерным для них является не мотив преклонения перед стихийными силами природы, а скорее, равенства стихий — внешней и внутренней. Мир природы и мир собственной души для нее равновелики.
Поэт и пространство находятся в сложных, зачастую противоречивых взаимоотношениях. Автор вступает с пространством в заговор, притворяется обиженным, добивается прощения и милости — короче, разыгрывает, по своему обыкновению, поэтический спектакль.
Зачастую трудно бывает понять, где кончается внешнее, природа и начинается внутренний мир поэта.
Мы расстаемся — и одновременно овладевает миром перемена, и страсть к измене так в нем велика, что берегами брезгает река, охладевают к небу облака, кивает правой левая рука и ей надменно говорит: — Пока!
Если это и эскиз природы, то уже «втянутый» в другой мир, попавший в другое измерение. И речь здесь о душевном состоянии героини. Ахмадулина очеловечивает все, к чему прикасается. Это относится не только к природе, но и к самым простым, окружающим ее предметам. Многих поразили ее светофоры, которые «добры, как славяне», ее автомат для газированной воды, который, словно пожилая, крестьянка, дает напиться «с добротою старомодной». Она не живописует, а словно бы согревает, опутывает нежностью все, что попадает в поле ее зрения. На всем, что попало в этот мир, лежит явственный отпечаток ее души.
Пейзажи Ахмадулиной (если их можно так называть) производят впечатление холодноватой абстрактности. Они не столько красочны, сколько философичны. В этом отношении она продолжает в русской поэзии тютчевские традиции (но без малейшего налета мистицизма).
Поэт не любит «ясных» состояний природы, предпочитая моменты зыбкие, переходные, неопределенные. Потому-то в этих стихах почти не встретишь «писания жаркого полдня, лета в разгаре, других «законченных» состояний и времен года, а все больше такие часы, когда «дождливо-снежно, холодно-тепло», когда минувший день уже прошел, а новый еще не наступил.
МИР АХМАДУЛИНОЙ
Самый частый упрек, который, настойчиво повторяясь, кочует из статья в статью, это упрек в узости, камерности, ограниченности мира поэзии Ахмадулиной (в таких случаях обычно пишут «мирка»).
В самом деле, мир этот обладает четко выраженной избирательностью, и входит в него далеко не все. Бесполезно искать здесь стихов на «модные» темы, на «злобу дня», Ахмадулина с редким упорством пишет лишь о том, что ей близко и дорого, что ее глубоко задевает.
Мир ее поэзии — это условный мир, созданный ею самою из себя. Он интересен и притягателен не значительностью сюжетов, а тем, что в основе каждого стихотворения лежит действительное переживание. Даже если это и повседневность, то повседневность облагороженная, приподнятая над будничностью. Видимо, именно это имел в виду П. Антокольский, когда писал, что «Ахмадулина гораздо прямее в своем гражданском пафосе, нежели обычно представляют себе».
Говоря так, я имею в виду лучшие произведения Ахмадулиной, высшие достижения ее таланта. Это не исключает того, что в ряде конкретных произведений узость, замкнутость мира поэзии и настойчивая повторяемость тем и мотивов начинает производить иное воздействие. Особенно ощутимо чувствуется это в ее последнем сборнике «Тайна».
Дом, сад и я — втроем причастны тайне важной.
Был тих и одинок наш общий летний труд.
Я — в доме, дом — в саду, сад — в сырости овражной,
вдыхала сырость я — и замыкался круг.
В этом четверостишии перечислен «замкнутый круг» тем. Плюс то, что можно разглядеть из окна; мартовский снег, луна, «рассеянные угодья Ориона». Плюс описания состояния здоровья («мозг занемог — весна»), перепадов настроения, «к вселенной недозволенная нежность». Плюс литературные реминисценции. Книга эта, встреченная всеми почитателями таланта Ахмадулиной после долгого — целых семь лет! — перерыва с жадным интересом, вызвала чувство легкого разочарования. Нет, талант поэта остался при ней. Но повторяемость тем затрудняет чтение.
Здесь «звонят к обедне», читают старые книги, с изысканной и старомодной вежливостью ухаживают за дамами. Прошлое для поэта более реально, чем настоящее, которое если и проглядывает иногда, то словно бы увиденное взглядом «оттуда».
Миру поэта не откажешь в изяществе а литературной изощренности. Но долго находиться в нем невозможно — начинаешь задыхаться от недостатка свежего воздуха. Сборник «Тайна» в известном смысле может служить показателем внутреннего кризиса поэта. Отточенное, доведенное до блеска мастерство и намеренная отъединенность от мира вступают в кричащее противоречие. Выход из него видится мне только в притоке кислорода живых впечатлений.
«СПОСОБ СОВЕСТИ ИЗБРАН УЖЕ...»
При всей устойчивости поэтического мира Ахмадулиной круг ее тем и мотивов не остается неизменным. Но при этом устойчивым и почти неизменным остается нравственный потенциал лирической героини Ахмадулиной, или, как она однажды выразилась, «способ совести».
При составлении алгоритма обязательно надо учесть нравственное напряжение, которое чувствуется буквально в каждой строке Ахмадулиной. Чем оно создается? Чтобы шел ток, нужна разность потенциалов между двумя полюсами. В поэзии Ахмадулиной постоянно присутствует разность нравственных потенциалов.
Далеко не всегда контрасты выражены прямо. Но почти всегда мы можем почувствовать противоположные полюсы, которые и создают «перепад энергии» в ее поэзии. Уверенный расчет — и безрассудный риск; торопливая суета — и тяжелая медлительность; сила, самоуверенность — и слабость, незащищенность; сытый мещанский уют — и неустроенность, «сиротство»; ординарность и гениальность; трезвая упорядоченность и стихия, выходящая из рамок общепринятых представлений... Контрасты, из которых и возникает нравственный конфликт, обнаженный нерв поэзии Ахмадулиной.
Симпатии поэта достаточно определенны. Она целиком на стороне слабости, незащищенности, «безрассудства», «сиротства», будь то дитя, собака, дерево, чуткая тишина снегопада или такие хрупкие вещи, как женственность, доброта, наивная доверчивость, незащищенность души. Она всегда готова откликнуться на зов слабого (вернее, сама приходит на помощь, не дожидаясь такого зова). Самоуверенность ординарности, мещанское благополучие, умение жить «правильно», без сомнений и душевных мук вызывают ее активное неприятие, иронию, сарказм. В извечном конфликте между сердцем и разумом она безоговорочно отдает предпочтение сердцу, интуиции, первому влечению, доверяется им безоглядно и безотчетно. Это бескорыстие души, щедрость сердца, искренность и чистота внутренних побуждений и составляют основу ее нравственного мира.
Иногда Ахмадулину обвиняют в эгоцентризме. Действительно, она пишет, в основном, о себе или же о других — через себя. Но при этом преобладающим в ее поэзии является совсем иной мотив: все для других. Для друзей, для любимого, для далеких и незнакомых людей. Этот чистейший и бескорыстный в своей основе мотив доходит до самоунижения лирической героини, порою — самоотрицания. Даже свежевыпавший снег она боится «утруждать своею тенью».
Узколобость мещанства, его сытое и самоуверенное благополучие глубоко задевают и ранят ее. «Храни меня, прищур неумолимый, в сохранности от всех благополучий!» Неверно было бы сводить пафос ее поэзии к банальному «разоблачению мещанства». Ей претит все ординарное. Даже здоровью, как нормальному состоянию, она предпочитает нездоровье, будь то грипп, озноб или другое недомогание. Правда, тут есть и иной оттенок мысли: творческий акт для нее — это «ненормальное» состояние души, своего рода болезнь (стихотворение «Озноб»). Если она и хвалит умение жить «правильно», «умно», «как все», то иронично, с сарказмом. Чудак антиквар из «Приключения в комиссионном магазине» с его верной и трогательной любовью мог бы в иных обстоятельствах показаться даже симпатичным. Но при сопоставлении с гениальностью он ординарен. Ординарны его мысли, его сватовство, его суждения о великом поэте. Вот почему он достоин лишь брезгливой жалости, не больше.
Поэзия для Ахмадулиной — это нечто стихийное, не управляемое трезвым рассудком и даже противоположное ему. Этим и объясняется ее острая и плохо скрываемая неприязнь к критикам и литературоведам, к тем, кто судит о литературе, руководствуясь лишь трезвым «умыслом», а не «сердцем».
Драматический конфликт между четко очерченным и опоэтизированным внутренним миром и большим миром окружающей жизни преодолевается не просто. Лирическая героиня то впадает в гордыню иронии и замкнутости, то болезненно переживает горечь непонимания, то вновь с распахнутой душой бросается к людям...
Итак, кажется, учтены основные особенности творческого почерка Беллы Ахмадулиной — вплоть до частоты дыхания и перебоев сердца. И все же что-то никак не удается запрограммировать, что-то неизбежно каждый раз остается «за скобками».
Что же? Всего-навсего такая «малость», как талант. Талант, одушевляющий все, к чему прикоснется перо поэта, и позволяющий ей создавать произведения подлинного искусства «из пустяка пустого» — собственной простуды, плохого настроения, бессонницы, посещения антикварного магазина.
В одном из своих стихотворений, размышляя о природе таланта, Белла Ахмадулина видит его суть и драгоценность в уникальности, неповторимости, непохожести на других. Поэт, по ее мнению, — это всегда белая ворона, которую за то и клюют, что она не такая, как все. «Белеть — нелепо, — соглашается автор, — а чернеть — не ново». И тут же вполне в цветаевском духе гордо продолжает: «Чернеть — недолго, а белеть — безбрежно».
Л-ра: Дружба народов. – 1985. – № 6. – С. 245-252.
Произведения
Критика