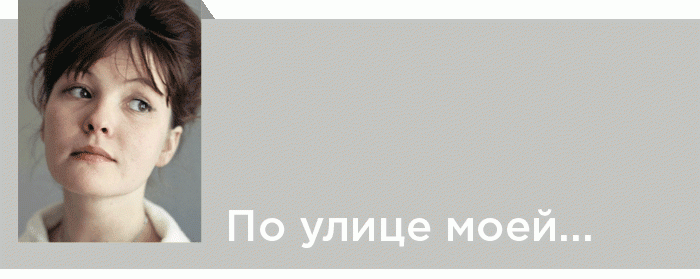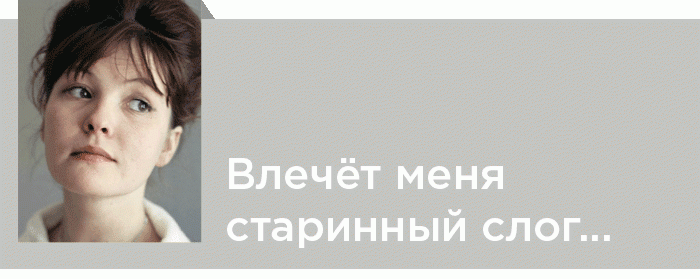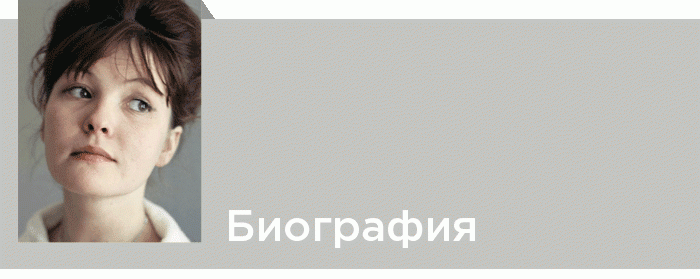Живое движение стиха

Ирина Винокурова
Когда-то Б. Ахмадулина написала стихотворение, в котором первая выдвинула против себя обвинение, вслед за нею подхваченное многими:
Что сделалось? Зачем я не могу, уж целый год не знаю, не умею слагать стихи и только немоту тяжелую в моих губах имей?
Вы скажете — но вот уже строфа, четыре строчки в ней, она готова.
Я не о том. Во мне уже стара привычка ставить слово после слова.
Порядок этот ведает рука...
И кажется даже — не будь этих неосторожных строк, немедленно взятых на вооружение (еще бы, сама призналась!) критикой, так и не были бы произнесены ею сакраментальные слова «творческий кризис».
О первых его симптомах, уважительно ссылаясь на все то же стихотворение-«улику», заговорил шесть лет назад Б. Сарнов.
И вот в связи с появлением итоговой книжки Ахмадулиной «Стихи» в критике вновь всплыла не предвещающая добра цитата, хотя сборник этот едва ли дает основание подобному ходу мысли. Он составлен на редкость строго, тщательно — не случайно Е. Клепикова, пишущая в статье своей «Праздный стих» («Литературное обозрений», 1976, № 7) о творческом кризисе Ахмадулиной как о деле самоочевидном, опирается преимущественно на стихи «проходные», из периодики. Когда же примеры приводятся все-таки из книги «Стихи», критик «простодушно» выдергивает строки из контекста, что зачастую прямо искажает смысл (это, кстати, нашла нужным констатировать и оговорить сама редакция «Литературного обозрения»).
Статья Клепиковой, однако, покоряет энергией стиля, азартом в отличие, скажем, от близкой по взгляду на рецензируемые стихи статьи Е. Ермиловой, опубликованной ранее в «Литературной газете» (1976, № 4). Оттого, вероятно, что часть энергии тратится Ермиловой на преодоление в себе обаяния ахмадулинской поэзии, ее позиция, на мой взгляд, вырисовывается недостаточно определенно, тогда как чуждая подобным слабостям Клепикова четко формулирует свое общее впечатление от книга: «Стих скользит под сурдинку ритма и рифмы, под стиховой распев, смысл едва ли различим, но вроде необязателен...»
Однако едва ли одной музыкальностью Ахмадулиной, изяществом, особенной ее интонацией («ритмом», рифмой, «стиховым распевом») можно объяснить постоянный интерес, с которым и самый искушенный читатель ждет новых стихов Ахмадулиной, ждет ее подборок и книг, интерес, существования, которого не может не признать критик, неодобрительно именуя его «вассальной зависимостью».
Есть, видимо, некий (не шуточный, не пустяковый) нравственный конфликт, питающий и движущий поэзию Ахмадулиной. Обычно он растворен в образе, но иногда прорывается наружу, и кажется тогда, что нет сейчас другого поэта, который так же пылко, резко, а подчас категорично отдавал бы предпочтение «сердцу» в ущерб «уму», как это делает не говорящая прямо, затейливая Ахмадулина. При уме, сразу же оговоримся, ссылаясь на предисловие к ее книге П. Антокольского и полностью присоединяясь к нему, «по-мужски проницательном».
Но, может быть, вовсе и нет нужды в подобного рода оговорке. Ясно, что противопоставление «ум — сердце» — всего лишь традиционная формула, и, конечно же, не ум как таковой, а рассудок, рацио уязвляет в своей поэзии Ахмадулина, верящая в интуитивную, бессознательную природу добра. Отсюда и ее пристрастье к детям, деревьям, собакам, которые часто так и идут в ее стихах неразлучной троицей. Вот и в недавнем стихотворении снова: «Всегда быть не хитрей, чем дети, не злей, чем дерево в саду...»
Все это, однако, вызревало исподволь, возникая в поэзии Ахмадулиной инстинктивно, а потому и неявно. Слова «добро» и «душа» как бы случайно встали рядом в одном из ранних стихотворений. Пришедшая на литературный вечер публика, многоликая, многоголосая, вдруг показалась ей единой в своей доброжелательности: «А в публике — доверье и смущенье. Как добрая душа ее проста!..» И ощущение, что этим словам так и должно стоять, вскоре превращается у поэта в убежденность.
Не от того ли идет и стремление Ахмадулиной одушевлять, «очеловечивать», по выражению П. Антокольского, «все, что ей полюбилось по дороге»: светофоры, автоматы с газированной водой, самолеты? Это ее, ахмадулинский, способ преобразовывать мир вокруг себя, пересоздавать его по своему «образу и подобию», самовластно превращая добро во всеобщий закон бытия, подчиняющий себе живое и неживое:
И автомата темная душа взирает с добротою старомодной, словно крестьянка, что рукой холодной даст путнику напиться из ковша.
«Добротою старомодной», пишет Ахмадулина, и слово «старомодность» теряет в таком контексте свое прямое значение (антонимически соотносимое с фактом технического прогресса), начинает означать скорее «непреходящесть». Это новое значение и закрепляется в. поэзии Ахмадулиной, которой важна неподдельность, испытанность, истинность духовных ценностей. В этой связи характерно развитие образа в стихотворении «Светофоры»:
Светофоры. И я перед ними становлюсь, отступаю назад. Светофор. Это странное имя. Светофор. Святослав. Светозар. Светофоры добры, как славяне.
Мне в лицо устремляют огни и огнями, как будто словами, умоляют: «Постой, не гони».
Случайное созвучие: «Светофор. Святослав. Светозар» — и в механизме как бы прорезывается душа. В поэзии Ахмадулиной старые русские имена, слова, стоящие в словаре с пометкой «арх.» или же постепенно становящиеся таковыми, обладают независимо от своей семантики одним общим качеством, общей способностью — концентрировать в себе капитальное, устойчивое начало духа. Они «уравновешивают» в ее стихах иной, более «юный», пласт языка, как бы олицетворяющий для Ахмадулиной второй полюс ее мирозданья — рацио.
Но если в ранних стихах Ахмадулиной конфликт этот еще не отчетлив и носит несколько общий, абстрактный характер, то в дальнейшем он приобретает более конкретные черты, проецируясь непосредственно на человеческие отношения. То, что условно называлось нами «сердцем» (а Ахмадулиной — «душой»), славится ею уже как сердечность. «Ум» же выступает как четкий синоним рассудочности, ведущей, по ее мнению, к разобщенности, разъединенности людей, ибо участие подменяется любопытством.
Отсюда и возникают в этих (сравнительно поздних) стихах энергические нападки на рацио, принимающие зачастую обостренно-полемическую форму. Так, например, вполне привычные нашему слуху слова «искусствовед», «литературовед» вызывают у Ахмадулиной как бы удивление:
С улыбкой грусти и привета открыла дверь в тепло и свет жена литературоведа, сама литературовед.
Ритмически эта строфа построена так, что слово «литературовед» не прочитаешь комкая, скороговоркой, а лишь по слогам, медленно и внятно — ли-те-ра-ту-ро-вед, так, чтобы «странный» смысл его стал явствен для всех. Поэту резко неприятны холодные пальцы анализа, прикасающиеся к искусству. Иронизируя, Ахмадулина делит слово на части и варьирует конец:
Затем мы занялись обедом.
Я и хозяин пили ром, нет, я пила, он этим ведал, и все же разразился гром.
И далее, уже менее благодушно:
«...Но как же мне с собою быть?
Ведь перед тем, как мною ведать, вам следует меня убить».
Ахмадулиной особенно дорого интуитивное начало в познании, чутье. «Детское зренье провидца...» — пишет поэт, позволяя себе эпитет «умный» употребить как отрицательную характеристику. «Некрасива, но умна...» — замечает она о той же жене литературоведа, и хотя в фразе этой поставлен противительный союз, «ум» в данном случае только усиливает первый эпитет.
«Умникам» поэт решительно противопоставляет «безумцев» — художников, живущих чувством. Ахмадулина славит «безумца»: «Какой безумец празднество затеял и щедро Днем поэзии нарек?..» В противовес духовному потребительству «умника» слово «щедрый» в ее стихах всегда сопутствует «безумцу»; вот еще пример: «Так щедро август звезды расточал. Он так бездумно приступал к владенью...»
Ахмадулину не смущает, что порой «безумец» и дик и странен, как, например, в стихотворении «Плохая весна». В некотором смысле она вообще против «нормы», тщательно охраняемой рассудком. Но что такое для нее «норма»? В «Приключении в антикварном магазине» антиквар бессмертен, но такое бессмертье неинтересно для поэта, оно как бы самый заурядный факт. Талант же, любой, в том числе и просто человеческий, абсолютно вне нормы, он всегда — мука, болезнь, как говорит Ахмадулина, «недуг». Талант истинно мудр: «О боль, ты — мудрость. Суть решений перед тобою так мелка...» Быть поэтом — для Ахмадулиной быть «открытой раной слуха». Утерять вечное состояние «недуга» страшно, вот она и лелеет в себе эту болезнь, которая внешне может быть столь схожа с заурядной простудой, гриппом. Отсюда такие стихи, как «Озноб», «Болезнь», стихи по сути своей о творчестве, что лишает, на наш взгляд, основания иронию Клепиковой по поводу самодовлеющего значения «болезни» в поэзии Ахмадулиной.
Культ дружбы в ее стихах — дальнейшее расширение, углубление темы. «Я поняла: я быть одна боюсь. Друзья мои — прекрасен наш союз!» — воскликнула она в одном из стихотворений. И пушкинские слова здесь не всуе — столь радостно, светло, гармонично для Ахмадулиной это чувство. «Мои товарищи» — ее манифест:
Да будем мы к своим друзьям пристрастны! Да будем думать, что они прекрасны! Терять их страшно, бог не приведи!
Узы дружбы представляются ей надежнейшими, крепчайшими на земле. Отсюда постоянный мотив спасения в ее стихотворениях о друзьях. Вот одно из них — «Гостить у художника»:
В час осени крайней — огонь погасить и вдруг, засыпая, воспрянуть догадкой, что некогда звали меня погостить в дому у художника, там, за Таганкой.
И вот, аспирином задобрив недуг, напялив калоши, — скорее, скорее туда, где, румяные щеки .надув, художник умеет играть на свирели.
О, милое зрелище этих затей!
Средь кистей, торчащих из банок и ведер, играет свирель, и двух малых детей печальный топочет вокруг хороводик...
Это лишь начало, лишь предвкушение грядущего праздника, радости, веселья. Поведет хоровод румяный художник с дудкой, мудрые дети тут же, женщина, для которой поэтом найдено исчерпывающее слово «милая». Вот это и есть мир Ахмадулиной, это и есть ее веселье.
Тема духовного братства людей рассматривается поэтом и в ином ракурсе, она звучит остро гражданственно в стихотворении «Это я...», где Ахмадулина утверждает свои не только человеческие, но и творческие принципы:
Плоть от плоти сограждан усталых, хорошо, что в их длинном строю
в магазинах, в кино, на вокзалах Я последнею в кассу стою — позади паренька удалого и старухи в пуховом платке, слившись с ними, как слово и слово на моем и на их языке.
И если в таких стихотворениях некоторая причудливость, прихотливость (уже самой обстановки) снижала, может быта, пафос стихотворения, сообщая ему нечто игрушечное, чуть карнавальное, то здесь подчеркнута обыденность ситуации («в магазинах, в кино, на вокзалах...») делает стихотворение особенно пронзительным.
«Это я...», датированное 1933 годом, одно из последних в «Стихах», и мы, думается, вправе рассматривать его как нечто суммирующее нравственные поиски поэта. А свидетельством их непрерывности (вопреки мнению критики об «исчерпанности … морального пласта — психологического, нравственного, волевого»).
В стихотворении этом поэзия Ахмадулиной обрела новое качество — зримость, а в связи с этим и особого рода убедительность. Может быть, именно остроты проникновения в объективное порой не хватает Ахмадулиной, взгляд которой неизменно обращен в глубь себя, а если и привлечет ее какой-нибудь предмет извне, он немедленно втягивается внутрь, представая перед читателем уже деформированным атмосферой ахмадулинского мира, Ее поэзия поэтому апеллирует прежде всего к фантазии читателя (которая может быть иного свойства, чем ее), к чувствам его (которые тоже могут не совпадать с чувствами поэта). А отсюда и резкая поляризация читательских «приемлю» и «отвергаю» при восприятии ее поэзии.
Цикл, из которого мы процитировали последнее стихотворение, вероятно, во много раз более уязвим для критики, чем отборные «Стихи». Все то, о чем говорила в своей статье Е. Клепикова — перифраз собственного раннего творчества, самоценность формы, уязвимость пушкинской темы, — с успехом могло быть проиллюстрировано на этом материале. Но есть превосходное стихотворение «Два гепарда», стихотворение, столь важное для Ахмадулиной. И для читателя. И для критики. Потому что, если отталкиваться в выводах своих прежде всего от неудач, нет тогда вообще хороших поэтов.
Ахмадулина — за пристрастность, за верность, за душевную щедрость, доброту. И сила ее таланта такова, что бесспорные истины эти вновь поражают читателя своей новизной. А такая власть дана лишь немногом поэтам.
Л-ра: Новый мир. – 1977. – № 2. – С. 259-262.
Произведения
Критика