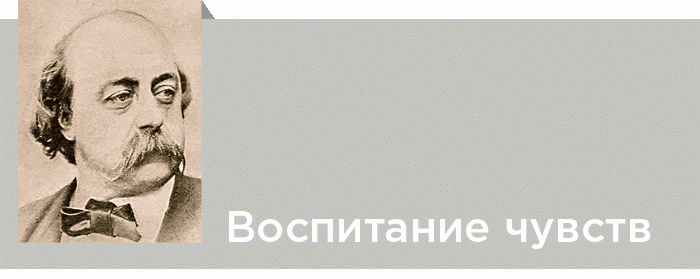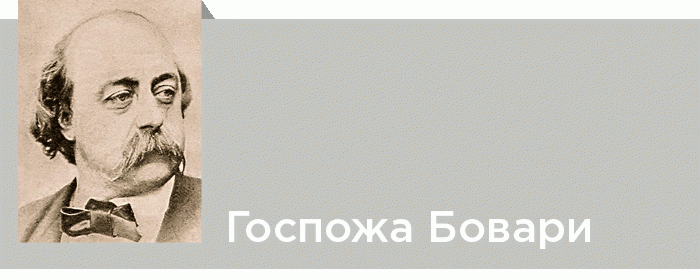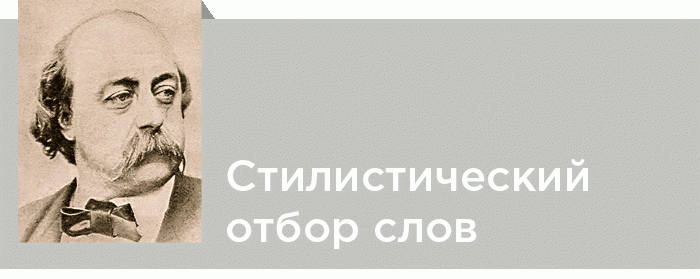Пейзаж в ранней прозе Гюстава Флобера

Г. И. Модина
Аннотация. Статья посвящена анализу пейзажных описаний в произведениях Флобера 1835-1842 гг. в их динамике. Рассматривается становление приема природоописаний и трансформация его функций от пейзажных набросков в экспозиции первых литературных опытов 1835-1836 гг. к лирическим пейзажам психологической новеллы «Страсть и добродетель» (1837) с их композиционной и сюжетообразующей функциями и далее к пантеистическим пейзажам и пейзажам-реминисценциям в произведениях автобиографического цикла ранней прозы Флобера: мистерии «Смар» (1839) и повестях «Мемуары безумца» (1839) и «Ноябрь, фрагменты в неопределенном стиле» (1842), где пейзаж становится основой художественного пространства исповедального текста и способом выражения внутреннего опыта автора, его онтологических и эстетических представлений.
Ключевые слова: Флобер; ранняя проза; пейзаж; бесконечность; искусство; пантеизм; «Страсть и добродетель», «Смар», «Мемуары безумца», «Ноябрь».
Рукописи ранних сочинений Флобера насчитывают более двух тысяч страниц. Среди литературных опытов будущего автора романа «Госпожа Бовари» - созданные в 1830-1840-е годы произведения разных жанров: исторические, психологические, философские новеллы, автобиографические повести, роман, мистерии, философская драма. Большая часть их долгое время была мало известна и читателям, и литературоведам. Неполное представление о ранней прозе Флобера объясняет ее восприятие первыми французскими исследователями как явление подражательное, ценное с точки зрения биографической, интересное лишь теми чертами, что позволяли угадывать в них будущего автора романа «Госпожа Бовари». Ранние произведения, обобщает свои наблюдения Э.В. Фишер, привлекают не художественной ценностью, но тем, что в них отразилась душа юного автора. «До 1850-х годов - пишет он, - мы не встретим в текстах Флобера, каким восхищаемся» [6, р. 137].
Первый том полного собрания сочинений Флобера появился в 2001 г. В нем ранние произведения представлены без сокращений, в хронологическом порядке, сопровождаются обширными комментариями. Это издание позволило видеть в корпусе ранней прозы не только биографический, но и литературный факт, опыт самопознания, воплощение представлений Флобера о мире как эстетически организованном универсуме, размышления о творческом субъекте и творчестве как «постижении истинного посредством прекрасного» [9, v. 2, р. 696]. Вместе с тем это «экспериментальная лаборатория», где Флобер, опираясь на традиции предшественников, формирует собственную систему изобразительных и выразительных приемов. Особое значение в этом пространстве принадлежит пейзажным описаниям. Среди них пейзажи реальные и воображаемые, образы природы и лирические «пейзажи души».
В первых сочинениях, новеллах 1831-1835 гг. «Людовик XIII» (1831), «Картезианский монах, или Перстень приора», «Последняя сцена смерти Маргариты Бургундской», «Смерть герцога де Гиза», «Знатная дама и шарманщик», «Невеста и могила» (все - 1835), Флобер уделяет больше внимания действиям, репликам и диалогам героев. Наброски пейзажей служат экспозицией лишь к некоторым новеллам или отдельным эпизодам, их детали тождественны: лазурное небо, звезды, луна, прозрачный воздух, или черные тучи, темный лес, гроза, беззвездная ночь. Но мрачные или безмятежные, они либо созвучны эмоциональному состоянию героев, либо контрастируют с ним. Примером может служить фрагмент из новеллы о юном монахе-картезианце, пробравшемся в склеп и похитившем перстень покойного настоятеля. Эта новелла - переложение сюжета из хрестоматии «Новые французские рассказы», выполненное по заданию учителя Флобера, профессора Руанского королевского коллежа Гурго Дюгазона. Флобер не просто воспроизводит сюжет. Его картезианский монах - «несчастный, лишенный реальных радостей», он «жаждет иллюзий, мечтает» [12, v. 1, p. 30]. Приор хранил перстень в память о юности и любви, и не алчность, но желание невозможного влечет к нему Бернардо. В стремлении преодолеть соблазн и забыть о перстне молодой монах отворяет окно, но «мирное очарование природы» лишь усиливает его смятение и делает искушение непреодолимым: «Воздух был прозрачен, безоблачно небо, луна безмятежна, окрестности красивы; редкие хижины, лес и огромный замок очерчивали горизонт. <...> “Быть может, - думал, глядя на лес, Бернардо, - там бродит юноша, вдыхает полной грудью счастье жизни, восторженно любуется лазурным небом, окутанным золотым плащом заката. Он может устремить взор дальше, к доблести, к будущему, и не наткнется на решетку темницы!”» [12, v. 1, p. 30-31].
Живописные и динамичные пейзажные вступления к историческим новеллам «Последняя сцена смерти Маргариты Бургундской» и «Нормандская хроника Х века» (1836) выполнены сходным образом: «Знаете ли вы Нормандию, - задает вопрос повествователь в новелле о Маргарите Бургундской, - прекрасную страну с ее замками, где каждый из них будит память о славных героях? Нормандию, где на каждом поле была своя битва, у каждого камня есть свое имя? <...> Руины Шато-Гайяра, они еще высятся над Сеной и словно смеются над каждым поколением, что рождается и умирает. Семь прошедших столетий отняли у замка лишь несколько камней, свергнутых в ров неистовой бурей и потоками ливней. А тогда, в 1316 году, замок был молод. Волнами развевал белое знамя над донжоном ветер, во дворе толпились стражи, в подземелье томилась узница, прощальным взглядом провожала она гаснущие отблески солнца, и были в этом взгляде и ярость, и безнадежность» [10, v. 1, p. 34].
«Последняя сцена смерти Маргариты Бургундской» представляет собой прозаическое дополнение к пьесе Александра Дюма «Нельская башня», автор сосредоточен на диалогах персонажей, и «портрет» нормандского замка - единственный пейзажный набросок в новелле.
В следующем 1836 г. почти теми же словами начинает Флобер «Нормандскую хронику Х века», историю о неудавшемся убийстве наследника нормандского престола королем Людовиком IV: «Знаете ли вы Нормандию, древнюю землю классического Средневековья, где каждое поле помнит свою битву, каждый камень знает свое имя, а каждый обломок хранит свои воспоминания? Можете ли вы представить себе Руан, столицу Нормандии, во времена штурмов, войн, голода, в те времена, когда рыцари сражались у стен города и подковы коней высекали искры из мощенных камнем набережных, еще горячих от крови англичан?» [7, v. 1, p. 117]. Но далее в этой новелле намечается связь пейзажных деталей с развитием сюжета. Картина мирного летнего вечера предваряет сцену, где речь идет о смертельной угрозе юному герцогу нормандскому. Контраст настроений придает большую выразительность и пейзажу, и мрачной беседе заговорщиков: «В чистой лазури неба зажглись редкие звезды, в воздухе разлился аромат растоптанных копытами цветов, безмятежно, спокойно несла свои воды Сена. <. > Склонив голову, король с наслаждением вдыхал свежий ночной ветер. Было одно из тех мгновений, когда природа источает нежный, ласкающий душу аромат, и кажется, покой этот будет длиться вечно» [7, v. 1, p. 118]. Завершается сцена деталью, меняющей тональность сцены: «В эту минуту ветер усилился, с его порывом сухие лепестки увядших на солнце цветов влетели, кружась, в окно. “Цветы народа”, - горько усмехнулся король, почувствовав вдруг мучительный укол совести» [7, v. 1, p. 119].
Впервые не наброски, но пейзажи возникают в новелле «Страсть и добродетель» (1837). В основе ее сюжета - происшествие, известное из судебной хроники: история госпожи N, отравившей мужа и детей, чтобы «предложить покинувшему ее любовнику все свое состояние и свою свободу» [19, v. 1, p. 1295-1296]. Статья в газете завершалась утверждением: «Что за работа происходила в разгоряченном сознании госпожи N, одержимой безумной идеей, как мысли о любви могли привести ее к преступному решению - этого никому не дано знать» [19, v. 1, p. 1296].
Именно эту «работу страсти» сделал Флобер объектом исследования и изображения в своей новелле. Он сохранил детали документального рассказа, но изменил акценты. Госпожа N в статье представлена порочной и жестокой, а муж и любовник - людьми достойными и великодушными [19, p. 1296]. Мадза, героиня новеллы Флобера, и преступница, и жертва расчетливого ловеласа. Исследуя механизм страсти, автор последовательно изображает все этапы внутренней жизни героини от влюбленности до одержимости. Герой стоит перед выбором: «либо бежать, либо пуститься по необозримому пути страсти, что начинается с улыбки, а завершается могилой» [14, v. 1, p. 286]. Он предпочитает бегство за океан и в прощальном письме благоразумно советует героине, ради ее же блага, любить не его, «но добродетель и свои обязанности» [14, v. 1, p. 287]. Композиционный центр новеллы - путешествие Мадзы в Гавр вслед за Эрнестом, и одинокое возвращение в Париж, а центральным образом этого эпизода становится пейзаж.
Повествователь мало говорит о чувствах героини, лаконичны реплики ее внутреннего монолога, динамику переживаний передают детали пейзажа. В этом эпизоде четыре части, каждой из них соответствует перемена чувств Мадзы: дорога в Гавр - надежда, сцена на причале - отчаяние, обреченность и смутная надежда, дорога в Париж - горечь, возвращение домой - опустошенность.
В первой части героиня спешит в Гавр в надежде застать и удержать беглеца, и по дороге замечает лишь то, что скрывает горизонт, служит преградой между нею и Эрнестом: «В полночь она отправилась в путь, гнала лошадей во весь опор. Остановилась в каком-то городке, выпила стакан воды и поспешила дальше, в ожидании за каждым косогором, холмом, поворотом дороги увидеть море, к нему она стремилась со страстью и ревностью, оно могло отнять у нее то, что так дорого сердцу. Наконец, к трем часам пополудни она достигла Гавра. Едва ступив на землю, бросилась на пристань, взглянула на море... белый парус таял на горизонте» [14, v. 1, p. 287].
Вторая часть - сцена на причале, самая объемная, здесь в описании морского пейзажа звучат мотивы страсти и смерти, предвещающие трагическую развязку: «Наконец Мадза подняла залитое слезами лицо - перед ней расстилался бесконечный океан. Был знойный летний день, земля дышала жаром, словно раскаленная печь. Мадза брела по причалу, едва ощущая прохладную свежесть соленой воды. Южный бриз гнал волны, они покорно умирали на берегу, и жалобно шуршала галька. Слева темные тяжелые тучи надвигались на алое, сияющее над морем солнце, и казалось, они готовы разразиться рыданиями. Волны не бушевали, шли одна за другой с траурным напевом, бились о камни пристани, вздымались и падали, рассыпаясь серебряной пылью» [14, v. 1, p. 287].
В повествование все больше вплетаются впечатления героини, во всем видит она сходство с собственными чувствами, отчетливее звучит лирическое начало: «Была в этом какая-то страстная гармония, и очарованная дикой силой Мадза долго слушала голоса волн, ей стал понятен их язык. В шуме моря были те же горечь и тревога, что и в ее душе, волны умирали, разбиваясь о камни, оставляя легкий след на мокром песке, и ей казалось, что и она умирает с ними. Куст травы в расщелине камня склонился от влаги, волны, набегая вновь и вновь, все больше обнажали корни, наконец, он исчез, словно срезанный лезвием, исчез навсегда, а ведь он был так свеж, он цвел... Мадза горько улыбнулась: цветок тоже погиб, и его в самом расцвете унесли волны» [14, v. 1, p. 287-288].
Мотив смерти, наметившийся в экспозиции сцены, постепенно выходит на первый план: «Голоса рыбаков слышались вдалеке, смешивались с криками чернокрылых ночных птиц. Стая кружила над головой Мадзы, готовясь упасть на берег, полный обломков. Она слышала голос, манящий в пучину, и, вглядываясь в нее, считала, сколько минут или секунд будет она страдать, прежде чем настанет конец. Печаль была во всем, в самой природе, и казалось, волны стонут, и плачет море» [14, v. 1, p. 288]. Отчаяние сменяется смутной надеждой, неотделимой от обреченности, ее оттеняет ночной пейзаж: «Неизвестно, какое ничтожно малое чувство заставило ее жить, думать, что есть еще на земле счастье и любовь, и надо ждать и надеяться, и она еще увидит его. Настала ночь, луна, подобная султанше среди наложниц, явилась среди звезд, и во тьме Мадза могла разглядеть лишь белоснежную, словно на поводьях скакуна, морскую пену» [14, v. 1, p. 288]. Финал эпизода сходен с финалом театрального представления, когда гаснет свет, и актеры покидают сцену: «Умолк шум города, с ним погасли фонари, лишь тогда Мадза ушла с причала» [14, v. 1, p. 288].
В описании ночного пейзажа в сцене «Дорога в Париж» реальные детали сплетаются с мрачными образами, возникающими в сознании героини, а в финале сцены она сама, ее голос становятся частью пейзажа: «Поздно ночью, часа в два, она подняла окно кареты, выглянула наружу. Вокруг расстилались поля, вдоль дороги росли деревья, лунный свет пробивался сквозь их кроны, ветер раскачивал ветви, шумел листвой, ей чудилось: огромные призраки с растрепанными волосами толпой несутся за каретой. Пришлось остановиться среди поля - порвались постромки. Было темно, тяжело дышали усталые лошади, плакала одинокая женщина» [14, v. 1, p. 289].
В заключительной сцене возвращения домой доминирует мотив опустошенности, предвещающий безумную одержимость героини, ее смятение передано повторяющимися в сознании образами: «Ночь она провела в слезах, бесконечно вспоминая свой отъезд, возвращение, деревни, дорогу, она снова стояла на пристани, смотрела на море и уходящий парус; <…>; слышала стук колес кареты, перед ней ревели и бились волны» [14, v. 1, p. 291].
Впервые в этой новелле пейзаж получает композиционное и сюжетное значение, здесь автор делает зримым то, что произошло в сознании героини и определило ее судьбу. Пейзаж одновременно обозначает пространство и восприятие его героиней. В нем намечено созвучие ее чувств и одухотворенной природы.
Одухотворенность будет отличать пантеистические пейзажи в произведениях мистического и автобиографического циклов ранней прозы - мистерии «Смар» (1839), повестях «Мемуары безумца» (1839) и «Ноябрь» (1842). В них автор обращается к проблемам познания мира и самопознания, тесно связанным с феноменом бесконечности.
В ранних сочинениях Флобер стремится определить, в каких отношениях с бесконечным миром находится он сам, и одновременно исследует бесконечность как фундаментальное свойство Бытия. По наблюдению Жана-Бенуа Гино, писатель связывает понятие «бесконечность» с понятиями «бытие» и «цель» [17, р. 370-371]. Флобер не просто излагает свои представления об этом феномене, но последовательно анализирует изменение этих представлений. Его герои проходят сходные этапы постижения бесконечности, позволяющие судить о пережитых самим автором периодах «воспитания чувств». Прежде всего, бесконечное открывается в мире внешнем, и чувство бесконечного воплощается в пейзажах: «Я носился по скалам, брал в горсти океанский песок и отпускал его сквозь пальцы лететь по ветру, бросал в воду морскую траву, всей грудью вбирал в себя соленый и свежий воздух Океана, что так полнит душу энергией, мыслями поэтическими и свободными. Я созерцал неизмеримость, простор, бесконечность, и перед бескрайним горизонтом замирало сердце», - пишет он в исповедальной книге «Мемуары безумца» [13, v. 1, p. 469].
В пантеистических озарениях природа предстает единством материи и духа. Примером служит описание пантеистического экстаза на берегу корсиканского залива Сагонь в путевом дневнике «Пиренеи - Корсика»: «По дороге, ведущей прямо от старинного селения, мы спустились на берег. Море было спокойно, в полуденном сиянии лазурные волны казались совсем прозрачными. Солнечные лучи отражались от прибрежных скал и ослепительно искрились, окружая вершины алмазными коронами. Море благоухало нежнее роз, мы наслаждались его ароматом, дышали солнцем, ветром, далью, миртами. То был один из тех счастливых дней, когда сердце, словно природа, открывается солнцу и так же благоухает сокровенными цветами, рожденными волею высшей красоты. Свет, свежий ветер, мысли нежные и невыразимые полнят душу, вся она пронизана радостью и бьет крыльями, отзываясь в каждой частице бытия, растворяется в них, дышит с ними вместе, словно сущность одухотворенной природы звучит в ней чудным гимном. Вы улыбаетесь бризу, ласкающему вершины деревьев, шепоту волн на песке, летите с ветром в морскую даль, нечто эфирное, величавое, нежное исходит от самого солнца и растворяется в безбрежном сиянии - так легкой дымкой поднимается и тает в воздухе утренняя роса» [15, v. 1, p. 694-695].
Образы бесконечной вселенной, пейзажи небесные и земные возникают в мистерии «Смар». В ней внутренний опыт автора выражен в символических сценах искушений героя Сатаной, мнимой смерти и возрождения Поэтом. Смиренный отшельник Смар одержим желанием познать бесконечность, понять мир, видеть Творца. Он пытается вообразить вечность и бесконечность, и не может представить их иначе, чем в сравнении с образами безмятежной природы: «Бывало, ночной ветер дарил мне свежесть, мне нравилась та мягкая истома, которую он нес с собой. Я тонул в ее гармонии, восхищенно вслушивался в шум листвы, волнуемой ветром, ропот реки в долине, мне нравилось смотреть, как серебрится в лунных лучах мох на стволах деревьев; с любовью поднимал я голову к лазурным, сияющим звездами, небесам и думал, что вечность должна была быть также чем-либо пленительным, нежным, молчаливым и бескрайним, где нет ни долины, ни деревьев, ни листвы, она должна быть прекраснее самой бесконечности, где теряется взгляд. <...> И эта ночь так же прекрасна как другие, и травы свежи, небесный свод такой же синий, и серебрятся звезды, и лунный свет играет на цветах. Отчего их благоухание больше не радует меня? Что-то неведомое томит меня, зовет в бесконечность» [16, v. 1, p. 541-542].
Сатана увлекает героя в пространство вселенной, и красота мироздания подтверждает надежду отшельника видеть Творца, создавшего мир для человека: «Я поднимаюсь к небосводу, а он все удаляется. Вокруг вращаются миры, так, значит, я и есть центр этого подвижного творения. <…> Играя, кружатся вокруг меня светила, летят огненногривые кометы. Пройдут века, и, словно кобылицы в облачных полях, они промчатся вновь» [16, v. 1, p. 551]. Но Сатана развенчивает его иллюзии: Творец незрим и недостижим. Чувство свободы и восхищение небесной гармонией в душе Смара сменяется ужасом бездны, и отшельник молит вернуть его на землю, где с восторгом принимает красоту земную.
Топосы земной красоты - идиллические пейзажи, реальные и вымышленные, связанные с впечатлениями автора и литературными традициями, их непременные составляющие - свет (лучи солнца, серебристое сияние звезд), цвет (лазурь, синева, розовые и изумрудные оттенки волн, переливы перламутра, белизна морской пены), море, горизонт как метафора бесконечности и гармонии сфер небесной и земной: «Взгляни, - приглашает Смар Сатану, - спокойно море, и солнце розовыми искрами играет на зеленой глади! Благоухают волны, набегая на песок, медлительные, мощные. <...> Просторный берег ракушек перламутром, морской травой и пенным кружевом украшен. Какое чудо!» [16, v. 1, p. 560].
Красота Востока будит в душе отшельника радость, избавляет от отчаяния, в которое повергло его зрелище земных страстей: «Под ветром клонится бамбук, лепечут волны синие и звездный свет на них играет, по небу облака плывут, то кутают вуалью лунный лик, то снова обнажают. И медленно течет река в долине сонной и цветущей, так медленно, что кажется - то змей огромный простерся на траве и впился в океан. <...> А в бесконечной дали слились в любовном жарком поцелуе земля и небосвод» [16, v. 1, p. 594].
В небесном странствии вселенная явилась Смару пугающей, но все же прекрасной, и даже в изначальной пустоте он предполагает «совершенство, величие и красоту» [16, v. 1, p. 553]. Земной пейзаж формирует прекрасный образ вечности: «Я любовался сияющими звездами, лазурным небом и думал: должно быть, вечность такая же пленительная, нежная, безмолвная и бесконечная. Там нет полей, деревьев и листвы, и все ж она прекрасней этой дали, где взгляд теряется. И мысль моя летела так высоко, как только может вознестись мысль человека. Я знал: гармония небес и красота земная для нашей созданы души» [16, v. 1, p. 549]. Земное странствие героя завершается духовным кризисом, мнимой смертью и возрождением, Смар становится Поэтом. Основа метаморфозы - эстетическое чувство, «властная, пылкая, нерушимая» мысль о бесконечной красоте мироздания: «Душа его, поникшая, как ветхий парус, вновь трепещет. Вечерний бриз наполнен ароматом теплых волн морских, неясных звуков, он новой силой вдохновляет душу. Смар вновь живет - в лучах надежды расцветает сердце, как роза в солнечном сиянии» [16, v. 1, p. 601].
Небесные и земные ландшафты, организуя особое пространство мистерии, где становится возможной встреча с трансцендентным, воплощают представление автора о мироздании как эстетически организованном одухотворенном универсуме и душе творческого субъекта как эстетическом микрокосме.
Пейзаж как топос души героя станет главным компонентом пространства исповедальной повести «Ноябрь». В ее названии есть прямая связь со временем действия. Поздней осенью на закате дня герой возвращается с прогулки и вспоминает прошлое, перебирает в памяти всю свою жизнь: «Мысли, страсти, дни восторга, дни печали, порывы надежды, щемящую тоску» [4, с. 187]. Вместе с тем слово ноябрь - эмоциональная метафора поздней осени: «Печальна эта пора: кажется, вместе с солнцем гаснет жизнь, по сердцу, как по коже, пробегает дрожь, смолкают звуки, тускнеет даль, все засыпает или гибнет» [4, с. 186]. Название связано с доминирующим в повести настроением, душевным состоянием одолеваемого смертельной тоской героя, и предвещает его медленную смерть.
Созвучие пейзажа и душевного состояния героя, неразрывная связь переживаний и образов природы, взаимное отражение души в природе и природы в душе возникает на первой странице повести, в первом наброске осеннего пейзажа: «Я люблю осень, этой печальной порой хорошо вспоминать прошлое. Когда на деревьях больше нет листвы, и в сумерках рыжий закат, догорая, золотит увядшую траву, приятно наблюдать, как гаснет то, что еще недавно пылало в душе» [4, с. 186]. Пейзаж - фон, на котором повествователю является его прошлая жизнь, и вместе с тем ландшафт его души, и образ прошлого, пейзаж-воспоминание: «Я шел с прогулки по опустевшим лугам, по краю замерзших оврагов, куда смотрелись ивы; ветер свистел в их голых ветвях. Он умолкал и тут же опять принимался за свое, и вновь тогда трепетали застрявшие в кустах мелкие листья, дрожали, прижимаясь к земле, травы, все казалось еще более озябшим и поблекшим; на горизонте в белесом небе таял солнечный диск, едва освещая уходящую жизнь. Было холодно и жутковато. Я укрылся травянистым пригорком. Ветер унялся, и не знаю отчего, когда я вот так сидел на земле и бездумно вглядывался в далекую дымку над пастбищем, предо мной, как призрак, явилась вся моя жизнь, а запах сухой травы и мертвых деревьев смешался с горьким ароматом навсегда ушедших дней. Печальные годы вновь слетелись ко мне, словно привлеченные тоскливой зимней бурей; что-то страшное вихрем взметнуло их в моей памяти сильней, чем ветер вздымает листву на глухих тропах. По странной иронии, воспоминания, едва возникнув, разворачивались картинами, а затем, собравшись стаей, улетали и терялись в угрюмом небе» [4, с. 186-187].
В повести Флобер говорит о себе, стремится передать не внешний, но внутренний опыт, пейзаж здесь становится инструментом психологического анализа. Флобер пишет о формировании эстетического сознания от его истоков - «дремлющего хаоса бесконечных возможностей, ищущих своего образа» - к чувству предназначения, стремлению жить «среди вечной красоты, знать страсти в их высшем проявлении» [4, с. 199]. Эстетическое чувство пробуждается в детстве как безотчетное влечение «к чему-то великолепному», чего герой, по его признанию, не мог тогда «ни словами выразить, ни представить в какой-либо форме» [4, с. 188]. Затем возникает любовь к искусству и осознание себя «поэтом» [4, с. 212]. Творчество представляется герою универсальным законом, и совершенным образцом выступает сама природа: «Я старался различить никому не понятные речи в звуках леса и в шепоте волн, напрягал слух, стремясь понять их гармонию; <...> и внезапно связи и антитезы возникали со слепящей меня самого отчетливостью» [4, с. 200].
В пантеистическом озарении герою открывается красота мироздания. Природа предстает перед ним в совершенной гармонии, основанной на чувстве «всеединства»: «Дух Божий снизошел на меня, сердце стало огромным, в неизъяснимом восторге я поклонялся чему-то неведомому, растворялся в сиянии солнца, терялся в бесконечном небе, аромате волн. Безумная радость охватила меня, я был счастлив, словно в раю. <...> Что-то нежное, как любовь, и чистое, как молитва, летело ко мне с горизонта, опускалось с вершины скалистого утеса, из небесной глубины. В шуме океана, в свете утра было чудо, принадлежащее мне, как небесные владения. Все на земле казалось мне прекрасным, я больше не видел ни противоречий, ни зла, любил все - и камни, ранившие ноги, и острые скалы, о которые ободрал руки - любил равнодушную природу, и она, я знал это, понимала и любила меня. И я думал о том, как сладостно вечером, стоя на коленях, в мерцании свечей петь хвалу мадонне, поклоняться Деве Марии, что является морякам в уголке неба с кротким младенцем Иисусом на руках» [4, с. 222].
Подобное чувство полного слияния с одухотворенной природой, ощущение бесконечной гармонии бытия и творческой силы, свойственной природе, а значит, и ему самому тоже, Флобер не раз переживал в юности. Мысль о творчестве как универсальном законе звучала в «Мемуарах безумца» [3, с. 66]. В мистерии «Пляски Смерти» Флобер называл поэзию «сущностью небес» и «дочерью Творца» [11, v. 1, p. 427, 433]. В мистерии «Смар» поэт ощущает неразрывное единство материи и духа, воспринимает творческие импульсы, излучаемые самой природой: «Звуки, стремительные и робкие движения, и свет: трели птиц, шелест листвы, речные заводи, цветущие долины, крутые скалы, буйные ветры и грозовые ливни, пенные волны, пахнущий морем песок, нагие осенние ветви и снег на могильных холмах - все это многообразие форм сливалось в безмерной гармонии, что зовется Природой, Поэзией, Богом. Гармония полнила душу, отдавалась в ней долгим мелодичным трепетом, изливалась в неточных, несвязных словах. <...> То была музыка самой души, музыка мыслей. Поэзия - это всего лишь слабое эхо вселенской гармонии» [16, v. 1, p. 606-607].
Сцена пантеистического экстаза в «Ноябре» так же, как и подобные эпизоды в предшествующих произведениях, пронизана ощущением единства природы, прекрасного и священного, но, в сравнении с предыдущими описаниями, в ней возникает новый мотив - гармония души и мироздания осознается как любовь: «Я любил все <. > любил равнодушную природу, и она, я знал это, понимала и любила меня» [4, с. 222]. Образ мадонны «с кротким младенцем Иисусом на руках», возникший в финале эпизода, подчеркивает сакральный характер переживания и воплощает совершенную любовь к миру. Любовь - столь же универсальный закон, как и творчество. В чувственных переживаниях герой сливается с природой, испытывает ту же причастность миру и влечение к совершенству, что и в пантеистических озарениях, вызванных красотой внешнего мира.
Полному единению с одухотворенной природой в повести посвящены два эпизода. Оба представляют собою описание прогулки, реального пейзажа и эмоционального отклика на него - пантеистического озарения. Пантеистический восторг становится возможным лишь потому, что движения души повествователя тождественны «движениям» природы. О первом эпизоде речь шла выше, второй следует за ним. Мотив любви, пронизывающий первый эпизод, в иной вариации доминирует во втором. В первом случае - это любовь небесная, во втором - чувственная, земная.
Сравнение эпизодов обнаруживает сходный ритм в движении чувств и последовательность сходных деталей: «Стрелы солнечных лучей пронизывали кроны деревьев, в густой тени тянулись вверх травинки, искрились острыми гранями камешки на дороге, хрустел под ногами песок, природа жалила зноем. <...> Томно плыли грозовые тучи, я чувствовал их тяжесть, словно тесные объятия. <...> Волны лениво, набегая друг на друга, растекались на песке. <...> Казалось, берег улыбается. Стояла тишина, звучал лишь шепот воды. Здесь росли высокие деревья, их тень и речная прохлада освежили меня, я улыбался. Подобно той Музе, что живет в нас и, заслышав мелодию, раздувает ноздри, вдыхает гармоничные созвучия, я бессознательно всем существом вбирал в себя радость всей природы. <...> Опустившись на мох под деревьями, я желал еще большей неги, хотел изнемогать от поцелуев, стать трепещущим на ветру цветком, пропитанным речной влагой берегом, пронизанной солнцем землей. Во всем была красота, все казалось счастливым, следовало своему закону, шло по своему пути» [4, с. 219-222, 226-229].
Параллелизм деталей пейзажа и переживаний, сходный ритм подчеркивают единство духовного и телесного, эстетического и чувственного начал. Первый фрагмент - кульминация в становлении эстетического сознания, второй - в развитии чувственности, и оба описания, оставаясь картинами природы, пейзажами- воспоминаниями, отражают движения души героя, как пейзаж его души отражается в природе.
Особой лирической экспрессией отмечена сцена путешествия героя в окрестности деревушки Х. Он болен, чувствует, что угасает, и в один из зимних дней отправляется туда, где когда-то летним утром с полной силой ощутил единение души и природы, бесконечную любовь к миру. Летний пантеистический пейзаж становится воспоминанием вдвойне: об этой прогулке прежде вспоминал и рассказывал герой, теперь эта картина стала воспоминанием читателя, и контраст радостного сияющего летнего утра и холодного хмурого зимнего дня оттеняет горькую безнадежность обреченного поэта: «В оврагах лежал лед, краснели тонкие ветки голых деревьев, пышный слой опавшей, прелой от дождя листвы покрывал подножие леса черным со свинцово-серыми пятнами ковром. В белесом небе не видно было солнца. <…> Вот уже дорога пошла вниз, здесь он отыскал знакомую тропинку через поля и вскоре увидел вдали море. Он остановился, слушал, как бьется оно о берег, и рокот нарастает из глубины горизонта, in altum. Холодный зимний бриз нес к нему соленый аромат, сердце забилось. <…> В море виднелись лодки, на берегу было пусто, <. >, поднимался прилив, волны набегали на прибрежные камни, в их шуме слышался звон цепей и рыдания» [4, с. 300-301].
Рассказчик этого фрагмента, друг героя, не упоминает о его чувствах, мрачный, созвучный безнадежной горькой тоске пейзаж включает мотивы, сходные с теми, что возникли ранее в новелле «Страсть и добродетель» в кульминационной «сцене на причале»: море, рыдающие волны, соблазн покончить с собой, смутная надежда. Но описание становится лаконичнее, выбор деталей строже, сами детали экспрессивнее: «Со всех сторон надвинулись тучи, снова опустилась тьма. Во мраке угрюмо качались волны, вздымались друг над другом и грохотали, словно сотни пушек, жуткая мелодия звучала в их мерном рокоте. Берег дрожал под ударами волн, отвечая глубокому гулу моря. “Не покончить ли с собой”, - мелькнула мысль. - Никто не увидит, не спасет, мгновение - и он будет мертв; но тут же в силу банального противоречия жизнь поманила его, Париж показался привлекательным, полным возможностей, он вспомнил свой кабинет, подумал о многих мирных днях, что протекли бы там. Но властно звала его бездна, могилой распахивались волны, готовые тут же сомкнуться и спеленать его мокрым саваном. Он испугался, вернулся к себе, всю ночь прислушивался к жуткому вою ветра» [4, p. 302-303]. И так же, как в юношеской новелле, пейзаж, будучи самостоятельной завершенной картиной, не только связан с настроением героя, но и воссоздает портрет его души.
Пейзажем завершается история поэта: «Лето вернулось, а радость жизни нет. Изредка приходил он на мост Искусств, смотрел, как колышутся деревья в Тюильри, алеет закатное небо и льется сияющий дождь солнечных лучей сквозь Триумфальную арку на площади Звезды. Наконец, в прошлом декабре он умер, медленно, постепенно, уничтожая себя одной лишь силой мысли» [4, с. 303]. Свет закатного солнца в этой сцене ассоциируется с закатными лучами первого осеннего пейзажа, обрамляя текст и подчеркивая лирическое начало в нем.
Рядом с пантеистическими пейзажами-воспоминаниями в повести возникают воображаемые пейзажи Аравии, Индии, Китая, Сицилии. Каждый из них отмечен характерными чертами «местного колорита». Алое небо, темный песок, парящий в небе орел, шатры, верблюды, крупные звезды, оазисы Аравийской пустыни. В Индии - «белые горы, пагоды, статуи богов, в дебрях джунглей тигры и слоны» [4, с. 283]. В них мечты героя о дальних странах, иной жизни, иной идентичности, они расширяют горизонт художественного мира повести и пространство души поэта: «Стать бы мне погонщиком мулов в Андалусии! Ехать весь день рысцой в сьеррах, видеть Гвадалквивир с островками олеандров среди потока, вечерами слушать звуки гитары и пение под балконами, смотреть на отражение луны в мраморном бассейне Альгамбры, где когда-то купались султанши. <...> Порой я вижу себя в Сицилии, в рыбацкой деревушке, где у всех лодок латинские паруса. Утро. Среди корзин и развешенных сетей сидит босая девушка- рыбачка. Ее корсаж зашнурован золотистой тесьмой, как у женщин из греческих колоний, черные волосы, заплетенные в две косы, падают до пят» [4, с. 286].
В воображаемых пейзажах и осеннем пейзаже-экспозиции возникают реминисценции из повести Шатобриана: «Умчите меня с собою, ураганы Нового Света!» - подобно Рене восклицает герой [4, с. 284].
К литературным источникам возводят ученые и название повести, и важный в ее пространстве образ осенней природы. Одни полагают, что оно навеяно строфой из «Агасфера» Кине [20, p. 128]:
Исчерпан мира срок - лишь капля горечи на дне осталась.
Умолкли речи разума - отчаянье в словах звучит,
С ветвей засохших древа мирового опали имена,
Дни празднеств, клевета, багровые цветы,
И я топчу их, словно мертвую ноябрьскую листву.
Когда же мой ноябрь настанет для меня? [18, p. 302]
Другие видят здесь влияние стихотворения Виктора Гюго «Ноябрь» [5, p. 30]. В нем, как и в повести Флобера, возникает осенний пейзаж, упоминается о прогулке:
Когда под шум ветров, гуляя на просторе,
Дни осень затемнит и заморозит зори,
Когда ноябрь в туман оденет яркость дня,
Листва закружится в лесу, как хлопья снега, -
О, Муза, ищешь ты в душе моей ночлега,
Как зябкое дитя, что жмется у огня! [1, с. 425]
Предшествующие автобиографические опыты Флобера, «Смар» и «Мемуары безумца», также были богаты литературными реминисценциями, литературные мотивы участвовали в конструировании образа героя-поэта во всей его исключительности, а повествование в них становилось все более и более личным. В «Ноябре» же интертекстуальные связи подчеркивают не исключительность, но типичность главного героя. Он тоскует, подобно Рене, и гибнет, «медленно, постепенно, уничтожая себя одной лишь силой мысли» [4, с. 303], как Жозеф Делорм, герой лирического сборника Сент-Бёва, выбравший «сознательное, без всяких отступлений от намеченного пути, медленное самоубийство» [2, с. 24]. В «Мемуарах безумца» и мистерии «Смар» личность героя по мере повествования приобретала все большую определенность: от вопроса, может ли он назвать себя поэтом, к утверждению «Да!» [16, v. 1, p. 613]. При этом Флобер подчеркивал уникальность юного поэта и яростно жаждущего говорить безумца. Они были иными, непохожими на многих. В «Ноябре» движение идет в противоположном направлении - от единства к фрагментарности и утрате исключительности. Не только повествовательная ткань произведения, но и личность героя складывается из пейзажных «фрагментов», и в том числе пейзажей-реминисценций.
Поэт «Ноября» - это тот Флобер, который в 1837-1838 гг. писал другу о творчестве как о «лихорадочной экзальтации» и «жаре страсти», называл поэзию «первобытным состоянием», «сердцем человека» и сам готов был жить сердцем и воображением [8, v. 1, p. 29]. Но автор завершенной в 1842 г. повести смотрит на себя прежнего со стороны. В его сознании формируется новый образ, с каким он связывает свою идентичность, - Художник. Реминисценции в пейзажных описаниях позволяют Флоберу увеличить дистанцию между собою в прошлом и настоящем, и вместе с тем формируют пространство лирического исповедального романа.
В эволюции от пейзажных набросков в ранних новеллах к динамическим, обладающим самостоятельным композиционным и сюжетным значением пейзажам в произведениях 1837-1842 гг. складывается система пейзажных образов, и пейзаж становится основой художественного пространства исповедального текста и способом выражения внутреннего опыта автора, его онтологических и эстетических представлений.
Список литературы:
- Гюго В. Ноябрь // Гюго В. Собр. соч. : в 15 т. Т. 1. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1956. С. 425-426.
- Сент-Бёв Ш. Жизнь, стихотворения и мысли Жозефа Делорма. Л.: Наука, 1986. 406 с.
- Флобер Г. Мемуары безумца // Флобер Г. Мемуары безумца. Автобиографическая проза 1835-1842 гг. / пер. с франц., вступ. ст. и комм. Г. Модиной. М.: Текст, 2009. С. 62-140.
- Флобер Г. Ноябрь // Флобер Г. Мемуары безумца. Автобиографическая проза 1835-1842 гг. / пер. с франц., вступ. ст. и комм. Г. Модиной. С. 185-303.
- Coleman A.P. Flaubert’s literary development in the light of his «Memoires d’un fou», «Novembre» and «Education sentimentale». Baltimore: The Johns Hopkins Press; Paris: Champion, 1914. 164 p.
- W. Etudes sur Flaubert. Leipzig: Julius Zeitler, 1908. 137 p.
- Flaubert G. Chronique normande du X-e siecle // Flaubert G. ffiuvres completes. Vol. I: ffiuvres de jeunesse. Paris: Gallimard, 2001. Р. 117-124.
- Flaubert G. Correspondance. Vol. I. Paris: Gallimard, Bibliotheque de La Pleiade, 1973. 1183 p.
- Flaubert G. Correspondance. Vol. II. Paris: Gallimard, Bibliotheque de La Pleiade, 1980. 1534 р.
- Flaubert G. Derniere scene de la mort de Marguerite de Bourgogne // ffiuvres completes. Vol. I. Paris: Gallimard, 2001. Р. 34-37.
- Flaubert G. La Danse des morts // Flaubert G. ffiuvres completes. Vol. I. Paris: Gallimard, 2001. Р. 401-443.
- Flaubert G. Le Moine de chartreux ou L’ Anneau de prieur // Flaubert G. ffiuvres completes. I. Paris: Gallimard, 2001. Р. 30-33.
- Flaubert G. Les Memoires d’un fou // Flaubert G. ffiuvres completes. Vol. I. Paris: Gallimard, 2001. P. 463-518.
- Flaubert G. Passion et vertu // Flaubert G. ffiuvres completes. Vol. I. Paris: Gallimard, 2001. P. 275-304.
- Flaubert G. Pyrenees - Corse // Flaubert G. ffiuvres completes. Vol. I. Paris: Gallimard, 2001. P. 647-728.
- Flaubert G. Smar // Flaubert G. ffiuvres completes. Vol. I. Paris: Gallimard, 2001. P. 539-618.
- Guinot J.-B. Dictionnaire Flaubert. Paris: CNRS Edition, 2010. 789 p.
- Ahasverus // QuinetE. ffiuvres completes. Vol. I. Paris: Pagnerre, 1858. Р. 61-404.
- Sagne G., Gothot-Mersch C. Notices, notes et variantes // Flaubert G. ffiuvres completes. I. Paris: Gallimard, 2001. P. 1209-1645.
- Shanks L.P. Flaubert’s Youth 1821-1845. Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1927. 250 р.
Л-ра: Литературоведческий журнал. 2021. 3 (53). С. 9-29.
Произведения
Критика