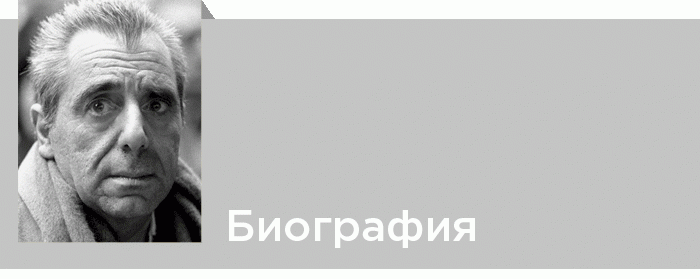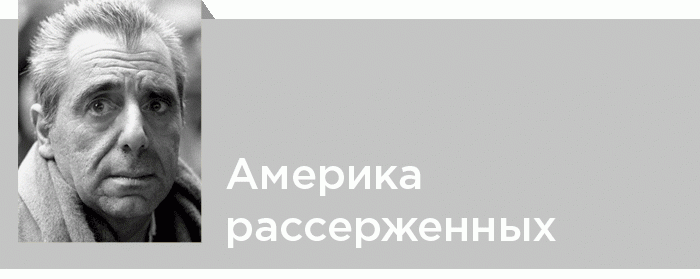Проблема кризиса языка в «Признании» Артюра Адамова

К. П. Османова
Статья содержит анализ взглядов французского писателя Артюра Адамова (Arthur Adamov, 1908-1970) на проблему языка, отразившихся в его автобиографической книге «Признание» (“L’Aveu”, 1946). Предпринимается попытка определить место и значение языковой рефлексии Адамова как в идейном сюжете его книги, так и в эстетической парадигме эпохи модернизма. «Упадок языка» рассматривается Адамовым как результат процесса деградации и десакрализации культуры, признак утраты сущностных связей и ценностных ориентиров. Современный язык есть, согласно Адамову, живой организм, страдающий двойственностью и бренностью, лишённый универсальности и рельефности. Но иных средств самовыражения, которые могли бы язык заменить, человек не знает, и, обречённый на немоту, испытывает настоятельную необходимость в его всестороннем переосмыслении и обновлении. Исходя из этой необходимости, Адамов обращается к этимологии, древней науке об истинном значении слов, и развивает ряд идейных мотивов, раскрывающих связь проблемы языка с онтологическими и этическими принципами. Таковы мотивы экзистенциального одиночества и его преодоления, внеличностной вины и возвращения к мифологическим корням культуры. Впервые намеченные в «Признании», они вскоре обретают полновесное звучание в драматургии Адамова, определившей тот новый тип западноевропейского театра, который вошёл в историю двадцатого века под именем «театра абсурда».
Ключевые слова: Адамов, десакрализация, кризис языка, мотив письма, этимология.
The article contains an analysis of the views of the French writer Arthur Adamov (1908-1970) on the language problem, reflected in his autobiographical book “The Confession” (“L’Aveu”, 1946). An attempt is made to determine the place and meaning of Adamov’s linguistic reflection both in the ideological plot of his book and in the aesthetic paradigm of the modernist era. “The decline of language” is considered by Adamov as a result of the degradation and desacralization of culture, a sign of the loss of essential connections and value orienting points. Modern language is, according to Adamov, a living organism, suffering from duality and frailty, devoid of universality and relief. However, a human being does not know other means of self-expression that could replace language, and, doomed to dumbness, feels an urgent need for its comprehensive rethinking and renewal. Proceeding from this need, Adamov turns to etymology, the ancient science of the original meaning of words, and develops a number of ideological motives that reveal the connection between the language problem and ontological and ethical principles. These are the motives of existential loneliness and its overcoming, extrapersonal guilt (“the fault of all men everywhere and forever”) and a return to the mythological roots of culture. First outlined in “The Confession”, they soon take on a full-fledged sound in Adamov’s drama, which defined the new type of Western European theater that went down in the history of the twentieth century under the name of “the theater of the absurd”.
Key words: Adamov, desacralization, etymology, language crisis, motif of writing.
В истории драмы абсурда Артюр Адамов (Arthur Adamov) играет роль, сопоставимую по масштабу с ролью Сэмюэля Беккета (Samuel Beckett) и Эжена Ионеско (Eugène Ionesco). По мнению Мартина Эсслина (Martin Esslin), крупнейшего исследователя театральных процессов, Адамов был «мыслителем», который «сформулировал эстетику абсурда» [4, с. 95]. Однако, при всей неоспоримости значения фигуры Адамова для западноевропейского авангарда, особенности творческого метода Адамова-абсурдиста изучены недостаточно. За год до появления на свет первой пьесы Адамова «Пародия» (“La Parodie”, 1947) в парижском издательстве «Стрелец» (“Sagittaire”) выходит автобиографическая книга Адамова «Признание» (“L’Aveu”) — исповедь сына двадцатого века, беспрецедентная в своей беспощадной откровенности. Именно «Признание» даёт возможность ознакомиться с убеждениями автора, его образом мыслей, представлениями о времени, о действительности, о себе и отыскать ключи, которые помогут осуществить анализ художественного мира Адамова. Одним из таких ключей, бесспорно, является язык и своеобразная философия языка, разработанная Адамовым на страницах «Признания».
Под названием «Признание» объединены автобиографические сочинения Артюра Адамова, созданные в разное время, а конкретно — в период с 1938 по 1943 годы, и дающие представление о жизни и личности автора. Книгу «Признание» составляют следующие тексты: «Что существует» (“Ce Qu’Il Y A”, 1938), «Бесконечное унижение» (“L’Humiliation Sans Fin”, 1939), «Время позора» (“Le Temps de l’Ignominie”, 1939—1940), «Кошмарный дневник» (“Journal Terrible”, 1939—1943), а также «Предисловие» (“Introduction”, 1943).
Одной из главных проблем, поднятых Адамовым в «Признании», становится проблема языка. Адамов вплетает в ткань повествования яркую метафору: язык представляется ему огромным деревом, корни которого пущены не в землю, а в небо — то есть неким «гигантским перевёрнутым организмом» [5, p. 16]. Именно поэтому, комментируя свои языковедческие изыскания, Адамов употребляет фразу «вознестись к священным началам» (“remonter aux sources sacrées”): «Я принялся без устали изучать корни того дерева, коим является утраченный язык. Я старался вознестись к священным началам...» [5, p. 15]. Автору близок этимологический подход. Этимология, по убеждению Адамова, способна вывести человека на качественно иной уровень осмысления действительности: «Я продолжаю ждать от этимологии непреходящих откровений» [5, p. 15]; «всякий раз, когда мог, я исследовал происхождение слов» [5, p. 15]. Писатель ищет истоки слов так же истово, скрупулёзно, как ищет истоки человеческого страдания. Для Адамова поиск источников происхождения слов есть процесс восхождения, конструирования внутренней вертикали, вырабатывания способов объяснения законов этой Вселенной, а значит, построения пути к смыслу, то есть — попытка «воскрешения смысла» (“la ressuscitation du sens du sacré”) [5, p. 109].
Однако во «Времени позора» появляется примечательный абзац: «Дабы воскресить в этой тьме смысл священного, необходимо, чтобы всё, что таковым именуется, вписывалось в тайную реальность, которая бы это священное охватывала, которая бы его символизировала. Необходимо, чтобы каждое слово, даже в самом низком значении, всё ещё было бы отмечено печатью своего наивысшего смысла. Но это более невозможно» [5, p. 109]. Таким образом, Адамов декларирует невозможность воскрешения смысла в современном мире — в силу того, что человек утратил связь с той самой реальностью, обладающей способностью символизации священного. Десакрализация языка и шире — десакрализация смысла становится характерной чертой времени, в котором живёт Адамов, и, как следствие, характерной чертой художественного мира, который Адамов создаёт. Констатация факта десакрализации звучит из уст Адамова не единожды, и мучительному постижению этого явления посвящены многие страницы «Признания».
К заключению об искажении, крушении и невозобновимости священного Адамов приходит в том числе и через обращение к латинскому слову “sacer”. Он считает, что современному человеку более не доступен смысл, связывающий «всё со всем», и доказательством этой смыслоутраты (в данном случае — религиозной) служит «полное забвение значения слова “sacer”» [5, p. 12]. В этом пассаже у Адамова уже звучит понятие «смерть смысла» (“la mort du sens”), оказывающееся фундаментальным для абсурдистов. Адамов безапелляционно определяет слово “sacer” как «непереводимое» (“intraduisible”), соединяющее «два основополагающих и противоречащих друг другу аспекта неприкосновенного» [5, p. 12]. Адамов имеет в виду, что слово “sacer” вмещает в себя значения антонимические: благословения («священный», «внушающий благоговейное уважение») и проклятия («проклятый», «гнусный») [2, с. 891]. И так же, как одно слово может называть два контрадикторных явления, человек способен соединять в себе святость и грех, высоту духа и позор плоти. Это обострённое чувство собственной двойственности и «непереводимости» мучило Адамова до конца жизни. Об этой двойственности — как слова, так и человека — и размышляет герой «Признания».
Адамов утверждает, что современный человек разучился молиться по- настоящему, а потому употребление самого слова «Бог» (“Dieu”) кажется Адамову фарсом. «Имя Бога не должно впредь срываться с уст человеческих» [5, p. 44]. Адамов полагает, что слово это изношено, затёрто настолько, что перестало иметь какое-либо значение, оно «лишено всякого смысла, всякой крови» [5, p. 44], а слова начала молитвы, которое всегда представляет собой обращение к Богу («Господи!», «Мой Бог!» и т. д.), «навсегда осквернены» [5, p. 45]. По мнению Адамова, использовать слово «Бог» сейчас, в это «время позора», есть «больше, чем проявление лености, — это отказ мыслить, способ ускориться, какая-то гнусная стенография» [5, p. 45]. Бога больше не должно быть даже формально — как слова в любом словаре.
Тем не менее, молитва подразумевает воззвание, называние. Ставя вопрос «Кому молиться?», Адамов делает попытки найти ответ. Он призывает на помощь потенциал языка и пробует дать названия предположительному адресату молитвы: «первооснова» (“le premier principe”), «покой, рождающий движение» (“le moteur immobile”), «безусловный свет» (“l’astre absolu”) [5, p. 45], однако осознаёт всю курьёзность подобных экспериментов.
Одним из языковых вопросов, обладающих для Адамова предельной важностью, становится вопрос невыразимости. «Кроме того, хорошо бы уметь выразить всё то, что существует» [5, p. 33]. Адамов чувствует — и его практика подтверждает справедливость иррациональных опасений — что язык, при всей своей уникальности как организма, не является универсальным инструментом для выражения человеком самого себя. И сказанное, и написанное, по представлению Адамова, не имеет бессрочной ценности, и это есть драма для носителя языка. Существуя некоторое время как эквивалент (вероятно, всё же неполный) переживанию внутреннему, слова постепенно утрачивают свою актуальность, а главное — точность. Всё названное рано или поздно требует быть переназванным (даже «Бог»); всё написанное рано или поздно требует быть переписанным — и в этом смысле фраза, звучащая лейтмотивом в «Признании»: «Всё нужно начинать заново», относится и к взаимоотношению человека со словами.
Адамова беспокоит недолговечность словесных формулировок. Первый абзац «Предисловия» таков: «Я долго трудился над этими страницами. Но если бы я начал писать их заново, то выразил бы себя совершенно иначе» [5, p. 9]. На последней странице «Предисловия» читатель обнаружит ссылку, поясняющую: «Я написал вступление к этой книге в 1943 году, и оно уже — не есть выражение моей мысли. Следовало бы написать новое, однако мне недостаёт смелости: отступления в прошлое меня пугают» [5, p. 16]. Три года, прошедшие между написанием «Предисловия» и выходом «Признания», — срок, достаточный для того, чтобы текст утратил свою сообразность авторским представлениям. Адамов придерживается следующей точки зрения: работа с текстами никогда не может быть закончена по-настоящему; она заведомо невыполнима; она устроена по принципу бесконечности. Действия человека, обречённого на тексты, есть квинтэссенция тщетности. Адамов определённо ретранслирует греческий миф, актуализированный Альбером Камю (Albert Camus) в философском эссе «Миф о Сизифе» (“Le Mythe de Sisyphe”), которое впервые было опубликовано в 1942 году. Как бы усердно герой не закатывал камень на вершину горы — камень этот непременно сорвётся: «Боги не без оснований полагали, что нет кары ужаснее, чем нескончаемая работа без пользы и без надежд впереди» [3, с. 137].
Текст едва ли бывает равен — и равен перманентно — той вселенной, или даже «части вечности», которую автор имел намерение выразить. Имманентным свойством текста Адамов считает его принципиальную бренность. Тяжёлым испытанием для автора, особенно — для автора, выбравшего исповедальную интонацию, является преодоление (и преодоление безуспешное) пропасти между тем, что должно быть сказано, и тем, что сказано на самом деле. «Уразумев свой провал, отчаявшись от осознания разрыва между моим настоящим образом мыслей и тем, что эта книга выражает, я почти отрёкся от неё» [5, p. 10]. Необходимо подчеркнуть, что этот разрыв (“écart”), а точнее — его переживание, есть, в том числе, результат наследования традиции французской романтической литературы. Неизъяснимость духовной составляющей жизни заявляется романтиками как бесспорная. Все оттенки и нюансы внутреннего мира человека невыразимы в полной мере; абсолютная эквивалентность между чувством и словом, его выражающим, между мыслью и словом, её выражающим, недостижима. Замысел всегда удалён от своего воплощения, а иногда и чужд ему. Проблема разрыва между внутренним и внешним, проблема невыразимости и шире — невозможности реализации идеи завершённости во всём, что связано с текстами, — отразится и в ранней драматургии Артюра Адамова, в частности, в пьесе «Вторжение» (“L’Invasion”, 1949).
Адамов делает акцент на отчётливой для него как для автора схожести людей и слов («Слова подчиняются общему закону» [5, p. 30]): и те, и другие не обладают бессмертием и очень уязвимы; настаивает на том, что у слов есть плоть — «кровоточащая» (“saignante”), «беззащитная» (“sans défense”) [5, p. 45]; сообщает, что слова, как и люди, чувствительны ко лжи и способны страдать, слова стареют, болеют, какие-то оправляются после болезни, а какие-то — неизлечимы. Такое пристальное внимание к природе слов впоследствии проявят и персонажи пьес Адамова. Так, например, у Пьера во «Вторжении» появится исключительная цель: уразуметь такие характеристики слов, как «вместимость» (“volume des mots” [6, p. 86]) и «зыбкость плоти» (“corps mouvant des mots” [6, p. 86]). Поэт у Адамова — «тот, кто использует слова не столько затем, чтобы обнаружить их непосредственный смысл, сколько затем, чтобы заставить слова выдать то, что скрывает их молчание» [5, p. 15]. В связи с этим интересно наблюдение Эжена Ионеско, который в эссе «Почему я пишу» (“Pourquoi est-ce que j’écrit?”, 1976) вспоминает своё детство: «...я сознавал... <...> ...что живу в счастье, в радости и что каждый момент — полнота бытия, хотя я не знал слов полнота бытия» [1, с. 355]. За непроизнесёнными — по незнанию ли, по умыслу ли — словами всегда есть тайна, требующая почти жреческого отношения.
Концепт «утрата», являющийся одним из основных для философии абсурда, многоаспектен. Он включает в себя значение утраты языка, выводящее к пониманию масштабной утраты смысла как такового. Так, например, Эжен Ионеско красноречиво называет свою заметку «Трагедия языка» (“La tragédie du langage”) [7]. Адамов в «Признании» использует словосочетания «утраченный язык» (“le langage perdu”) [5, p. 15], «упадок языка» (“la déchéance du langage”) [5, p. 16]: «…упадок языка может заставить человека понять, что в природу всякого языка заложены хрупкость и двойственность, и, в то же время, инициировать попытки человека от этого языка — освободиться» [5, p. 16].
Во «Времени позора» Адамов обращается к истокам и рассуждает о том, с какой целью изначально был придуман человеческий язык, по какой причине он возник: «Язык был создан для того, чтобы прославлять (“glorifier”), чтобы выражать (“énoncer”), а вовсе не чтобы обвинять (“dénoncer”)» [5, p. 105]. «Временем позора» Адамов нарекает, разумеется, современность. Эта часть «Признания» начинается с лапидарного определения того, что такое позор, — по версии Адамова, это то, что не имеет имени, «невыразимое» (“l’innommable”) [5, p. 105]. Дать чему-либо или кому-либо название, имя представляется Адамову сложнейшей задачей, поскольку слова в двадцатом веке более не способны выполнять свои прямые функции — прославлять (воспевать) и выражать (излагать).
В «Что существует» Адамов уже затрагивал эту тему, сокрушаясь об «упадке языка» (“la déchéance du langage”): «Упадок языка в наше время есть мера нашего позора» [5, p. 31]. Великая ночь, на которую обречено человечество, безжалостно язык поглощает: «В ночи всё расплывается, нет больше ни имён, ни форм» [5, p. 46]. Упадок языка, без сомнений, становится для Адамова важнейшей характеристикой эпохи.
Адамов оплакивает то состояние, в котором находится язык, так, словно оплакивает человека. «Прискорбно думать об исковерканной судьбе большинства слов, об ужасающей утрате смысла, которая их постигла. теперь они не более, чем призраки самих себя» [5, p. 30-31]. Адамов констатирует смысло- утрату (“déperdition de sens”), оценивает её масштаб, однако не видит альтернативы, не представляет себе, чем можно язык заменить: «Тем не менее, слова — последнее средство спасения в этом угасающем мире» [5, p. 31].
Для Адамова поэт в первую очередь — творец наименований, называтель. В этом Адамов видит высшую миссию поэта — «назвать каждую вещь её именем» [5, p. 106]. Поэт есть ономатет (от др.-греч. Ovo^axoBexnç — создатель или творец наименований). Именно посредством наречения всякой вещи верным именем достижимо раскрыть, обнаружить «тайный дух» (“l’esprit caché”) этой вещи. Важнейшая интонация этой авторской исповеди — номинативная. Очищение невозможно без вербализации: внутреннее содержание обретает некую словесную форму; предметы и явления внешнего мира («вещи») получают свои имена.
В «Бесконечном унижении» Адамов разбирает слово “exister” («существовать»). Для него такое занятие не просто лингвистическое упражнение. Язык помогает Адамову найти ответы на волнующие философские вопросы, через язык ему удаётся хотя бы отчасти постичь замысел того, кого уже нельзя называть «Богом». «Я утверждаю, что разбора по составу одного только слова «существовать» (“exister”) достаточно, чтобы объяснить неизменное несчастье бытия человеческого. Приставка “ex-” подразумевает идею движения, которое направлено изнутри — наружу. «Существовать» означает — находиться вне себя. Только потому, что существует, — человек уже изгнан, следовательно, помещён за пределы» [5, p. 70]. Значение морфемы инспирирует ощущение наказания человека посредством вытеснения за привычные границы.
Адамов оповещает как о том, что болен, так и о том, что болезнь его управляется чувством вины. Он пишет свою исповедь для того, чтобы искупить вину: «Спасения нет; я должен искупить вину, которая, кажется, пала на саму мою плоть» [5, p. 56]. Именно поэтому пристального рассмотрения удостаивается и слово “faute” («вина»). Адамов пишет, что оно двукомпонентно: с одной стороны, в нём можно распознать “faille” (от “faillir” — «недоставать» [2, с. 147-148], то есть выражение идеи отсутствия); с другой — “fall” (германского происхождения — «падать», «рушиться», то есть выражение идеи падения). Следовательно, утверждает Адамов, «вина есть отсутствие и падение, которые как раз и являются ужасными признаками сепарации» [5, p. 57].
И это не досужие филологические изыски — такой метод помогает Адамову сформулировать идею внеличностной вины, вины, не закреплённой за отдельным человеком. Адамов пишет так: «…эта вина в конечном счёте не является моей виной, она выходит за пределы меня, она — огромней, чем недуг, который живёт внутри меня. Я хочу явить эту истину как неизбежную, отравляющую: всякая частная вина, всякое персональное чувство вины, осознаёт ли виновный это или нет, выходит за пределы личности самого виновного, чтобы навсегда стать виной всеобщей, виной всех на свете — великим изначальным нарушением, которое именуется сепарацией» [5, p. 56-57]. Позже Ионеско в своём «Дневнике кусочками» (“Journal en miettes”, 1973) озвучит идею всечеловеческой совместности: «Здесь происходит глубинное сближение, здесь выход к отождествлению с другими» [1, с. 369].
Искупление вины у Адамова напрямую связано с мотивом письма. «Писать, я должен писать, любой ценой, несмотря на всё и вся. Ибо если я перестану писать — всё рухнет» [5, p. 26]. Недуг следует высвободить, исторгнуть из себя не только посредством произнесения, так называемого выговаривания (для Адамова подобное действие носит характер миссии: «Я считаю, что мне одному суждено сказать это» [5, p. 159]), но и посредством записывания. В «Что существует» Адамов употребляет словосочетание «внутреннее пространство» (“l’espace intérieur”) [5, p. 27]. Письменная фиксация содержания этого пространства имеет для Адамова терапевтический эффект.
Один из самых сильных страхов, явленных Адамовым в «Признании», — страх утраты написанного. Шестая часть «Кошмарного дневника» начинается словами: «Я потерял все листы, на которых торопливо фиксировал свои беспокойные мысли, — всё, что написал за последнее время» [5, p. 134]. И далее: «Эта потеря представляется мне знаком судьбы и пугает меня» [5, p. 134]. Адамова страшит не столько перспектива восстановления текстов, сколько сам факт потери. Утрату бумаг Адамов трактует как человек, для которого письмо служит одним из способов преодоления недуга, она означает «потерять иллюзию психической устойчивости, лишиться единственной защиты... перед хаосом и безумием» [5, p. 134]. Письмо не даёт окончательно сорваться в пучину помешательства. В данном случае “Cogito, ergo sum” Рене Декарта трансформируется в “Scribo, ergo sum” исповедующегося Адамова, который, отдавая себе отчёт в том, что его собственный внутренний мир не обладает такой характеристикой как стабильность, истово ведёт записи, обретая в этой одержимости краткое мнимое успокоение.
Мотив письма окажется важен и для ранней драматургии Адамова. Герои его пьес так или иначе будут иметь дело с носителями текстов: документами, конспектами, записными книжками, тетрадями, листками и клочками бумаги и т. д. Например, расшифровка и толкование записей умершего друга превращаются в миссию для Пьера во «Вторжении». Профессор Таранн в одноимённой пьесе постоянно носит с собой записную книжку; он объясняет полицейскому: «Я туда записываю все мысли, которые приходят мне в голову в течение дня, мысли, которые я впоследствии развиваю.» [6, p. 228]. Зенно в пьесе «Все против всех» надиктовывает ужасающие своей формальностью предложения, и Мари, как и Агнес во «Вторжении», печатает их на машинке. Мотив письма есть эффективный компонент, с помощью которого Адамов конструирует свой театр абсурда.
Таким образом, в эстетике Адамова язык наделяется исключительным значением, становясь важнейшим инструментом для понимания бытия. Результативным Адамов считает подход этимологический — выявление происхождения слова есть обязательная ступень к постижению мироустройства, где человек обнаруживает себя изгнанником, существующим вне собственных пределов. Заявляя о неизбежности смерти смысла и невозможности его воскрешения, автор определяет современность как масштабный процесс десакрализации. Ключевыми характеристиками языка по Адамову оказываются двойственность: человек стремится избавиться от языка, но в то же время не обладает никакими другими инструментами для самовыражения и самопознания; временность: любое языковое решение в конечном счёте требует перерешения; а также неуниверсальность, выводящая к вопросу принципиальной невыразимости внутреннего содержания говорящего и пишущего средствами любого языка. Адамов размышляет о поэте как об ономатете, о языке как о живом организме, а о тексте как об искусстве раскрытия тайны и установления верного имени всякого явления. Мотив письма инспирирует Адамова на построение концепции всеобщей вины. В своей исповеди Адамов выкристаллизовывает идею, свойственную эпохе: идею упадка и последующей утраты всего самого ценного, и особенно — языка. Языкоутрата и Богоутрата как части глобальной смыслоутраты есть суть трагического двадцатого века, в середине которого и появляется драма абсурда, чью поэтику Адамов начал разрабатывать на страницах «Признания».
Список литературы:
- Бибихин В. В. Слово и событие. Писатель и литература. М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010. 416 с.
- Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. Около 50 000 слов. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Русский язык, 1976. 1096 с.
- Камю А. Миф о Сизифе. Калигула. Недоразумение: сборник: пер. с фр. М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2010. 317 с.
- Эсслин М. Театр абсурда / пер. с англ. Г. Коваленко. СПб.: Балтийские сезоны, 2010. 528 с.
- L’Aveu. Paris: Sagittaire, 1946. 162 p.
- Adamov A. Théâtre I. Paris: Gallimard, 2011. 242 p.
- Ionesco E. Notes et contre-notes. Paris: Gallimard, 1962. 262 p.
Произведения
Критика