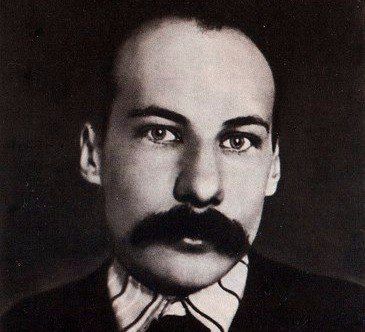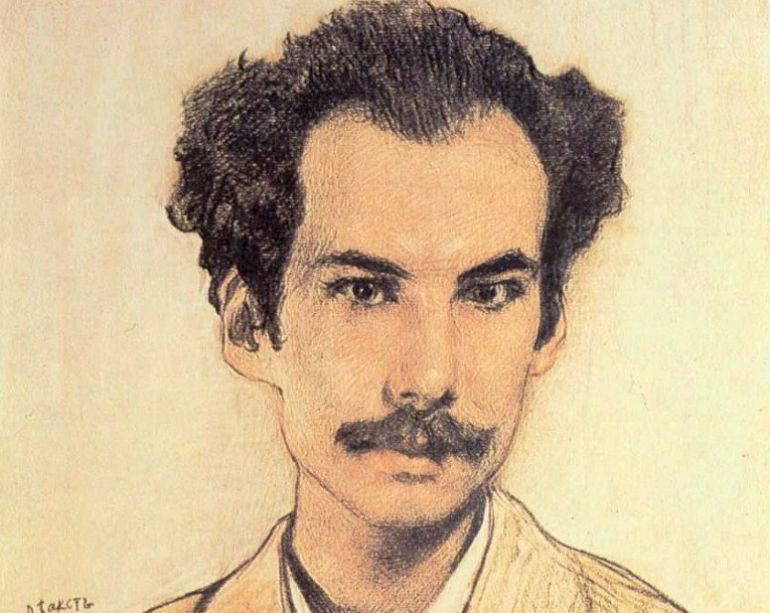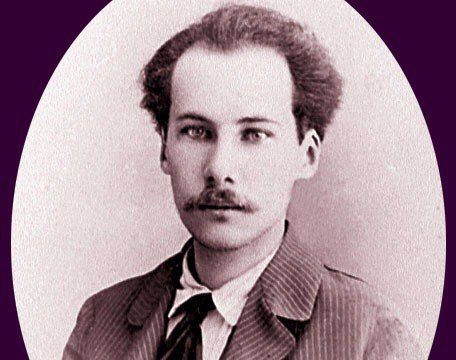Человек и его мир в художественной системе Андрея Белого

Л.А. Колобаева
И личность, и творчество А. Белого поражают нас своей парадоксальной двойственностью. С одной стороны, эклектическая пестрота его философских влечений и прибежищ: он и ницшеанец, и кантианец, и антикантианец, и антропософ в духе Р. Штейнера, и ниспровергатель Достоевского, и его поклонник, и соловьевец, один из создателей теории «теургии» и «жизнетворчества». Поистине — «экономист-пессимист-бодлерист-дантист-оккультист-католик», как А. Белый, иронизируя, сказал однажды об Эллисе. А с другой стороны, девиз А. Белого, запечатленный в самом его литературном имени: белый — «пленум красок» — единство, возникающее, как луч света, из радужной пестроты жизни.
В наследии Белого реальные эстетические ценности смешиваются с надуманными и мнимыми. Вглядываясь сегодня в его художественный мир, мы должны отделить крупицы творческого «возрождения» от «вырождения», которые сложно сплелись в русском символизме. Как говорил сам Белый, они, символисты, «соединялись в исканиях, а не в достижениях». За этими словами — целая философия, и не одного Белого. К. Бальмонт, И. Коневской, В. Брюсов, на каком-то этапе и А. Блок поэтизировали идею превосходства стремления над свершением, жажды над удовлетворением, желания счастья над самим счастьем, движения над целью — другими словами, поклонялись процессу жизни, бесконечности пути, вечному переходу. Отчасти именно поэтому девиз «не свершения, а искания» стал не только пафосом их поэзии, но и творческой судьбой. Так случилось и с Белым: для последующих поколений, для нас его творчество ценно больше всего опытом не итогов, а «исканий».
Поэзия символистов в России конца XIX — начала XX в. вскормлена острым «чувством кризиса» и «предощущением нового человека». Каким конкретно было «предощущение» человека в художественном творчестве А. Белого и что оно принесло с собой — понять это важно.
Атмосфера «разрыва» подстерегала его с детства, в его доме, запомнившемся на всю жизнь так: отец и мать «разрывают меня пополам», или: «И я жил в ожидании конца мира с первых сознательных лет». Подобные настроения подступали к нему всегда в драмах его дружб и страстей, осознаваясь со временем как атмосфера общей разлаженности российского уклада жизни.
Символ разрыва — сквозной в творчестве Белого. Вспомним хотя бы бомбу-«сардинницу», центральный символ «Петербурга» или возникшую в расчетах математика атомную бомбу в романе «Москва», кстати, одном из ранних романов-«предупреждений» в литературе XX в. Этот символ реализуется в его поэтике каскадом приемов — в прерывистости художественного времени и в целом повествования, в обрывах диалога, в разорванной фразе — с осколками слов и даже звуков.
«Смысл жизни не в объекте ее, а в объективируемой личности... Творчество жизни есть тайна личности: объективные цели жизни (создание науки, искусства, общества) — внешние эмблемы творческих тайн, переживаемых лично. Умение жить есть индивидуальное творчество, а общеобязательные правила жизни — маски, за которыми прячется личность. Жизнь, осознанная в законах, есть веселый маскарад, где откровенное признание темноты жизни есть добрая маска, а утверждение норм есть маска злая. Жизнь есть личное творчество».
Жизнь как произведение искусства, творимая по требованиям свободной индивидуальной воли, которая не подчиняется «общеобязательным правилам», «косному образу жизни», вступает в конфликт с «необходимостью» и потому неизбежно превращается в трагедию — такова цепь логических построений Белого. И тут мы сразу же входим в круг вопросов, до сих пор дискутируемых исследователями интеллектуалистской романистики XX в. экзистенциалистского толка — о реальности и правомерности подобной трагедии и подобного «трагического гуманизма».
Однако применительно к Белому этот вопрос не главный. Дело в том, что трагическая личность оказалась у Белого в большей мере достоянием его теоретических построений, нежели художественной практики. Центральной в его произведениях стала, с нашей точки зрения, загадка человеческой двойственности, причем не столько в ее высоком, трагическом варианте, сколько в негативном, сатирически или трагикомически сниженном.
Символисты ближе подходили к подлинной поэзии не в постижении декларируемой ими цельности человеческого духа, а его раздвоенности. Это относится даже к тем из них, кто поднимался над своей поэтической школой, — В. Брюсову, И. Анненскому и даже Блоку. Однако Блок, потрясающий нас проникновенным поэтическим пониманием психологической сложности современного человека — «не белого, не черного», не молодого, не старого, покоряет нас в конце концов иным — легким, разлитым в его поэзии светом, который идет от веры поэта в идеальные, гармонические начала человека. Это поэзия «двойственности каждой человеческой души, которую нужно побеждать». В творчестве Белого же самым сильным было не идеальное начало, а ниспровергающее, гротескно-смеховое, сатирическое, выраженное в специфической символистской форме. Еще в
Сатирический «смысл» был лишь одним из составляющих в его творчестве, и не преобладающим. Но можно утверждать, что именно он оказался у Белого самым живым и продуктивным. Главным ферментом его таланта была «удесятеренная зоркость» ко всяческой деформации личности и уклада ее жизни — гиперболизирующая и мистифицирующая фантазия, способная открыть незаметные обыденному взгляду чудовищности косного быта и косного сознания.
Фантастика его символов — чаще всего не условность мифического «тридесятого царства», а сказки повседневности, фантастика старого Арбата и Невского, мещански-интеллигентской Москвы и Петербурга (сановного, чиновного и полицейски-сыскного). Символическая фантастика Белого выражала прежде всего расколотость и парадоксальную противоречивость современной личности, утратившей смысл существования в «разэпопеившейся» истории. Такого рода деформированность казалась поэту всеобщей, универсальной. Она объяснялась либо безличной включенностью человека в свою среду, в разлагающийся быт, либо — для отдельных ярких личностей, пытающихся встать вне этого старого быта, — их безбытностью, бессилием, неизбежным чудачеством. Благородный и смешной чудак — характернейшая фигура произведений Белого, от его «Симфоний» (второй и третьей) до мемуаров и антиэпопеи о дореволюционной Москве (роман «Москва»: ч. 1-я — «Московский чудак», 1926; ч. 2-я — «Москва под ударом», 1926; «Маски», 1933).
«...Яркие, удивительные, благородные, талантливые фигуры, но деформированные, до ноги в мозолях, чудачестном, бессилием, перепугом, рассеянностью и круговою порукою: не поколебать устоев, — так пишет автор воспоминаний «На рубеже двух столетий» о «чудаках» из среды русских либералов-интеллигентов.
Парадоксальность была не только особенностью миросозерцания Белого, но и свойством многих его современников, особенно в близкой ему среде. Вот, для примера, некоторые его микрохарактеристики, в которых обнажен их конструктивный принцип «ходячего противоречия».
О В.В. Розанове:
«хитер нараспашку»,
«...не цинизм — что-то жреческое».
О фантастике В. Брюсова:
«бронированный «бред», подносимый с практичностью лавочника».
Об Алексее Веселовском:
«вид... как водопад Ниагарский, а впечатление пустое».
Символистское мировосприятие его, как из почки, развертывается из представлений, которые он не раз обозначает мифологическим образом кентавра. Появление мифологизма в произведениях Белого неизбежно: античный миф отвечал стремлению поэта смешать реальность с фантастическим вымыслом и отыскать, отстоять в жизни человечества «вечные», неразрушимые ценности. В символ кентавра Белым вкладывается в основном два «смысла», две идеи — о разрыве, половинчатости человеческого существа и о противоестественном сращении в нем разноприродных начал. Показательно, что «кентавр» было словом не только поэтического лексикона, но и житейского, вполне обиходного — в кружке «аргонавтов». Позднее автор «Начала века» вспоминал: «В духе тогдашнего моего жаргона «кентавр — раздвоенный между чувственностью и рассудком»; «фавн» — чувственник, а «горбун» — непреоборимый рок». Это были его «способы восприятия» жизни.
Кентавры Белого — не только мифические существа из его «Симфоний» и раннего сборника стихов «Золото в лазури» (1904), но, по существу, многие герои из его зрелых произведений — отец и сын Аблеуховы из «Петербурга» (1913-1914), математик Коробкин — «московский чудак» — из одноименного романа, а также ряд персонажей из «Серебряного голубя» (1909), автобиографических повестей и трехтомных мемуаров («На рубеже двух столетий», 1931; «Начало века», 1933; «Между двух революций», 1934). Уловив в них реальное явление XX в., болезнь личности — крайнюю разъятость рассудочного и чувственного, умозрительного и «человеческого», Белый создал образы, вставшие в начале цепочки «кентавров» мировой литературы нашего века (вплоть до новейших, как «Кентавр» Апдайка и др.).
Больше того, кентавроподобна самая структура, модель художественного образа у Белого — с принципиальной двуликостью и двусоставностью. За видимостью, за предметом для символиста всегда стоит иная, невыразимая, подвластная только «сверхчувственной интуиции» суть, тайна, божественный замысел, абсолютный и вечный.
Каким был реальный, действительный смысл пафоса вечности, одушевлявший поэзию русских символистов в начале XX века?
Идея вечности облекается в их творчестве в сложные, причудливые, нередко мистические формы. Для Белого «преодоление времени», «возврат» человека к самому себе, к «вечности» — одна из кардинальных проблем. И вряд ли стремление к подобному «возврату» можно истолковать однозначно — только как выражение страха консервативного сознания перед лицом предчувствуемых революционных перемен.
Символ вечности у Белого — это главным образом философская идея ценности, поиск нравственного абсолюта, могущего быть надежным этическим ориентиром в мире, потерявшем — вместе с богом — прежние критерии. Белый старается защитить человека и его будущее от царства не помнящей себя временности, шаткости, эфемерности ценностных критериев, а значит — и безответственности. В значительной мере такой, думается, была действительная подоплека апокалиптических, мистических умонастроений раннего Белого.
По мере эволюции поэта символы вечности в его творчестве наполняются все более реальным содержанием, не исключая и социального, хотя социальное для него подчинено «вечному». Заметные перемены в этом отношении испытал художник под влиянием первой русской революции. В революционные дни
Характер символики в «Пепле» меняется — здесь уже нет, как прежде, фантастических великанов, горбунов и кентавров; жизнь видна теперь в будничном обличье — «Из окна вагона». Тем не менее поэтические образы Белого сохраняют свою главную символическую устремленность — к вечным «тайнам неба». Однако символы вечности в «Пепле» — и позже в «Петербурге» — содержат в себе не столько мистические ожидания («второго пришествия»), сколько представление о некоей надличной ценности — реальной, хотя и отвлеченной. Это «неизмеримость» России, глубина ее национальной истории, бесконечным масштабом которой и должно поверять всякое — и социальное — движение современности.
Недаром символ-хронотоп «тысячелетних пространств» отныне становится для художника одним из главных ценностных критериев в изображении личности. Так, «боязнь пространства» — а она не раз вспыхивает в сознании отца и сына Аблеуховых в романе «Петербург» — верный знак их внутреннего ущерба, духовного закостенения.
Мотив высшей этической ценности непосредственно звучит в главке «Суд», где сходятся узловые проблемы романа — спор о России и Европе, о «восточном» и «западном» началах цивилизации, о личности и истории, времени и вечности. Подобные вопросы возникают тут в своеобразной форме. Это самосуд сознания, точнее даже подсознания: «суд» совершается во сне.
В символах сновидения, в обрывках воображаемого диалога Николая Аблеухова с таинственным «гостем» прочитывается (в контексте романа) такой ход мыслей. Отец и сын Аблеуховы, каждый по-своему не понявшие «задачи» человека и отвергшие «ценность» (сын тем, что свел ее к «метафизическому ничто», а отец, сенатор Аблеухов, — к железной, бюрократической регламентации бытия), за это и осуждаются жизнью.
«Социальные отношения, построенные на ценности...». Этот идеал —: от обратного — утверждает автор «Петербурга». Но в романе изображены социальные отношения, построенные, напротив, на попирании «ценностей» и потому губительные для человека.
России, обществу, отдельному человеку угрожает главным образом деспотический, централизующий рассудочный дух «планиметрии» жизни, воплощенный в символах государственного, сановного, чиновничьего Петербурга и, в особенности, в образе сенатора Аполлона Аполлоновича Аблеухова. Он — порождение и рассадник «петербургского» прямолинейного духа и Порядка. Его образ запечатлевается вереницей уничтожающих гротесков, начиная с тех, что пародируют мертвенную «правильность» циркуляров, исходящих из его канцелярии и опутывающих Россию, до интерьера его кабинета и дома, с «нумерацией» шкафов, холодом «разблиставшихся» «лаковых крышек» и гулкой пустотой дома, оставленного женщиной (женой Анной — перекличка с образом Каренина!). Корни подобного «холодания», возведенного в принцип, Белый усматривает в далеком прошлом, в российской истории, в замыслах царя Петра, решившего на европейский лад подчинить жизнь проекту, расчету и готового, подобно Медному всаднику, затоптать всякого, кто своими непрошеными чувствами «проект» нарушает. Дошедшие в российской политической самодержавности до крайности, до абсурда такие тенденции и подвергаются уничтожающему осмеянию в образе механического «государственного человека».
Бюрократическая государственная машина, которая держится атлантами, подобными Аполлону Аполлоновичу (какой иронией звучит этот двойной аполлонический символ — символ красоты и гармонии — в имени героя!), расплющивает живые человеческие души, превращает их в «тени», куклы и маски. Образ-маска — основной в художественном мире Белого. (Последний его роман недаром так и называется «Маски».) Образ-маска создается неотвязными, не раз повторенными метонимическими символами — ведь от человека оставалась всего лишь часть, от индивидуального облика — одинаковые, обезличенные вещи: «...пролетели лишь в сквозняки приневского ветерка — котелок, трость, пальто, уши, нос и усы»; «...в открытой двери показался передник, перекрахмаленный чепчик, потом отшатнулись от двери — передник и чейчик».
На петербургских улицах «наблюдатель уже отмечал появление черной шапки косматой с полей обагренной Маньчжурии; понизился очень процент проходящих цилиндров».
В том же роде удивительные портреты героев — без портретности: «Был он (Сергей Сергеевич Лихутин. — Л.К.) высокого роста, носил белокурую бороду, обладал носом, ртом, волосами, ушами и глазами...».
Человек в обрисовке Белого предельно овнешнен, даже овеществлен, ограничен набором заученных механических движений, выполняющих особое назначение — служить некоей роли, взятой на себя человеком, защитной или агрессивной. Впечатление усиливается тем, что художник нередко заставляет героев умолкнуть, делает их речи неслышимыми, слова неразличимыми. Картина глубокого сатирического смысла — парад Витте и его министерства — дана в этом ключе.
Картина окрашивается комическим эффектом, подобным тому, что возникает в немых сценах: фигуры жестикулируют, открывают рты, шевелят губами, но... не произносят ни слова (здесь слова превращаются в какой-то нечленораздельный звуковой «гуд»).
Поэтике Белого с утрированной обрисовкой человеческого «футляра», кукольным жестом — «вздергом» — с выпотрошенной психологией, с умолкнувшими речами вполне соответствует и необычный диалог. Это злая пародия на человеческий разговор — какие-то осколки, остатки мыслей и фраз, спотыкающиеся слова и интонации:
«И неожиданно разразился:
- Вот... я...
- То есть, что?
- Так ничего...
Николай Аполлонович опять неожиданно для себя разразился:
- Вот... я...
- Что «вот я»?
Продолжение к выскочившим словам не придумал».
Диалог у Белого может быть и вовсе бессловесным; воспроизводится он знаками интонаций и междометиями:
- «Ай... Где же?
- ?
- !
- А!..
Ну, вот-с...
- Хорошо...»
Подобные формы диалога с косноязычием, провалами речи, «выскочившими словами» встречаются в прозе Белого почти всюду. Полнокровный разговор, интеллектуальная беседа, спор у него, по существу, почти отсутствуют, даже тогда, когда это, казалось бы, необходимо, скажем, в его воспоминаниях о русских интеллектуалах — философах, ученых, поэтах, публицистах начала века. Редуцированный диалог вполне адекватно выражает мысль художника о девальвации слова, о нарушенном человеческом общении: герои не слушают, не понимают, не могут понять друг друга или стараются спрятаться за лживыми словами.
Распад человека, по Белому, объясняется не только насилием деспотической государственной централизации, но, с другой стороны, и эгоцентризмом своевольной личности, самовозвышением человеческого «Я». Этот второй аспект проблемы развертывается в образе Аблеухова-младшего. Роман «Петербург» представляет собой «самокритику» Белого и символизма — развенчание крайнего индивидуализма, краеугольного камня символистской философии и эстетики.
Осмеяние неоправдавшихся притязаний личности, полагающей себя «центром» мира, выразительно в романе:
«Здесь, в своей комнате, Николай Аполлонович воистину вырастал в предоставленный себе самому центр — серию из центра истекающих логических предпосылок, предопределяющих мысль, душу и вот этот вот стол: он являлся здесь единственным центром вселенной, как мыслимой, так и немыслимой».
«Центр вселенной», пространство которого — «комната» или «кабинет высокого учреждения», испытывающий даже боязнъ пространства, — это ли не насмешка над индивидуалистическими самообольщениями личности!
Та же мысль реализуется в главном «сюжете» произведения — в конфликте отца и сына, в мотиве отцеубийства. Николай Аполлонович Аблеухов — сын своего отца. Для него человек тоже не больше, чем «черепная коробка», футляр для сознания. Он сам — тип головного человека, только на другой лад — в сфере не служебно-административной, а умозрительно-теоретической. Образ Николая Аблеухова можно рассматривать в цепи образов абсурдного «теоретического» человека в литературе XX в.
Корнями же своими он восходит, конечно, к предшествующей русской литературе, и прежде всего к образам Достоевского. Николай Аполлонович — символ, кивающий сразу на нескольких литературных «прототипов» (так чаще всего и бывает в символистском образном мире Белого) — на Раскольникова с его убийством по теоретическим мотивам и братьев Карамазовых, Ивана и Дмитрия, виновных перед собой в том, что могли помыслить об убийстве отца, пожелать его смерти.
Николай Аполлонович — герой «мозговой игры» и в то же время «чувственник», не способный, на поверку, ни понять, ни полюбить другого человека, ненавидящий даже отца. Для оправдания своего человеконенавистничества и мысли об отцеубийстве он подыскивает соответствующую теорию: «Ведь не он ли сеял семя теорий: о безумии жалостей?» Адрес теории указан недвусмысленно — это, конечно, Ницше.
Рождение помыслов об убийстве отца у Николая Аблеухова и его склонность к внутренней «провокации» толкуется в романе как следствие безбрежного эгоцентризма героя, крайней отвлеченности его представлений о другом человеке, даже о ближайшем. Это и приводит его к полному духовному краху, к падению личности до «нуля». Приговор совести выносится ему голосом отца — в том же «суде»-сновидении:
«Суд наступил:
Течение времени перестало быть; все погибло.
- Отец!
- Ты меня хотел разорвать; и от этого все погибает.
- Не тебя, а...
- Все рушится: валится на Сатурн...
Летосчисление бежало обратно.
- Какого же мы летосчисления?
Но Сатурн, Аполлон Аполлонович, расхохотавшись, ответил:
- Никакого, Коленька, никакого: времясчисление, мой родной, — нулевое...
- Ай; ай: что же такое «я есмь»?
- Нуль...
- А нуль?
- Бомба...»
Итак, попрание высшей этической ценности, нарушение нравственного закона — «не убий!» — ведет, по мысли автора «Петербурга», к саморазрушению человека.
Опустошению личности в странной «вселенной» Белого соответствует, как отмечалось выше, марионеточный образ. Но марионетка, маска — лишь одна сторона его художественного образа. Другая связана с тем, что писатель стремится проникнуть под маску человека, за кулисы его игровой роли, в область скрываемых и неосознаваемых побуждений. Если удается туда заглянуть, маска героя начинает искажаться, скользить и двоиться; тогда вместо «греческого» лика усмехается нам «лягушечье выражение» (как у Николая Аблеухова).
В мире масок отношения только человекоподобны. Так, за «подобием дружбы» отца и сына открылись острые взаимные страхи и готовность уничтожить друг друга.
Л-ра: Филологические науки. – 1980. – № 5. – С. 12-20.
Произведения
Критика