Документ и правда вымысла: из художественного опыта А.Н. Толстого
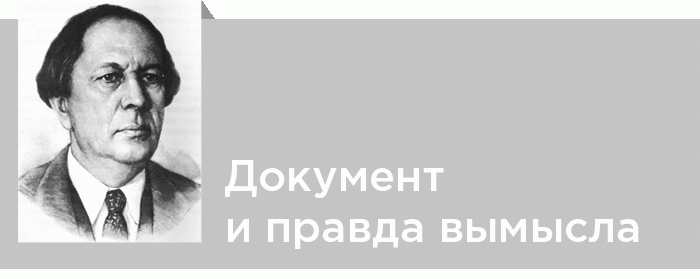
В.Н. Быстров
В одном из интервью А.Н. Толстой, будучи уже зрелым, признанным мастером прозы, сказал: «У меня свои методы показывать эпоху и, если хотите, своя философия литературного языка» (Литературный Ленинград, 1934, 20 июля). В этих словах выразилась спокойная уверенность писателя, который познал тайну владения художественной речью, выработал присущую лишь ему манеру письма. Однако поиски творческих принципов, ставших позднее определяющими, оказались трудными и долгими. «У меня процесс овладения словом был длительный, — вспоминал Толстой. — Вначале слово было для меня вроде дикого животного, — брыкалось и не слушалось и само несло меня в дебри. Затем открылась удобная, легкая и приятная область — «стиль». Готовый язык, давно усмиренный и послушный, но мертвый» (Толстой А. Н. Поли. собр. соч. в 15 тт. Т.
А.Н. Толстой на ранней стадии творчества, по его собственному выражению, «беспомощно барахтался в дикой стихии русского языка», «мысли и художественный образ расплывались в этой путанице» (т. 13, с. 566, 357). Писатель безуспешно пытался найти гармоничное соответствие между «готовой» литературной и народной речью. «В чем секрет живого языка? — мучительно размышлял он. — С какой стороны схватиться за него? Как его изучать, каким методом освоить это орудие искусства настолько, чтобы язык художника стал как легкое дыхание?» (т. 13, с. 358—359).
Внимание писателя привлекла книга профессора Н. Новомбергского «Слово и дело государевы» (Томск,
Прежде всего он отметил, что писцы-дьяки, добросовестно и бесстрастно фиксировавшие по рассказам пытаемых событийную канву, исторические реалии, передавали наряду с особенностями речевого строя также их эмоции и переживания. Получалось одновременно и достоверно, и выразительно, и динамично. Язык приобретал более социально-психологическое, нежели нормативно-эстетическое наполнение. За безыскусственными словами вставали в воображении писателя людские судьбы и характеры той эпохи; он не только «осязал», по его выражению, колоритный русский язык, но и увидел, ощутил то, как события времени отразились на людях. Все жизненные, исторические факты, почерпнутые из книги, воспринимались Толстым через «призму» обнаженных человеческих переживаний. Это стало для него, пожалуй, одним из главных откровений.
В судебных актах Толстой обнаружил «ключ к трансформации народной речи в литературу» (т. 13, с. 291). Познакомившись с ними, он понял: «Язык готовых выражений, штампов <...> тем плох, что в нем утрачено ощущение движения, жеста, образа» (т. 13, с. 360). Эти свойства в полной мере были присущи языку документа Петровской эпохи. Записи устной речи, сделанные дьяками, натолкнули Толстого также на мысль о том, что главное для художника — угадать и адекватно отразить явные и скрытые душевные движения персонажа. Так, судя по всему, зарождались в сознании писателя те творческие догадки, которые оформились затем в его концепцию «жеста».
Суть этой концепции кратко можно сформулировать так: человек, с точки зрения Толстого, все время «жестикулирует», то есть определенным образом эмоционально реагирует на окружающую его обстановку; в нем непрерывно движется поток эмоций, которые воплощаются в поступках, действиях, мимике, слове («речевом жесте»). Учитывая, улавливая воображением эту пульсирующую «жестикуляцию», художник, по мнению Толстого, сможет выразительно и достоверно передать характеры, психологию, а также речь своих персонажей.
Первым практическим опытом, в котором отчасти реализовалась эта концепция, был маленький, чисто экспериментальный рассказ «Первые террористы (Извлечения из дел Преображенского приказа)». Обращение писателя в этой миниатюре к Петровской эпохе было с художественной точки зрения не случайно. Ему хотелось проверить свою (тогда еще не сформулированную, но уже интуитивно угаданную) «теорию» на материале источника, вызвавшего догадку. Тесная связь рассказа с документальными записями очевидна. Автор широко использует чисто языковые особенности источника, которые уже отмечены исследователями: обилие сочиненных предложений с многократно повторяющимся соединительным союзом, повторы, инверсии и т. д. (см. об этом в комментарии к публикации рассказа в кн.: Творчество А.Н. Толстого. М., 1957, с. 221). Он также отдает предпочтение несобственно-прямой и косвенной речи, которые характерны для записей. Толстой попытался превратить «служебную» функцию писцов в художественную: «К приказному дьяку Фокину в Преображенский приказ, что на Лубянской, явился садовник Ганка Рябишин, крикнул за собой слово и дело государево, и подал письмо, серой бумаги, подмоченное и помятое.
При этом сказал, что письмо нашел в штанах, в кармане у помещика Акима Тельного, у кого он живет здесь в Москве на его, Акима, дворе, в подклетьи. И что это письмо еще в прошлом году хотел взять и тем грозился. Но в самый Оспожин пост вернулся Аким домой пьяный, и зашел в клеть, и ругался, и бил кулаком в дверной косяк, называя его, Ганку, изветчиком и чертовым сыном. И, распалясь, вышиб его из клети на двор. А на дворе схватили его холопы и посадили в подвале на цепь. На цепи на сундуке продержали его, Ганку, четыре недели. И была ему от того боязнь и такое страхование, что по сей день по ночам мышц и змеи и всякие гады привидением являются...» (там же, с. 217).
В свой рассказ Толстой ввел безличного повествователя, локализовал сюжет, кое-где модернизировал язык документального первоисточника. Но при этом сохранил главное с точки зрения его концепции: непосредственность выражения, «жестовое» наполнение устного повествования. В художественный текст, как это явствует из приведенного отрывка, все время врывается эмоционально окрашенное слово. Толстой предельно сокращает дистанцию между переживаниями героя и их речевым выражением. Это было в понимании писателя объективизацией чужого «жеста». Подобный способ художественного изображения писатель сделал одним из своих важнейших творческих принципов.
Нужно научиться, — формулировал он, — «объективизировать жест. Пусть предметы говорят сами за себя... Это можно сделать, только работая над языком-примитивом, но ... не над языком, который двести лет подвергался ... манипуляциям» (т. 13, с. 569). Язык-примитив, считает Толстой, — «основа народной речи, в нем легко вскрываются его законы. Обогащая его современным словарем, получаешь удивительное, гибкое и тончайшее орудие двойного действия (как у всякого языка, очищенного от мертвых и но свойственных ему форм), — он воплощает художественную мысль и, воплощая, возбуждает ее» (т. 13, с. 568). Под «примитивностью» Толстой подразумевал не бедность речи минувших эпох, не ограниченность средств выражения, а именно первичность ее. Это язык, не успевший обрести застывшую форму, являющийся отражением непосредственной реакции человека на ту или иную ситуацию. Это язык живого чувства, когда переживаемое ищет спонтанного выхода в слове, а не словесной формулы.
Все эти мысли и догадки еще более отчетливо отразились в рассказе «Наваждение» (1917), фабула которого также заимствована из судебных актов Петровской эпохи. Произведение отличается предельно субъективированной формой повествования. Рассказчик, бывший послушник Севского монастыря Трефилий, не просто повествует о прошлом, он дает как бы «срез» своей души в разные моменты ее бытия. Это не изложение жизненных событий и фактов, а рассказ о переживании этих событий героем. Именно поэтому речь его столь часто получает «жестовое» наполнение, она является в эти моменты как бы голосом души героя: «Я гляжу на ее красоту, и в дыхании моем все затихло: как ночь стало»; «Вспомню вчерашнюю ночь, и так злобой и зальет меня, — горло бы перегрыз старому погубителю, распутнику, вору!»; «Я лезу с конем прямо на народ, вглядываюсь... Господи, Кочубей!.. (...) У меня глаза закатились, закачался в седле» (т. 4, с. 383, 386, 387).
Каждое воздействие извне вызывает душевное движение и физическую реакцию героя, которые объективируются в его речи. Поскольку эмоции имеют ярко выраженную окраску (отчетливый «жест», максимальное движение), их воплощение в слове героя иолучает подчеркнуто экспрессивное оформление.
А.Н. Толстой придает особое значение такому мотиву высказывания героя, который связан с попыткой объективации в слове различных душевных проявлений и реакций. Как пишет Л. Гинзбург, рассматривая вопрос о мотивах речевого высказывания, «человек стремится объективировать в слове самые важные, актуальные для него состояния своего сознания, в том числе всевозможные эмоции и аффекты, которые в особенности нуждаются в непосредственном словесном воплощении» (Гинзбург Л. О литературном герое. Л., 1979, с. 162).
А.Н. Толстой считал, что «жестовые» формы изобразительности наиболее присущи разного рода исповедальным жанрам, где герои много внимания уделяют «живописанию» перипетий своей душевной жизни, что придает их рассказу эмоционально-личностную окраску. «Сравните <...> записки так называемых «бывалых людей» с обработкой этих записок профессиональными литераторами, — говорил он — Основная забота правщика — убить в записках именно жест. Тем самым они убивают и душу фразы, уничтожая то живое, что коряво и неумело, но всегда бережно передается „бывалыми"» (Воспоминания об Л. Н. Толстом. М., 1973, с. 450). Герой-рассказчик, по мысли писателя, раскрывается через свое о себе слово, форма его непосредственного речевого выражения такова, что ее сложно перевести (без определенных потерь) в формы авторской (чужой) речи. Если можно так сказать, «внутреннее» знание имеет другой язык, нежели «внешнее».
Несколько иначе проявляются возможности «жестовых» приемов изображения в тех случаях, когда речь ведет автор-повествователь. А.Н. Толстой со всей очевидностью понял это, работая над рассказом «День Петра» (1918). Во-первых, в такой форме акцент делается на передаче внешней «жестикуляции» героев, которая доступна взгляду со стороны. Неслучайно портрет Петра в рассказе представляет собой, в сущности, совокупность динамических форм проявления. Отсюда — исключительное обилие глаголов, призванных эти проявления выразить. Во-вторых, «жест» чаще всего выступает здесь как показатель социально-психологических отношений персонажей, он социально окрашен и ориентирован. «Жест» — это реакция, учитывающая окружающую человека общественную среду; личность либо противопоставляет себя этой среде, либо стремится «ассимилироваться» с ней, либо скрыть от нее свою истинную суть. Как верно заметил В. Турбин, «жест открывает нам человека и маскирует его» (Турбин В.Н. Герои Гоголя. М., 1983, с. 13). «День Петра» дает немало примеров отражения эмоциональной «жестикуляции», вызванной ситуацией диалога, спора, столкновения. Показательна в этом смысле сцена допроса Петром Варлаама:
«Вдруг Варлаам проговорил слабым, но ясным голосом:
- —Бейте и мучайте меня <...> готов отвечать перед мучителями...
- —Ну, ну, — цыкнул было Ушаков, но Петр схватил его за руку в перегнулся на столе, вслушиваясь.
- —Отвечаю за весь народ православный. Царь, и лютей тебя цари были, не убоюсь лютости! — с передышками, как читая трудную книгу, продолжал Варлаам. — <...> Я знаю тебя. Век твой недолгий. Корону твою сорву, и вся прелесть твоя объявится дымом смрадным.
- —Товарищей, товарищей назови.
- —Нет у меня товарищей, ни подсобников, токмо вся Расея товарищи мои.
Петр проговорил, разлепив губы:
Страшно перекосило рот у царя, запрыгала щека, и голову пригнуло; с шумным дыханием, стиснув зубы, он сдерживал и поборол судорогу. Ушаков и Толстой не шевелились в креслах. Палач всей сплой навалился на бревно, и Варлаам закинул голову. <...> Петр поднялся, наконец, подошел к висящему и долго стоял перед ним, точно в раздумьи.
— Варлаам! — проговорил он, и все вздрогнули».
Происходят как бы два спаренных диалога: словесный (перекрещивание эмоционально насыщенных высказываний) и на языке «жестов»; при этом второй подчас едва ли не более красноречив, чем первый. Речевой «жест» как бы спаян с «жестом» физическим. Тут, действительно, важно не столько то, что говорится, сколько то, как говорится, — важно «жестовое» оформление эмоциональных всплесков. Душевное движение можно описать, но это, с точки зрения Толстого, неизбежно ведет к статичности повествования.
Основные художественные возможности «жестовых» приемов выразительности, выявленные и апробированные А.Н. Толстым в рассказах о Петровской эпохе, в полной мере воплотились затем в позднейшем его творчестве. Слово как элемент некоей эстетической структуры стало все более вытесняться в прозе писателя живым, социально и эмоционально окрашенным словом. Это явилось выражением созревшей убежденности писателя в том, что «язык литературный и язык разговорный должны быть из одного материала. Литературный язык сгущен и организован, но весь строй его должен быть строем народной речи».
Л-ра: Русская речь. – 1987. – № 3. – С. 42-47.
Произведения
Критика










