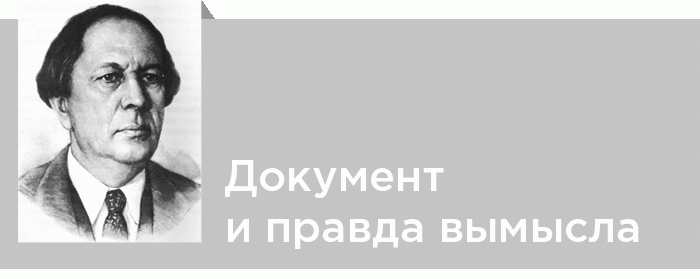Художественная проза А.Н. Толстого в оценке русской дореволюционной критики
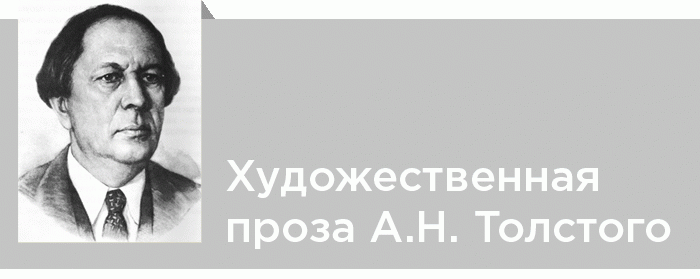
В.В. Перхин
В современной науке справедливо отмечается, что у критики и литературоведения есть сходства и различия. Не следует абсолютизировать эти различия, но нельзя и забывать о них. Данная статья ограничена задачей — показать противоречивый процесс осмысления творчества А.Н. Толстого в дореволюционной литературной критике, достижения которой прослеживаются в важнейших литературоведческих работах 1950-1970-х годов.
Первую классификацию дореволюционных критических суждений об А.Н. Толстом попытался сделать в
Не обнаружили рационального зерна в дореволюционной критике И.С. Рождественская и А. Г Ходюк.
Негативно оценил всю дореволюционную критику, за исключением высказываний М. Горького и В.П. Полонского, М.Н. Гуренков.
Конкретно-историческое рассмотрение мнений о Толстом с учетом идейно-эстетического размежевания русской дореволюционной критики позволит обнаружить подлинные и мнимые ценности критического освоения творчества Толстого, выявить забытые аспекты его изучения.
Толстой начинал как поэт и был сначала поддержан символистской критикой. Толстой «ищет, думает», писал И.Ф. Анненский. Высоко оценил книгу стихов «За синими реками» В.Я. Брюсов, отметив главное: «А. Толстой вдохновляется русской родной стариной и воссоздает, в новой форме, народные песни и сказания».
Первые рассказы, появившиеся в периодике 1909-1910 гг., тотчас были подвергнуты разбору. Но сначала на них смотрели сквозь призму представлений о Толстом-поэте. Поэтому В.И. Кривич писал о «своезвучии» прозы Толстого. М.А. Кузмин настаивал на поэтическом призвании Толстого и даже противопоставлял стихи рассказам. Авторы первых откликов еще не задумывались над тем, каковы жизненные истоки произведений Толстого. Наибольшее одобрение вызвали «Сорочьи сказки», которые позволили М.А. Волошину говорить о «подлинном таланте» Толстого, о «веселой бессознательности, полной иррациональности всех событий», происходящих в сказках. Эту особенность А.А. Григорьев называл «живорожденностью», понимая под этим отсутствие предварительной сконструированности. Впоследствии о «бессознательности» Толстого будут говорить многие критики, вкладывая в это, однако, иной смысл.
Наметившийся в начале 1910-х годов переход от символизма к акмеизму обусловил появление новых оценок в отзывах М.А. Кузмина. Сам переживая в это время эволюцию, он оказался чуток к творческому развитию Толстого. По-прежнему осуждая «анекдотичность и шарж» в изображении «помещиков и провинциального города», Кузмин уловил движение Толстого от «живописных картинок» к «широкому повествованию». Стремление показать в рассказе «Неверный шаг» «широко развивающуюся историю одной жизни» он назвал «новым направлением» в искусстве Толстого. Так был схвачен поворот писателя к эпическому изображению действительности.
В то же время другой критик-поэт, только отчасти примыкавший к символистам, Б.А. Садовский, рецензируя книгу рассказов Толстого, показывал, что «фантастика у Толстого всегда вырастает из миража пошлейшей действительности, в которой еще Достоевский видел «что-то фантастическое».
Таким образом, критика, уже отступившая от ортодоксальности символизма, оценила способность Толстого к саморазвитию, поддержала эпические наклонности, определила некоторые черты его реалистической поэтики.
По-своему понимали своеобразие Толстого представители других направлений в критике. Некоторые из авторов либеральной журналистики были так ошеломлены изображением «нелепостей» заволжского быта, что поспешили отказать Толстому в таланте. В отличие от символистской критики их не интересовали изменения форм в творчестве молодого прозаика. Они протестовали против показа «дикости толстовских медвежьих углов» и восхищались «прелестными» сочинениями Б.К. Зайцева, в которых передана «мягкая поэзия среднерусской усадьбы». От этой схемы отступали те, кто был серьезно озабочен судьбами критического реализма. Это прежде всего А.В. Амфитеатров, А.Б. Дерман, Е.А. Колтоновская — критики, в то или иное время испытавшие воздействие народнической общественно-литературной мысли.
Народнические журналы поддержали Толстого, потому что он продолжал «добрые традиции литературы» и потому что он «грубо и резко обличает» дворянство. Амфитеатров, лишь мельком сказав о «большущем таланте» Толстого, который «со словом обращается, как Роден с глиною и мрамором», обосновывал общественное значение творчества Толстого, которое он, в частности, видел в том, что оно противостояло «гримасам» русского модернизма у М.П. Арцыбашева, Ф. Сологуба, а также Н.Н. Евреинова, выступившего в пьесе «Красивый деспот» с апологией крепостнического барства. Никто со страниц либеральной печати не сказал о значении прозы Толстого в годы политической реакции так определенно, как Амфитеатров. Но главное он рассмотрел ее в русле критического реализма и увидел новизну в публицистичности, когда художественное («правда лепки») рождает общественно значимый вывод.
Осуждение модернизма и публицистический подход были свойственны и А.Б. Дерману. Вслед за Амфитеатровым он отмечал, что «возможность делать выводы из рассказов Толстого — заслуга Толстого», а «образы насильников приобретают в наши дни злободневный интерес.., как орудие для познания текущего момента».
Дерман осознавал ограниченность народнической привычки — говорить только о «миросозерцании, мироощущении, идеологии» писателя. «Идеология прекрасно уживается с художественностью», — утверждал критик; стало быть, публицистический анализ должен быть дополнен эстетическим. Именно поэтому он уделил внимание поэтике прозы Толстого.
Дерман отметил, что часто «необузданная фантазия», «гиперболизм» не помогают Толстому выявлять «зерно правды», а становятся «началом самодовлеющим». Критик обратил внимание на мастерство детали, с помощью которой писатель умело подтверждает «жизненность рассказываемого». Дерману принадлежит приоритет в определении «излюбленного приема» Толстого: раскрытия человеческого характера через «поступок, движение», через то, что сам писатель впоследствии назовет «жестом».
Но все-таки анализ «стиля и приемов», утверждал критик, должен быть подчинен «первому плану — идеологии писателя». Поэтому он делал решительный акцент на отсутствии «мросозерцания», на том, что «чистый художественный образ, предъявляемый без философии и морали стоящего за ним автора», — недостаток, который становится особенно нетерпим» когда Толстой обратился к жанру романа. «Чтобы писать романы, — говорил Дерман, — надо сверх изобразительной силы быть мыслителем». В принципе, это было верное положение, из которого критик делал спорный вывод о том, что раз Толстой не философ, значит он «стихийный художник», т. е. не думающий о воспитательных, идеологических целях искусства. Этот ход мысли очень напоминал суждения Н.К. Михайловского о А.П. Чехове. Дерман открывал в Толстом своеобразного писателя тогда, когда выходил за рамки народнической эстетики.
Более решительно отступила от народнических критериев Е.А. Колтоновская. Она критиковала модернистов за «вычурность и манерность письма», не одобряла «субъективизм» Б.К. Зайцева, пессимизм М.П. Арцыбашева, ратовала за развитие «общественного романа». Но в раскрытии этого понятия и начиналось расхождение с народнической доктриной.
Современная литература является «ярко общественной в своей основе», — писала Колтоновская, — потому что «она обратилась к философии, к вечным вопросам жизни, о человеке, о любви», которые вызывают «массовый» интерес. Всякое предположение о воздействии на пореволюционных авторов «политической реакции, упадка общественных сил» она считала «близоруким». В этюде о В.Г. Белинском Колтоновская отрицала принципы исторической критики, а силу Белинского видела «не в его теории, а в его нравственной сущности, в альтруистической натуре и органически светлом идеализме», подобно тому, как в это же время другой народнический критик С.А. Венгеров выдвигал на первый план «великое сердце» Белинского, недооценивая его мировоззрения. Социальный индифферентизм, сведение общественного к психологии, «натуре», рассмотрение художественных явлений преимущественно «со стороны темперамента или психологии» — все это во многом определило ее представление о реализме вообще, и в частности, о прозе Толстого.
«Старый, «вещественный» реализм, — писала Колтоновская, — достигший у больших художников пышного расцвета, отжил свое. Литература нащупывает возможности нового — того реализма, который давая нам внешнюю правду вещей, не утаивал бы и ее внутренней сущности, раскрывал бы в отдельных явлениях общий смысл жизни». Творчество Толстого, по ее мнению, как раз знаменует начало «нового реализма», так как Толстой, «может быть, незаметно для самого себя заглянул в самую сущность природы русского человека».
Свою мысль Колтоновская поясняла на примере образа Мишуки Налымова. «Это не только помещик, представитель оскудевающего дворянства, но и вообще русский человек, с широкой натурой, с богатыми задатками, но... без культуры». Таким образом, сущность человека — это то, что не подлежит социальной обусловленности. И эту мысль она уточнила спустя пять лет: «У героев Толстого есть одна общая родовая черта: «стихийность», они находятся «во власти инстинктов», «отличаются азиатской безудержностью». Теперь о социальной принадлежности персонажей даже не упоминается.
Соображения о «стихийности» Колтоновская подкрепляет анализом поэтики. Писателю помогает проникнуть в сущность действующих лиц «сатирический элемент». «Сатирический элемент, — утверждается в статье, — придает колоритно-национальным картинам и образам Толстого особенную выпуклость, делает их более убедительными, превращая простую реальность, правду в более значительную, символическую...» При таком толковании социально-критическое начало сатирического изображения не вскрывалось.
Итак, согласно Колтоновской, своеобразие манеры Толстого — в сочетании «простой реальности», «конкретности», «быта», написанного «сочными красками», и «символической правды», достигаемой с помощью «сатирического элемента». Она верно уловила своеобразную синтетичность, характерную вообще для реализма 1910-х годов, «соединявшего подчеркнутое влечение к вещному, предметному, любование густо замешанной материальной жизнью с особой экспрессивностью и символической многозначительностью образа».
Но, поддерживая синтез бытового и символического, Колтоновская была резко против «смешения бытового и идеологического», которое она обнаружила в рассказе «Четыре века». В
Ф.А. Степун — философ-иррационалист, критик, «всецело стоявший на позициях соловьевства». «Иррационализм В.С. Соловьева выражался прежде всего в ограничении разума». Отрицание роли сознания в творческом процессе пронизывает статью Степуна о Толстом.
В центре внимания Степуна — «талант» и «душа» Толстого. По Степуну, он — «настоящий художник», так как его «художественное чувство» лишено какой-либо интеллектуальной основы, оно «напоминает острые и безошибочные инстинкты перелетных птиц». Толстой потому прекрасно изображает состояния природы, что природа «дана ему не в сознании и даже не в Душе, но в крови, в ее ритмах и волнениях», а «сила и особенность таланта Толстого, — резюмировал Степун, — заключается в его бессознательной верности земле и жизни». Эта «верность» позволяет писателю «не воспринимать головой» современные ему «тенденции» и не «наряжать их с помощью своего литературного таланта». Настаивая на своем, Степун добавлял: «мысль, идея, миросозерцание отсутствуют в творчестве Толстого не в смысле узкой граждански-общественной или этически-наставительной тенденции, но в гораздо более основном и общечеловеческом смысле».
Такой сущности таланта соответствует и его творческая манера, суть которой в «умении дать зрительный рельеф без всякой попытки психологического анализа». «Живописный» дар сочетается с умением показать персонажи в «свете какого-нибудь анекдотического положения» и сообщить «громадное, но чисто внешнее движение». Степун тонко подметил, что «своих героев Толстой пишет... в том же настроении и теми же приемами, как он описывает старые сады, полусгнившие плотины». Особо обратил внимание на свойство «рассказчика Толстого» — «вовлекать в рассказ не подталкивая».
Мастерство Толстого при решающем условии «полной отрешенности от всякой... мысли, идеи, всякого миросозерцания» как раз и позволили писателю, как считает критик, создать «наиболее совершенное в его творчестве». Но стоит Толстому отступить от «ядра» своего таланта, и он терпит неудачи. Это случилось в романах «Хромой барин», «Две жизни» и пьесе «Насильники», потому что автор захотел «нечто прозреть, разгадать», обратился к «случайным для него обрывкам мысли». Фактически это означало рекомендацию не искать новых тем, новых героев. А в самом обращении к непривычным темам Степун видел тайную игру тоже «бессознательных» «душевных устремлений» Толстого, которые «нарушают правильность функционирования» его таланта.
Главное среди «душевных устремлений» — «гуманизм», т. е. «жалость к маленьким людям» в духе раннего Достоевского. К этому Степун добавлял «эстетизм», что означало «чисто поэтическое влечение к красоте», напоминающей стиль К.А. Сомова и В.Э. Борисова-Мусатова. Наконец, третье «душевное устремление» — «бред о невозможной любви», «эротизм».
Наиболее чужд таланту Толстого, полагал Степун, «гуманизм», потому что для его раскрытия нужна «атмосфера психологически углубленного романа и совсем иное мастерство в изображении тайников человеческой души, т. е. нужен тип художественного дарования, прямо противоположный тому, которым владеет Толстой». Наиболее близок — «эротизм», но пока для его выражения Толстой не нашел «своих» слов.
Все это приводило критика к выводу о «разрыве» между талантом и «душевными устремлениями». Будущее писателя связывалось с преодолением этого «разрыва». Степун указывал конкретные пути: «углубление формы рассказа до формы романа», поиск «своих слов» для выражения «эротизма», достижение того, чтобы «эстетизм равномерно регулировал все творчество». Одним словом, это была дорога совершенствования форм, мастерства.
Этот вывод был сделан без учета связей, ведущих от личности к эпохе, контактов таланта с действительностью. Критика интересовало только отношение таланта к «душе» художника», что обусловлено общей эстетической установкой: цель творчества не воссоздание действительности, а передача души художника. И хотя Степун, как мы видели, проявлял определенную эстетическую чуткость, все же предугадать будущее Толстого с занимаемых им позиций оказалось невозможным.
Весьма скупо писали о Толстом сторонники «социологического подхода к литературе» — такие, как В. Львов-Рогачевский, М.В. Морозов, В.П. Полонский. «Строгие, плавные тона реализма» (М.В. Морозов) Толстого они противопоставляли «бледно-зеленым тонам» Б.К. Зайцева. «Кисть сочна, фигуры красочны» — таковы их единичные, попутные замечания о манере Толстого. Равнодушие к поэтике было связано не только с социологизмом, но и с тем, что они мало интересовались художественной природой реализма. Статья Морозова была озаглавлена «Возвращение к быту». Реализм отождествлялся с бытописанием. Толстой представал бытописателем «дворянских нравов», подобно тому, как М. Горький назывался бытописателем «мещанских нравов».
В понимании В.П. Полонского Толстой «не интеллектуальный, бессознательный» художник, «безрассудно изливающий» свои наблюдения. «Реалистическую прелесть» прозы Толстого и этот критик понимал как результат бытописательства. К этому добавлялась социологическая оценка: Толстой дает «картину... разложения, умирания, конца» дворянских гнезд.
Тогда же о Толстом, «изображающем психическое и экономическое разложение современного дворянства», писал М. Горький.
Большевистские критики рассматривали прозу Толстого с точки зрения борьбы пролетариата за демократические и социалистические преобразования. Поэтому А.А. Дивильковский говорил о необходимых условиях — самостоятельности идейной позиции и знании революционной среды. Об этом будут напоминать Толстому ведущие критики 1920-х годов.
Но в условиях нового революционного подъема главным, по мнению большевистской критики, было то, что творчество Толстого показывает правду жизни, знаменует «возрождение реализма». Так была озаглавлена статья в газете «Путь правды», неоднократно цитируемая в работах о Толстом. В ней подчеркивалось общественное значение прозы Толстого, свидетельствующей о «возврате демократических кругов общества к жизни», происходящем в результате «подъема рабочего движения».
В целом дореволюционная критика внимательно следила за работой Толстого-прозаика. Главным был вопрос о реализме и реалистической поэтике. Он решался в сопоставлении с классической традицией и современной прозой: от критического реализма до модернизма. Критика была единодушна в том, что Толстой принадлежит обновляющемуся реализму (хотя само понятие «реализм» трактовалось весьма различно). Важным критерием тут было наличие преемственной связи Толстого с тургеневской прозой (пейзаж) и гоголевской (критическое освещение барского разложения, приемы сатирической типизации). Только Степун игнорировал роль национальной традиции, отрицательно оценивал влияние раннего Достоевского.
Большое внимание критика уделила поэтике Толстого. Статьи Дермана, Колтоновской, Степуна содержали ряд рациональных соображений о характере психологизма, функции рассказчика, о приеме «жеста». Однако они не выходили за рамки имманентного рассмотрения эстетических средств.
В дореволюционной критике был впервые поставлен вопрос о Толстом-романисте. Одни считали, что Толстой справится с романом, если усовершенствуется идеологически. Эта позиция подготовила вульгарно-социологические претензии 1920-х годов к автору «Хождения по мукам». Другая точка зрения заключалась в том, что роман — форма, неподвластная таланту Толстого, во всяком случае, требующая специальных усилий писателя на путях формального поиска. Эта позиция предвосхищала, в частности, некоторые построения формалистской критики 1920-х годов. Большевистская печать утверждала необходимость все большего изучения противоречий жизни. Эта тенденция будет развита марксистской критикой следующего десятилетия.
Л-ра: Филологические науки. – 1985. – № 3. – С. 16-21.
Произведения
Критика