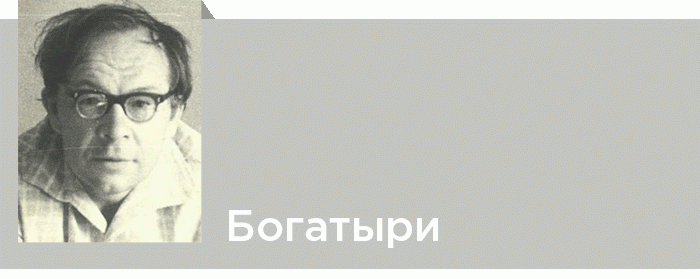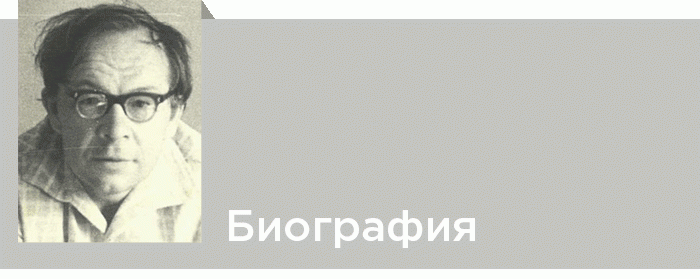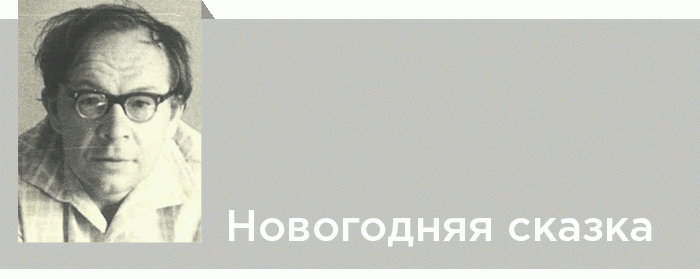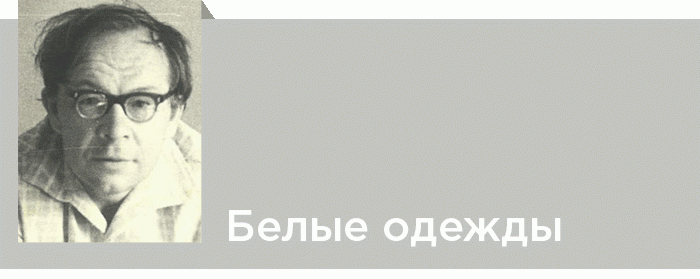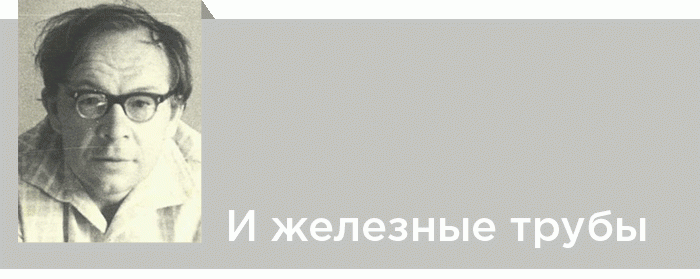Книга о добре и зле, или смерть Ивана Ильича

Е. Старикова
Трудно в наши дни писать для толстых журналов. Пишешь, и все вроде бы соответствует и твоему собственному отношению к текущему моменту и отношению к нему же редактора. Но проходит месяц-другой (а они и в условиях ускорения непременно проходят еще до сдачи номера в набор), проходят эти месяцы, и ты сама обнаруживаешь, что статья твоя на глазах стареет. То оказывается, что ломишься в открытую дверь со своими эмоциями. То, напротив, новые факты общественной жизни предлагают тебе ломать твой уже сложившийся сюжет. Нет, сейчас хорошо писать или для газеты, или для вечности. В первом случае — быть непосредственным участником уникального текущего момента, во втором — его удивленным летописцем. А еще лучше быть просто читателем газет, в которых самое интересное — читательские письма. Какие разнообразные, волнующие, страстные письма попадаются сейчас иной раз в газетах! Наши читатели, как выяснилось, умеют очень смело и искренне выражать свое мнение по всем вопросам далекого и недалекого прошлого. Наконец-то начинаешь ощущать, для кого ты пишешь, для кого хочешь, а для кого не хочешь писать.
Но как все-таки быть со статьей в толстом журнале, если автор ее непременно отстает от событий минимум на два-три месяца? Казалось бы, ответ прост: пиши как можно объективнее и спокойнее, чтобы и к моменту выхода в свет журнала твое слово не расходилось хотя бы с твоим собственным мнением. Вот так я и старалась написать о романе В. Дудинцева «Белые одежды», публиковавшемся в начале истекающего года в журнале «Нева». Роман этот, на мой взгляд, — из значительнейших явлений современной литературы, сразу же по выходе в свет он был отмечен вниманием и литературной общественности и широкой публики. Роман вызвал поток сочувственных писем читателей, а критикой был поставлен в соответствующие ряды типологически общих явлений текущей литературы.
Так, еще в июне Ю. Андреев в статье «Противостояние» («Правда» от 14 июня 1987 года) объединил роман В. Дудинцева с романом Д. Гранина «Зубр» и повестью В. Амлинского «Оправдан будет каждый час...». Драматические судьбы советских генетиков в период расцвета лысенковщины, реконструированные и возвращенные к жизни писательским словом, действительно позволяют поставить эти произведения рядом. Они — свидетельство еще одного шага на пути восстановления правды об истории нашего общества. Хотя в других отношениях их скорее можно рассматривать по контрасту: документально-лирические свидетельства Д. Гранина и В. Амлинского и построенный тоже на исторических фактах, но обогащенный воображением, смелой фантазией, откровенным сарказмом роман В. Дудинцева.
В иной сравнительный ряд поместил роман В. Дудинцева Дмитрий Иванов в статье «Что позади?». Автор «Огонька» (1987, № 32) выстроил произведения и текущей и прошлой литературы в качестве единого правдивого свидетельства некоторых переломных моментов истории нашего общества с начала 30-х и до конца 40-х годов: «Поднятая целина» М. Шолохова, «На Иртыше» С. Залыгина, «Мужики и бабы» Б. Можаева, «Дети Арбата» А. Рыбакова, «Васька» С. Антонова, «Белые одежды» В. Дудинцева. Представительный ряд! Но не спросят ли автора статьи: а как же можно из этого исторического ряда исключить войну? Самый обычный аргумент защитников сталинской политики 30-х годов: без него мы бы не выиграли войну! Где уж нам что-нибудь совершить самостоятельно. И в победах и в поражениях привыкли искать причину на стороне. А не пора ли поставить вопрос иначе: а может быть, без него, без его методов коллективизации и индустриализации и наши потери в войне были бы меньше? Во всяком случае на такие размышления наводит статья Дмитрия Иванова «Что позади?»
Недвусмысленно страстная оценка роли сталинского террора в нашей жизни действительно объединяет роман «Белые одежды» прежде всего с романом А. Рыбакова «Дети Арбата», публиковавшимся в «Дружбе народов» почти одновременно с дудинцевским. И политический критерий сближений и разъединений, конечно, особенно существен.
Ни для кого не секрет, что сегодня наше общество при всех бесчисленных оттенках его настроений и устремлений очень четко разделилось именно по этому морально-политическому признаку: отношение к тайным, ибо о них десятилетиями не принято было говорить вслух, событиям 30—40-х годов определяет представление каждого из нас о желаемом будущем — или простое и косное воспроизведение в нем недавнего прошлого, или коренная его перестройка. Нет, никогда не должно повторяться то, что В. Дудинцев в своем романе назвал охотой за «черной собакой» и что более часто в исторической публицистике обозначалось выражением «охота на ведьм», — политические манипуляции настроениями человеческих масс при помощи искусственно созданных жупелов. Мне представляется настолько ясным, на чьей стороне нравственная правда и историческое благоразумие, что и возвращаться к этому вопросу в связи с романом В. Дудинцева я не буду. Для неосведомленных, не успевших прочитать «Белые одежды», скажу, что автор романа, правдиво и страстно изображая эпизод из истории гонений отечественных генетиков карьеристами и невеждами, не скрывает от своих читателей масштаба наших уже послевоенных научных, а потому и хозяйственных, и нравственных, и людских потерь в результате широкой практики подобных охот за очередной изобретенной «черной собакой». Иван Ильич Стригалев, один из героев романа, предупреждает гонщиков на такой охоте: «Природу силой не больно возьмешь... отстанем на полвека. И начнем голодать...» Но полвека — не масштаб для таких «охотников», их масштаб — сиюминутная похвала сегодняшних начальников. При этом, оказывается, и полвека довольно быстро истекает. Роман «Белые одежды» написан на основе изучения реальных фактов сорокалетней давности, многие его герои имеют подлинных прототипов, их драмы — настоящие, а не выдуманные. О том свидетельствуют и документы и живые очевидцы тех событий. И в оценке их общего смысла у В. Дудинцева нет никаких «с одной стороны» и «с другой стороны». Любителям подобной «диалектики» в простых вопросах истории и морали политическая и нравственная определенность романа не может нравиться. Теми, кто отвергает удобную «диалектику», роман не может не быть высоко оценен за его высокий гражданский пафос, за восстановление в нем исторической справедливости, за его нравственную определенность.
Однако при любом отношении к «Белым одеждам» роман остается сложным художественным явлением. И мне до недавнего времени казалось, что почти через год после его выхода в свет полезно после всех непосредственных эмоций спокойно и объективно рассмотреть это густонаселенное, остросюжетное, стилистически многослойное произведение именно со стороны его художественного своеобразия. Надо ли при этом оговаривать, что художественность всегда сплавлена с нравственным смыслом произведения? А еще вернее, она-то и есть наиточнейший ключ к этому смыслу. Потому-то и казалось мне необходимым задержать взгляд читателя на некоторых частностях, в том числе и на неудачах писателя.
Стремление к предельной объективности сопровождало написание данной статьи до тех пор, пока 14 августа 1987 года я не прочитала в «Книжном обозрении» письмо в редакцию Татьяны Ивановой «Мини-„Белые одежды"», где критик с тревогой и гневом рассказала о том, что «Роман-газета» собирается выпустить в 1988 году сокращенный вариант произведения В. Дудинцева. Редактор «Роман-газеты» мотивирует свое намерение обычным для всех трудных случаев аргументом — нехваткой бумаги. Для всего хватает, только для писателя, молчавшего в течение двадцати лет, снова, видите ли, нет этой самой уже не реальной, а сакраментальной бумаги! Татьяна Иванова пишет: «Подвергать замечательный роман вивисекции прямо-таки варварская акция. Товарищ редактор!.. Не задумываясь, ни минуты не колеблясь, я отказалась бы от издания собственной книжки с просьбой передать всю бумагу роману «Белые одежды». Я почти стопроцентно уверена, что авторы книг, перечисленных в списке выходящих в «Роман-газете» в 1988 году, тоже пошли бы на жертвы, чтобы спасти роман «Белые одежды», от себя оторвали бы недостающие Дудинцеву листы... Можно бы, в конце концов, бросить клич по стране: собирайте макулатуру, иначе вам не удастся прочитать роман В. Дудинцева «Белые одежды» в полном объеме. Я уверена, мы собрали бы миллионы тонн».
Прочитав это страстное воззвание, и я пришла в ужас, когда представила себе, что именно и как можно сократить в романе, чтобы «Белые одежды» утратили свою белизну. И тут же судорожно стала вспоминать драматические эпизоды из истории советской издательской практики. История эта в чем-то достойна истории генетики. С драмой изданий советских классиков я столкнулась в конце 50-х годов, когда решено было выпустить вновь сочинения некоторых писателей 20—30-х годов. Существует закон, соблюдающий авторскую волю: после смерти писателя должно воспроизводиться последнее прижизненное его издание. Но вот при переиздании, например, Л. Сейфуллиной оказалось, что эти-то последние издания вовсе и не являются волей автора, а являются скорее свидетельством его безволия, его вынужденного согласия на исправления, которые впоследствии были признаны специалистами порчей текста, искажением его индивидуального и исторического своеобразия. Тексты пришлось восстанавливать по ранним изданиям. Воля автора как закон хороша, когда автору не выламывают рук. Наше общество некогда допускало такую издательскую практику. Сейчас, судя по письму Т. Ивановой, оно активно взбунтовалось против нее. Надо ли говорить, что автор данной статьи потому и рассказывает о ней, что солидарен с теми, кто защищаем действительную волю живого и тем более долго молчавшего автора.
Но как мне быть со своим собственным мнением, если я не считаю, как Татьяна Иванова, что в замечательном романе «Белые одежде» все — совершенство, «нет ни единого напрасного слова»? Напрасного действительно нет, но спорные — есть. И на этот счет читательских мнений тоже достаточно.
После некоторых раздумий я решилась все-таки оставить в статье все свои частные сомнения. Неужели же мне из тактических соображений кривить душой? Куда нас снова заведет такая тактика? Только оговорюсь еще раз и окончательно: критические соображения не имеют ничего общего с издательской практикой, а тем более не распространяются на распределение бумажных фондов. При всей нашей бедности мы все-таки достаточно богаты, чтобы издать В. Дудинцева в том виде, в каком на то его авторская воля.
Итак, должна признаться, что при первом знакомстве с «Белыми одеждами» меня коробили именно некоторые частности. Особенно на самых первых страницах. Действие романа начинается через месяц после печально знаменитой сессии ВАСХНИЛ 1948 года, когда Лысенко и К°, прикрываясь именем Мичурина, наконец-то подмяли под себя «высший эшелон» отечественной биологии, когда уже отреклись от того, чем занимались всю жизнь и на чем стояли два дня назад, поклялись в верности «народному академику» его вчерашние убежденные противники. «Пусть прошлое, которое разделяло нас с Т.Д. Лысенко... уйдет в забвение», — заклинал с трибуны академик П.М. Жуковский. «И я... категорически заявляю своим товарищам, что впредь буду бороться с теми своими вчерашними единомышленниками, которые этого не поймут и не пойдут за мичуринским направлением», — заявил С.И. Алиханян. Действие романа В. Дудинцева начинается через месяц после этих столичных событий, то есть в сентябре 1948 года, когда пламя инквизиторских костров должно было быть перенесено по воле «народного академика» в провинциальные научные центры. В один из них и приезжает эмиссар академика Рядно тридцатилетний Федор Иванович Дежкин — скромный, преданный, способный и потому уже начинающий сомневаться в абсолютной истинности учения своего покровителя. В институтском парке мимо Федора Ивановича, как на просцениуме, проходят будущие участники драмы. «Проход» реалистически объясняется тем, что ученые имеют обыкновение с утра получать спортивную зарядку: одетые в кеды и тренировочные костюмы, они и мелькают перед тем, кто среди них уже назван заочно Торквемадой, то есть великим инквизитором, посланцем самого папы. И вот эти бытовые подробности: кеды, ковбойки, тренировочные костюмы, бег трусцой, цветные лыжные шапочки, а далее — упоминание овощной базы, куда посылают ученых, курение сигарет (а не папирос, что более соответствовало бы изображаемому времени), популярное в 70-е годы выражение «до лампочки», упоминание как известного образца женских портретов Модильяни, фотографии обнаженных фигур из иностранных журналов (это в 1948 году?!) в комнате поэта Кондакова, цитаты из Библии в устах демократических кандидатов сельскохозяйственных наук — все это реалии из другой, более близкой нам эпохи, из эпохи многолетнего создания романа, но не его действия поначалу такие подробности сбивали, настораживали. Рядом с документальной точностью фактов и дат они выглядели недопустимой небрежностью.
Настораживало и другое: в иные моменты казалась уж слишком нарочито обостренной детективность сюжета. Нет, не там, где в конце романа выбравшие окончательно свой путь его герои спасают от преследователей выведенные генетическим методом сорта картофеля. Там напряжение сюжета соответствует напряженности идейно-политической борьбы. А каких только «детективных» поворотов на самом деле не было в этой борьбе! Но уж очень долго, по-детски настойчиво заставляет автор своего любимого Федора Ивановича мучиться ревностью к таинственно исчезающей возлюбленной, оказавшейся секретарем тайного генетического общества — «кубла», на изящном языке академика Рядно. Ну, а уж цветные скрепки (откуда сие в 1948 году?), рассыпав которые в брачную ночь, Федор Иванович должен был будто бы открыть мнимую неверность своей юной жены? Нет, нет, это уж слишком надуманно, это безвкусно...
Но когда снова задаешь себе вопрос: ну, зачем же Модильяни, о котором у нас в 1948 году мало кто думал, и Овощная база, которая тогда была в стороне от науки, зачем кеды и «до лампочки», — то тут же возникает и контрвопрос: ну, а так ли тебе все это важно? Только ли о далекой исторической драме, о советских генетиках роман Дудинцева? Когда ты вошел в главную струю его сюжетного развития — противостояние убежденных ученых лженауке, когда ты настроился на высокую волну главной этической темы романа — на доказательство «великой самостоятельности нашего сознания», когда ты вошел в особую поэтику романа — одновременно и верную фактам истории и гротескно-причудливую, тогда пришла мысль: а не есть ли «небрежности» во внешних подробностях — знак устремленности автора к некоему сверхобобщению, где само смещение временной перспективы — результат и способ расширения смысла данной истории? Писатель захвачен не только драматическим эпизодом из существования отечественной науки, но и постижением вообще «тайны» поведения «человеческой популяции», говоря на языке биологов, и отдельной личности в экстремальных ситуациях. Истории без героев и без подлецов не бывает, убеждает нас писатель.
И название романа, заимствованное автором из Библии, говорит о такой устремленности писателя от конкретного трагического факта истории к предельному его обобщению. Я позволю себе привести здесь те отрывки из «Откровения» Иоанна Богослова, которые породили название романа В. Дудинцева: «Знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв... Впрочем, у тебя... есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они достойны... Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни... Один из старцев спросил меня: сии облеченные в белые одежды кто и откуда пришли? Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровию Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь».
Любое из этих изречений могло стать эпиграфом к книге В. Дудинцева. Он выбрал лишь опознавательный знак этого места Апокалипсиса — белые одежды.
В одном из своих выступлений 1987 года Ч. Айтматов говорил о новой ступени художественного развития советской прозы, сравнивая ее тенденции с господствовавшим еще недавно в нашей литературе «бытоописующим» романом: «...Искусство может подняться на другой, как мне кажется, более высокий уровень, когда оно приобретает универсальное значение. Это уже новый горизонт, и тогда оно обращается не только к бытовым деталям, не только к тому, что происходит в действительности, но обращается к мифу, легенде, к каким-то крупным философским обобщениям... соотнося изображаемое не только с реалиями в каком-то небольшом регионе и определенной среде, но пытаясь распространить это на всю человеческую сущность. Быть может, наша литература только сейчас делает попытку ступить на эту ступень».
Конечно, советская литература делала такие попытки и раньше, конечно, Ч. Айтматов говорил в первую очередь о своем писательском опыте. Но и то безусловно, что усиление данной тенденции порождено сегодняшней необходимостью глобального масштаба в измерении любого частного явления — в пространстве и во времени. Если мы вынуждены соотносить свое будущее с будущим всего человечества, а, кажется, ни у кого не осталось сомнений в такой необходимости, то и корни современных событий мы ищем в глубинах истории человечества.
У В. Дудинцева нет прямого выхода к мифу, как в «Плахе» Ч. Айтматова или в романе В. Тендрякова «Покушение на миражи». Способы философских обобщений в «Белых одеждах» — умственные разговоры героев, склонных выражать мысли в законченных формулах этического смысла, и сквозные поэтические метафоры. Повторяясь и варьируясь, они обретают символический смысл, обозначают ведущие мотивы и темы. С помощью такой повторяющейся метафоры усиливается смысловая нагрузка и на, казалось бы, самую реальную и будничную подробность. Способы в мировой литературе не новые, но приложенные к новому содержанию, они, как показал роман В. Дудинцева, сохраняют жизнеспособность, хотя и таят в себе опасность отвлеченности.
Поняв сверхзадачу писателя, ради правды и прямоты ее выражения ты отметаешь коробящие частности, небрежные подробности, искусственность в построении иных психологических этюдов, нагнетание сюжетной занимательности.
Ведь мы сами были пусть и пассивными, но участниками такого рода трагических шоу, которые в полном соответствии с истиной изобразил автор «Белых одежд», передавая, например, атмосферу общих собраний во времена, когда «многоголовое безумие вот уже несколько лет все сильнее давало о себе знать» и «огромная страна содрогалась от этой дури». Или только генетики подвергались подобного рода травле? Или не слышали мы таких же зловещих обвинений в театре, литературе, музыке? Вот и В. Амлинский в своей лирической повести сегодня подтверждает: «Лысенки от культуры оценивали оперу Шостаковича как сумбур вместо музыки, громили Ахматову, Платонова, отторгали от отечественной словесности Достоевского, Цветаеву, Зощенко, Бунина... Многие вариации Лысенко задавали тон, диктовали, говорили от имени народа. Им противостояла руганая, оболганная, отбивавшаяся от их нападок, клеветы, давления, ярлыков несломленная отечественная интеллигенция». Хотя и не совсем понятно, почему в этом перечне разделены Ахматова и Зощенко, но спасибо за слово защиты оболганной не единожды интеллигенции. Хотя Дудинцев здесь точнее Амлинского: была и несломленная, была и погубленная, но была и сломленная. Комические супруги Вонлярлярские в «Белых одеждах» — пример таких сломленных. Не самый гадкий пример, но пример, достойный той карикатуры, которую нарисовал В. Дудинцев. Видели мы и таких, но чаще было не до смеха. Смех приходит позднее.
Сцены общих собраний биологов в «Белых одеждах», в которых изображено, как прорабатывают генетиков, я не могла читать и не могу перечитывать без нервной дрожи. Это даже не эстетическое воздействие, это прямое воздействие разбуженной исторической памяти. Ты вновь вживе ощущаешь молодое свое недоумение перед беспардонной наглостью хищного гона намеченной заранее жертвы. И больше, чем покаяния не виновных, но обвиняемых, потрясало, когда твой ровесник, вчерашний твой товарищ, такой же студент или аспирант, вдруг публично обрушивал на седую (или молодую) голову учителя нелепейшие, дикие, невежественные домыслы и оскорбления. В науке можно пытаться что-то доказать — но что можно доказать в литературе, в музыке? Пытались, доказывали. Это страшное и жалкое зрелище осталось навсегда перед глазами. Но кто, как и когда сумел выбрать твоего ровесника и тайно подготовить его к роли молодой резвой гончей? Как именно это делалось? За одно то, что В. Дудинцев рассказал об этих «тайнах», великая ему благодарность. Эти «тайны» так нехитры, грубы и кровавы: «Массовые психозы хорошо удаются, когда они кому-нибудь выгодны». Как в любом преступлении: ищи, кому оно может быть выгодно.
Знали или не знали — вот постоянная до сих пор тема упоров свидетелей тех старых и страшных событий. Я не верю в невинное незнание смысла происходящего теми, у кого гоны проходили на глазах, то есть нынешним старшим поколением начиная примерно с моего собственного, того, которое старшеклассниками встретило войну. Знали. Но одни хотели знать и знали, а другие не хотели знать и делали вид, что не знают. Но, может быть, знали без подробностей, в общих чертах? Нет, скорее именно случайные подробности тщательно скрываемых тайн с неопровержимой доказательностью свидетельствовали о преступлении. Газетные обличения мы могли иной раз и пропустить: наши молодые глаза к ним с детства привыкли. Но как могло удасться тем, кто не знал, уйти, спрятаться от мелких, лезущих в глаза подробностей? Все от всех не спрячешь.
Помню зловеще-веселую вечеринку начала 1953 года в тесной комнатке одного из арбатских переулков. У многих из присутствующих молодых людей были основания пребывать в приподнято-настороженном настроении: в воздухе угарно пахло дымом инквизиторских костров. Я в доме этом была впервые, и мне бросился в глаза стоящий на краю старого буфета мужской фотографический портрет в рамке. Я спросила у молодой хозяйки дома, кто это. «Сабинин. Мой учитель». И чувствую, что больше спрашивать не надо. Мы тогда хорошо чувствовали, когда надо остановиться в расспросах. Но тут же сквозь звон разнокалиберных стаканов чей-то разъясняющий шепот: «Биолог. ВАСХНИЛ. Самоубийство. Лысенко». Имевший уши слышал, имевший глаза видел. Ветер истории проносится слишком низко над нашими головами, чтобы не видеть и не слышать.
Я не знаю, может быть, это только на нас, кто был свидетелем излюбленных спектаклей великой, но, к счастью для оставшихся в живых, истекающей эпохи, так безотказно и сильно действуют историческое знание, историческая правда, которые несет в себе роман В. Дудинцева? При всей авантюрной увлекательности его сюжета он нелегок для понимания и, вероятно, спорен в отдельных отвлеченных суждениях автора и героев, а роман до предела насыщен их мыслями и разговорами.
Но вот педагог В. Свирский из Риги пишет в «Известиях» статью «История умалчивает» о недостатках школьных учебников по истории: «Посмотрите, как в 10-м классе трактуется печально знаменитая сессия ВАСХНИЛ: «В области биологии у советских ученых тоже имелись определенные достижения. Но после состоявшейся в 1948 году сессии Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук, президентом которой в то время был Т.Д. Лысенко, здесь воспреобладало направление, теоретические положения которого в дальнейшем не получили экспериментального подтверждения и не нашли производственного применения». Это, безусловно, шедевр! — восклицает автор статьи в «Известиях» (а мы можем добавить, что примерно то же написано о Лысенко в БСЭ) и продолжает:— От ученика исхитрились скрыть главное: почему «воспреобладало» и к каким тяжелейшим последствиям это привело... По форме вроде бы не такой уж и грех против правды, а по сути — кощунство! Издевательство над здравым смыслом, наукой (и биологической и исторической), памятью. А ведь какая возможность открывается тут перед авторами учебников! Побеседовать с юным читателем об истинном служении науке, о ее героях. Рассказать о тех, кто не отрекся от идеи, не прислуживал конъюнктурщикам. Показать, что подвиг Н.И. Вавилова и других ученых сродни подвигу Дж. Бруно».
Но пока таких учебников нет. Они не написаны. Пока их пишут, пусть молодые люди, читая нынешние журналы и книги, думают. Книги о противостоянии отечественных генетиков очень разные, но в каждой из них есть доля исторической истины.
Имя биолога Сабинина входит в траурный список жертв Лысенковского террора, приведенный в тексте романа «Белые одежды». Роман своеобразно построен в смысле смелого соединения документальных фактов, подлинных имен и свободного художественного вымысла. Главные действующие лица в «Белых одеждах» — то, что называется «типические художественные образы», и часть из них — образы ярко гротескные. А рядом как достоверный фон присутствуют и упоминаются лица исторически подлинные: Сталин, Лысенко, тогдашний министр Кафтанов. И мемориальный перечень подлинных имен ученых-биологов, противостоявших научному шантажу и блефу, замыкает имя вымышленного подвижника и мученика. Вот этот список, его не грех повторить: Н.И. Вавилов, Г.Д. Карпеченко, Д.А. Сабинин, Г.А. Левитский, Н.М. Тулайков и... герой «Белых одежд», создатель нового морозоустойчивого сорта картофеля Иван Ильич Стригалев. Его гибель входит в авторский нравственный итог истории, лежащей в сюжетной основе романа, отразившего главный смысл событий конца 40-х годов в отечественной биологии.
Имени Стригалева, естественно, нет в стенографическом отчете сессии ВАСХНИЛ 1948 года «О положении в биологической науке». В. Амлинский в своей повести об отце процитировал целые страницы из этой увлекательной книги, и они читаются здесь как законченная драма. Но вот она и сама передо мной — эта книга, библиографическая редкость, изданная в 1948 году двухсоттысячным тиражом и, кажется, не сжигавшаяся на задних дворах институтов и библиотек в отличие от книг генетиков. А какой памятник инквизиторских обвинений, пристрастных публичных допросов, прямого переведения научных вопросов и человеческих судеб «в идеологическую плоскость», а также попыток мужественного противостояния и, увы, униженных покаяний даже и замечательных людей!
Который раз при обращении к нашей истории задаешь себе вопрос: что двигало кающимися перед очевидной для них ложью? А что двигало Галилеем?
Роман «Белые одежды» с психологической точностью и пластической убедительностью отвечает на этот вопрос образом и судьбой академика Посошкова: история приспособления, расчетливого отступничества, мужественного покаяния и, наконец, самоубийства.
Образ пропасти и провала, сопутствующий с самого начала появлению Посошкова в романе как увертюра к теме, символизирует гибельность такого пути. Гибель могла быть рамой, могла растянуться на годы. Эпикуреец, он выбрал судьбу Петрония. Страх утонченных чувств перед изощренно грубым унижением, страх избалованного эстета перед силой, страх просвещенного ума перед тупым торжеством невежества — все эти виды страха иногда оказываются сильнее страха самой смерти, освобождающей смерти. В ярком белом свете драгоценной лампы, в отблесках не менее драгоценной картины известного художника, под звуки возвышающей душу музыки уходит из жизни академик Посошков, и гибель его остается в памяти читателя как законченное и ясное живописное полотно: красота не совместима с подлостью.
А вот поведение центрального действующего лица в романе «Белые одежды» — Федора Ивановича Дежкина — не так ясно, как его учителя академика Посошкова. Но прежде чем попытаться в нем разобраться, обратим внимание на некоторые «частности» романа В. Дудинцева — они того заслуживают. Несмотря на отмеченные нами «небрежности», роман написан очень изощренно.
Случайны, например, или не случайны имена главных его действующих лиц: Федор Иванович Дежкин и Иван Ильич Стригалев? Иван да Федор — и внимания сначала не обратишь на эти наипростейшие имена. Тем более что в обширном, густонаселенном романе В. Дудинцева есть и Михаил, и Василий, и Алексей, и Александр. Любое из этих имен кажется легко заменяемым. Но читатель романа довольно скоро начинает замечать некую особую, усиленную, смысловую нагрузку на выбор автором некоторых имен. «Был Бревешков, а стал Красновым, был Прохором, теперь ты — Ким», — сочиняет поэт Иннокентий Кондаков, колоритнейший персонаж романа, чьи стихи то и дело по разным поводам врываются в прозу и играют свою сюжетную роль. Эти же комические строчки о Киме Краснове, некогда носившем имя Прохора Бревешкова, особенно запоминаются. Обыгранная поэтом замена имени — знак маски, личины опричника. Сегодня скорее можно было бы встретить обратную замену — в сторону, так сказать, народных начал, сегодня Прохор был бы для подобного деятеля подарком судьбы. Но ведь роман все-таки, даже при смещенности некоторых внешних реалий, относится к событиям почти сорокалетней давности. Иные времена, иные вкусы.
Например, Спартак Степанович — еще один персонаж «Белых одежд». Здесь несколько комическое сочетание античного героического имени с прозаически-домашним отчеством — простой знак невежественности сытого бюрократа, знак мнимой величины.
Ну а сколько оттенков в сложной шре разных звучаний имени самого Рогатого — «народного академика» Рядно, одного из запевал «лысенковско-мичуринской науки», обер-егеря в данной охоте, по слухам, распивающего чаи с самим Сталиным и одним этим предполагаемым фактом защищающего свои идеи от проверки? Можно о таком явлении написать так, как написал В. Амлинский: «Многие творили легенду о «народном академике», сознательно и бессознательно лгали, а некоторые и верили по невежеству. Писатели и кинематографисты, ничего не понимавшие в науке, даже воспевали его, получая за это почетные звания и премии. Но что с них спросить — приспосабливались ко времени, не ведая да и не желая понять истину, бойкие пропагандисты передовых идей». Странная, конечно, для писателя снисходительность к коллегам по перу, но, вероятно, это лишь небрежность чисто публицистического слова. У В. Дудинцева же «народный академик» воссоздан в пластический образ, где каждая подробность внешности, жеста, а особенно речи раскрывает общий смысл явления. Фигура Рядно — самая замечательная художественная удача романиста. И тем более интересна авторская игра вокруг его особенного и тоже имеющего «двойнические» свойства имени: деревенское — Касьян Демьянович настойчиво возводится академиком в византийское — Кассиан Дамианович, указывая на ампирные вкусы героя эпохи и на не менее ампирные его притязания на единодержавную власть в данной области — в биологии, в этой тихой науке, ставшей вдруг на несколько лет одной из центральных гладиаторских арен империи. Но только ли такой смысл в имени Рядно? «Не переиначивай батькины мысли!» — отечески осаживает академик «своего Федьку», поучая сынка, что «карьеризм... свойство всей мыслящей материи». «Батько Рядно» — не слышится ли вам за этим новым, но словно бы и знакомым звукосочетанием ночной топот лихих коней, шелест черного пиратского знамени, разбойничий посвист нагайки в степных просторах — страшный известный аккомпанемент революции? Батько Рядно — батько Махно... Да неужели случайны у художника такие звуковые ассоциации? Могло бы ведь быть и трехсложным это зловещее обозначение Рогатого, ан нет, хватит и двух слогов, они-то многое и подскажут: хоть и в академических рамках дискуссий и экспериментов, а все то же — грабеж, наглый обман, анархия невежества, завораживающая обаянием народной стихии и почвы, и в перспективе — черное клеймо истории на века.
И чем внимательнее вглядываешься в многослойный роман В. Дудинцева, тем настойчивее возникают постоянные ассоциации и вокруг этих имен: Иван Ильич и Федор... нет, все-таки только Иванович, а не Михайлович. Последнее было бы уж слишком прямо и назойливо в романе, где имя Достоевского упоминается не раз. Оно здесь явный опознавательный знак литературной традиции, романной школы, философской преемственности, этического ориентира. Упоминается «Преступление и наказание», упоминается «Идиот». Мало того, духовное «братание», «двойничество» соперников в любви — прямая сюжетная цитата из «Идиота». А вот «Бесы» не упоминаются. А могли бы. Очень даже могли бы.
В некий провинциальный город съезжаются вдруг тайные и явные эмиссары из центра, друзья-враги... Если бы здесь еще упоминались и «Бесы», это было бы уж слишком прямо. Эстетика тоже предпочитает намек и иносказание, как выражается В. Дудинцев по поводу иной области человеческого бытия.
Имени Толстого в романе нет. Толстого нет, а смерть Ивана Ильича есть. И молчаливая гибель того, кто носит такое неприметное и знакомое имя — Иван Ильич, — представляется также знаком и скрытой ассоциации и скрытой полемики.
Мне могут сказать: что за натяжка по столь внешнему поводу? У Толстого речь идет о благополучном чиновнике, только перед смертью задумавшемся о смысле жизни и прозревшем, что он жил не так, как надо. Здесь же, в «Белых одеждах», имя Ивана Ильича носит бывший лейтенант Отечественной войны, освобождавший узников фашизма, стойкий солдат отечественной науки, уже однажды отсидевший лагерный срок за свою стойкость, русский интеллигент в самом благородном смысле этого слова, человек, не очень-то заботящийся о своих удобствах и пренебрегающий своими страданиями. Ложка каши и глоток сливок из специальной бутылочки, носимые больным в кармане, — вот и все внимание к своему страдающему телу, в то время как героя Толстого телесные муки поглощают целиком. Что же общего, кроме имени?
«Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная и самая ужасная», — пишет Толстой. Ужас обыкновенного и невыносимость того, что сам ужас становится обыкновенным. Конкретное наполнение этой формулы в XIX и в XX веках (ровно сто лет разделяют двух Иванов Ильичей) совершенно различно. Нравственный итог XIX века, выраженный Толстым, заключался в недопустимости для человека бессмысленной жизни, вне служения другим людям. Нравственный итог XX века заключается в призыве к ответственности тех самых людей, назовите их как хотите — «коллектив», «масса», — которые, не замечая подвигов во имя их, с аппетитом проглатывают личность.
В романе В. Дудинцева, в обширном пласте философских и этических размышлений героев, постоянно возникает описание картины Антонелло да Мессины на известный сюжет казни святого Себастьяна. В разные моменты судьбы героев романа картина как бы поворачивается к ним и к читателю разными своими значениями. Одно из ее толкований такое:
«Вот видишь, на переднем плане человек. Умирает. Не зря умирает, а за идею. А все равно тяжело. А сзади — те, для кого он шел на опасное дело. На балконах горожанки вывесили ковры... Женщина стоит с младенцем, погрузилась в свое материнство. Ну — ей разрешается. Пьяница на мостовой грохнулся и спит. Вдали, посмотри, два философа прогуливаются в мантиях. Беседуют. Солнце ходит вокруг Земли или Земля вокруг Солнца?.. Ничего еще не доказали, а в мантию уже влезли. А вот тут, справа, два военных. Беседуют о том, как провели вчера ночь. «Канальство, — один говорит. — В пух проигрался, туды его... Но выпивка была знатная. Еле дорогу нашел в казарму». И другой что-то серьезно толкует. А тут человек умирает, в самом центре площади. И все, видишь, ухитряются этого не замечать! Им до лампочки, Федька. Абсолютно до лампочки всем... Когда жгли у вас книга на хоздворе, я все время смотрела на эту картину...»
Кстати, этот рассказ одной из героинь романа о равнодушии массы к жертвам и жертвоприношениям характерен и для стиля «Белых одежд». В качестве примера этого свойства «человеческой популяции» — старинная итальянская картина, в качестве научной гипотезы — вращение Земли вокруг Солнца, в качестве речевой выразительности — и совсем гоголевское «канальство» и наше сегодняшнее «до лампочки», этот стилевой сплав, эта речевая амальгама как раз и свидетельствует о том, о чем говорилось выше: об устремленности автора «Белых одежд» от достоверных исторических фактов к предельному обобщению морально-философских истин. Одна из них и последует тут же за описанием картины казни святого Себастьяна: «Практика жизни установила... точно установила, что зло и вчера и сегодня было и будет одно и то же. Нечего запутывать дело! И вчера и сегодня оно выступало в виде умысла, направленного против другого человека, чтоб причинить ему страдание. Практика жизни с самых первых шагов человека во всех делах ищет прежде всего цель делающего. Я бы сказал, первоцель. Она смотрит: кто получает от поступка удовольствие, а кто от того же дела страдает. С самого начала начал — три тысячи лет назад в самых первых законах был уже записан злой умысел. Злой! Он уже был замечен человеком и отделен от неосторожности, в которой злого умысла нет. И этот злой умысел так и переходит без изменений из столетия в столетие, из закона в закон. Вот это и есть факт, доказывающий историческую неизменяемость зла. Безвариантность...»
В этой своей уверенности В. Дудинцев выступает прямым продолжателем наших великих писателей-мыслителей прошлого века. Однако они, так много предвидевшие и о стольком нас предупредившие, были обеспокоены, быть может, в первую очередь возможным отказом будущего человечества от религиозных основ нравственности.
Роман Дудинцева насыщен библейскими цитатами и евангельскими ассоциациями в не меньшей степени, чем романы Достоевского. Таким способом современный писатель укореняет частный сюжет из истории советской науки в истории человечества. Однако В. Дудинцев утверждает своим романом силу нравственности, основанной не на вере, а на знании. На знании научном, на знании историческом, на знании этическом. На стремлении к точному знанию, на доверии к добытому знанию, на стойком следовании знанию, в котором ты убежден. Доверяя — проверяй!
Но так ли уж далека эта этическая убежденность от той, которую провозглашала религия великих русских писателей XIX века, и в первую очередь Толстого? «Ему вдруг открылась совершенно новая для него вера, разрушившая все то, во что он прежде верил, открылся мир здравого смысла. Поражало его... больше всего здравый смысл, признаваемый обязательным для всякого познания. Поразило то, что надо верить не тому, что старики сказывают, даже не тому, что говорит поп, ни даже тому, что написано в каких бы то ни было книгах, а тому, что говорит разум. Это было открытие, изменившее все его мировоззрение, а потом и всю его жизнь», — рассказывает Толстой о крестьянине Егоре Кузьмиче и, конечно, о самом себе («Нет в мире виноватых»).
Вековой круг, пройденный человечеством по путям, только в самых общих чертах предсказанных великими умами, сопровождался и сопровождается преступлениями такого масштаба, что и ими они не могли быть угаданы. Это заставляет и нас, обыкновенных людей, и наших лучших писателей особенно снова и снова искать ответа на вопрос: где же пролегает граница между верой в безусловные истины и точным знанием этих истин? Эти, казалось бы, отвлеченные и общие вопросы на протяжении нашей жизни то и дело оборачивались своей практической, своей мучительной, своей кровавой стороной. Сегодня человечество казнит последних преступников фашистских злодеяний — последних не потому, что возмездие совершилось и их уже мало осталось, а потому, что т а, наша, эпоха истекает. А ведь многие из преступников верили, что и они служат истории, высоким ее идеалам. Верили? Но может ли обладатель нормального здравого смысла, видя ужас концентрационного лагеря или хотя бы только слыша о нем, верить, что через него лежит путь к истине и всеобщему благоденствию? Верить может, но знает он другое: то, что видят его глаза и слышат его уши, то, что «говорит разум».
Автор романа «Белые одежды» настаивает не только на безвариантности зла, но и на его самосознании. «И отлично ведь знает, что плохо, а что хорошо», — думает Федор Иванович Дежкин о доносчике Краснове. «Зло, отлично знающее свою суть, как всегда, маскировалось добрыми намерениями», — возводит герой романа ту же мысль в четкую этическую формулу. Насыщенность ими вообще характерна для романа.
Но автор «Белых одежд» пишет о самой трудной области разделения истины и лжи, добра и зла. Величайшая и противоречивая роль науки XX века делает особенно трудным внутри ее различение добра и зла.
Судьба главного действующего лица романа воплощает собою и внутренний и внешний драматизм выбора. Эта судьба ставит и перед читателем много сложных вопросов для размышлений.
Торквемада, как прозвали генетики опального города Федора Ивановича Дежкина, довольно быстро переходит в стан тайных противников Рогатого, становится спасителем ценнейших плодов генетической селекции картофеля и, наконец, полным двойником сгинувшего Ивана Ильича, затравленного овчарками академика Рядно.
Приходилось слышать от читателей «Белых одежд» сомнение: как же мог честный ученый, бескорыстный человек, самоотверженный общественный деятель стать правой рукой Рогатого, его любимцем и надеждой? Словно мы не знаем таких примеров на всех уровнях нашего общества! В применении к теме романа В. Дудинцева на этот вопрос есть два рода ответов: научно-исторические и нравственно-психологические.
Писатель изобразил различные пружины выбора, столь важного для всех нас в самых разных областях деятельности и разных исторических ситуациях. Федор Иванович превращается из готового карать великого инквизитора в гонимого двойника Ивана Ильича и столкнувшись с очевидностью научных достижений последнего, и восхитившись его подвижничеством, и мучаясь совестью за свое детское преступление, когда он сделал «честный донос», погубил человека, и постепенно убеждаясь в тайном хищничестве гонщиков, присваивающих плоды трудов своих противников, и, наконец, через судьбу своей невинно арестованной жены. Для подвига, как и для самоубийства, редко бывает достаточно одной причины.
Что касается научно-исторических причин превращения героя «Белых одежд», то для их понимания полезно еще раз обратиться к отчету сессии ВАСХНИЛ 1948 года. Поначалу даже и на этой сессии победителей «классические генетики» еще пытались серьезно, научно спорить с лысенковцами, хотя с ужасом открещивались от изобретенного последними клейма вейсманистов-лорганистов, имевшего в глазах непросвещенной толпы знак непонятного и потому зловещего проклятия. И хотя схема строения хромосомы была предложена учеными еще в 20-е годы, в 1948 году на сессии ВАСХНИЛ И.А. Рапопорт говорил: «Мы сейчас находимся на грани крупных открытий в области генетики». Только на грани открытий, но самого гена еще никто не видел. И, сравнивая вычисленный, никем еще не виданный ген с открытым благодаря микроскопической технике фагом, И.А. Раппопорт уверял собравшихся ученых: «Ген — это единица еще более таинственная, еще более далекая от возможности наглядного показа, но, во всяком случае, это — единица материальная, в отношении которой имеется возможность прийти к большим практическим успехам». Механизм наследственности только искался, сомнения и колебания, естественно, сопровождали поиски и открытия. Так что в полном согласии с историей В. Дудинцев изобразил, как Федор Иванович Дежкин и его друг Василий Степанович Цвях, хоть и посланцы Рядно, но приехали проверять работу института с чистыми намерениями. Ведь и Иван Ильич Стригалев, погибший за генетику, — недавний лысенковец, ведь и он раньше молился на Рядно.
Вот в этом «молился» — переход к нравственно-психологическому гипнозу, чуть было не превратившему честного Федора Ивановича в Торквемаду. Гипноз заблуждений находится в прямой зависимости от образа самого «батьки», великолепно живописуемого В. Дудинцевым.
Почему чистый, прямой Шатов в известном романе Достоевского мог несколько лет жить под воздействием Ставрогина? Обаяние сильной личности, окрашивающей своим обликом идею, заражающей ее положительным или отрицательным зарядами, — великая сила, источник той самой слепой веры, против которой выступает автор «Белых одежд».
Я не берусь бедными своими словами передавать живописные краски и гротескные линии в портрете академика Рядно, созданном В. Дудинцевым. Тут глубокое понимание явления находится почти на грани эстетического любования его законченностью. Тут негодование переходит в смех, отстраняющий это явление от читателя в нечто такое обособленное, что и на страшную силу можно смотреть сверху вниз, смотреть тем самым «тициановским» взглядом, которым автор постоянно награждает своего героя.
Л-ра: Новый мир. – 1987. – № 12. – 216-229.
Произведения
Критика