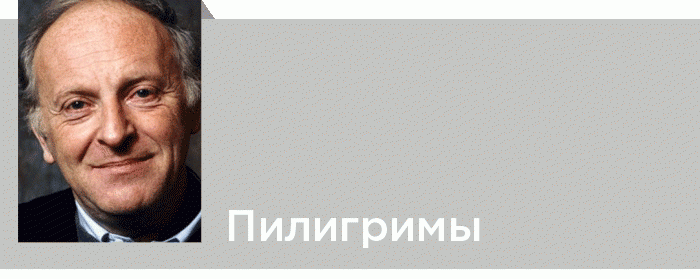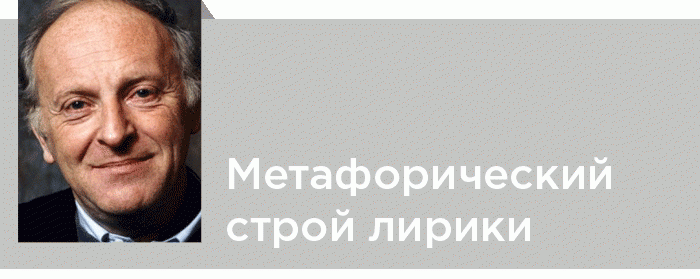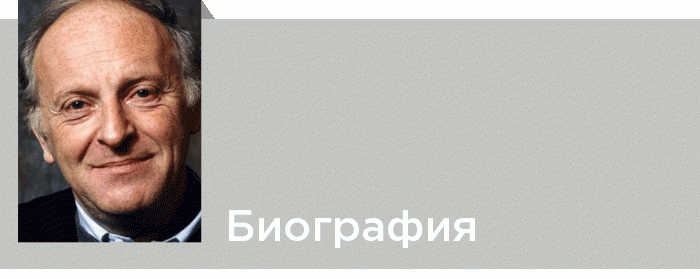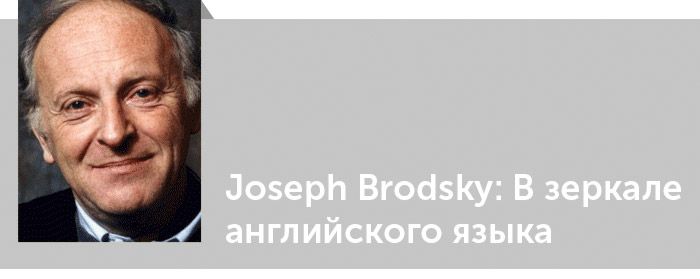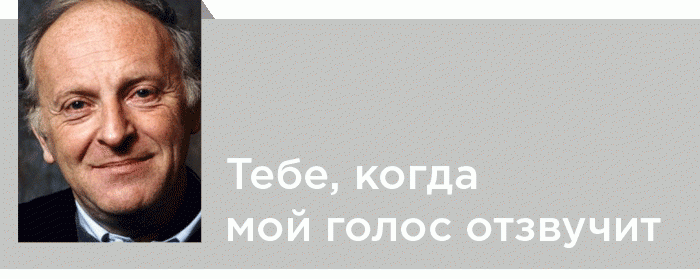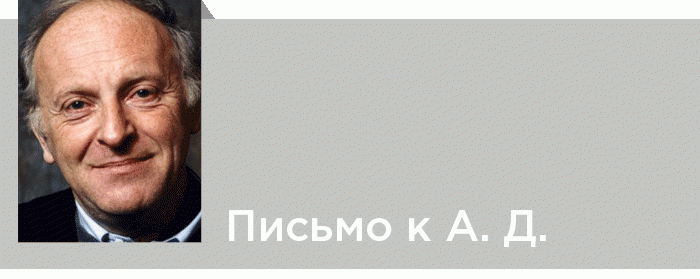«Замечательный лирик Н.»
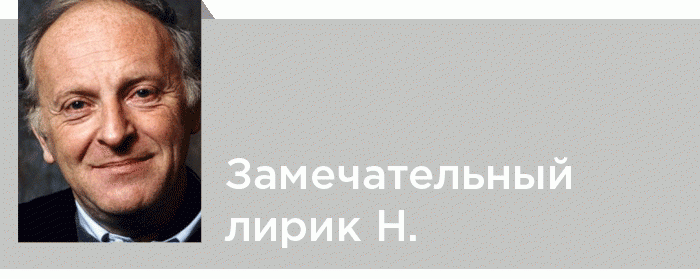
И. Винокурова
Есть у Давида Самойлова давние строки, содержащие в себе явно контрабандную информацию: «...Спят камины, соборы, псалмы, спят шандалы, как написал бы замечательный лирик Н.». Сейчас, пожалуй, самое время без опасения подвести их автора под монастырь, расшифровать: «замечательный лирик Н.» — вовсе не некая собирательная фигура, а вполне конкретное лицо. Это — Иосиф Бродский, одно из самых известных стихотворений которого как раз построено на подобном перечислении: «Джон Донн уснул, уснуло все вокруг, уснули стены, пол, постель, картины...»
Правда, эти стихи никогда у нас не были напечатаны, но я не оговорилась, определив их словом «известные». Среди серьезно читающей публики не так уж и редко встречаются те, кто их издавна знал и любил. «Стихи Бродского расходились в списках, в обход и поверх печатного станка...» — свидетельствует Александр Кушнер в своем послесловии к подборке Бродского в «Неве». Речь идет, таким образом, о несомненном присутствии Бродского в нашей культуре, несмотря на насильственное отлучение от нее. Это отлучение, начавшееся в 1964 году громким судебным процессом по обвинению поэта в тунеядстве (за Бродского вступились тогда Ахматова, Чуковский, Твардовский), завершилось его вынужденным отъездом за границу. «Четыре стихотворения — вот все, что удалось опубликовать Бродскому в родной стране», — с горечью констатирует Кушнер, в то же время с радостью отмечая, что на сегодняшний день дела обстоят по-иному. К тем четырем стихотворениям ныне прибавились две крупные стихотворные подборки, опубликованные нашими центральными журналами.
Стихи, вошедшие в эти подборки, относительно поздние, написанные Бродским уже за границей. Тем не менее все они — о России. Даже если дело происходит в Древней Греции («Одиссей — Телемаку») или в Риме («Письма римскому другу»), в средневековом Китае («Письма династии Минь») или сегодняшней Швеции («Шведская музыка»).
Об этом нетрудно догадаться, помня о старинной традиции использовать древние сюжеты в «личных» целях, сообщая своей мысли и объем, и перспективу. Античности в этом смысле повезло особенно, но и Китай не обойден: в качестве синонима российскому государству он вовсю употреблялся отечественной словесностью от А.К. Толстого до В. Дорошевича.
А вот в «Шведской музыке» все строится, похоже, не на историко-литературном, а на географическом сближении. Тесное соседство России и Швеции, особенно в сравнении со Штатами, явно волнует поэта: не случайно он часто говорит об этом в стихах. Скажем, в чисто любовном стихотворении «Келомякки» Бродский почему-то находит нужным отметить и это: «Заблудившийся в дюнах, отобранных у чухны, городок из фанеры, в чьих стенах едва чихни — телеграмма летит из Швеции: «Будь здоров»...» А теперь — как мы вправе предположить — именно близость тех самых «Келомякк», невидимая, но ощутимая, наэлектризовывает зимний шведский воздух нервно пульсирующими синкопами:
...так моллюск фосфоресцирует
на океанском дне, так молчанье в себя вбирает всю
скорость звука, так довольно спички, чтобы разжечь плиту,
так стенные часы, сердцебиенью вторя, остановившись по эту,
продолжают идти по ту сторону моря.
Это вообще характерно для поэзии Бродского: тема России, не проявляясь впрямую, нередко возникает в ней исподволь. Скажем, с помощью легкой славянской «прививки» вроде русских имен «Николай» и «Ирина», внезапно появляющихся в стихотворении «Новый Жюль Верн». Или, к примеру, типично русского понятия «околоток», едва ли употребляемого в заграничной действительности:
За такие открытья не требуют мзды, тишина по всему околотку, —
немедленно потянувшего за собою резко экспрессивный образ:
сколько света набилось в осколок звезды, на ночь глядя! Как беженцев в лодку.
Конечно, в отборе именно этих стихотворений из последних двух сборников Бродского заметна особая воля готовивших подборки: для первого знакомства журналами взяты ностальгически окрашенные вещи. И хотя объективно у Бродского эта тема не столь концентрирована, она — безусловно — важнейшая для него.
Об этом свидетельствует, в частности, широкая амплитуда ее эмоциональных решений: только живое чувство может так мучительно вибрировать. Цветаевская «давно разоблаченная морока» не отступает и от этого поэта, и он старается изжить ее разными способами.
Бродский то пытается взглянуть на нее иронически, взяв себе в сподручные римского сатирика Марциала. А то старается ее эпически осмыслить, прибегая уже к помощи Гомера. Однако, выбирая миф об Одиссее, Бродский, без сомнения, держит в уме, что этот герой не только «хитроумный», но и «многострадальный». Откуда бы взялось тогда такое признание:
глаз, засоренный горизонтом, плачет, и водяное мясо застит слух —
резко кольнувшее сквозь общий печально отрешенный настрой.
А есть стихотворения явно трагические, и среди них — «Осенний крик ястреба». О чем эта вещь? О сбившемся с пути, затянутом небом ястребе («Не мозжечком, но в мешочках легких он догадывается: не спастись. И тогда он кричит...»)? А может, о душе поэта? Ведь после знаменитой «Ласточки» Державина любая птица, залетевшая в русское стихотворение, пусть даже подчеркнуто натуралистично описанная, берется в этом плане под естественное подозрение. Тем более что Бродский в одном из своих прежних стихотворений рекомендует себя следующим образом: «...автор этих строк, чьей проницательности беркут мог позавидовать...» И хотя здесь это сказано в шутку, хотя беркут и ястреб — разные птицы, важна сама возможность такой ассоциации.
Стихи Бродского требуют пристального вчитывания в себя, преодоления непривычного для нас стремления поэта поглубже упрятать патетику. Особенно когда речь идет о любви — к стране ли, к женщине. Не в каждом любовном стихотворении Бродского сразу и признаешь таковое.
Очень характерны в этом смысле его «Новые стансы к Августе». Сто пятьдесят строк — и ни единого любовного слова, ни одного прямого обращения к возлюбленной! Если б не отсылка к Байрону, сразу же настраивающая на определенный лад, то истинного пафоса этих «стансов» можно вовсе не понять. И что с того, что байроновская Августа — образец неколебимой верности, а возлюбленная современного поэта (судя по другим стихам) — скорей наоборот. Для Бродского это способ сказать не о ее, а о своей любви.
И если другие поэты склонны стыдиться эмоций сугубо земного порядка, то Бродскому трудно признаться как раз в чувстве возвышенном. Любовь чисто физическая описывается им запросто, с несвойственной нашей поэзии откровенностью. Взять хотя бы соответствующие строфы из «Писем римскому другу»: «Этот ливень переждать с тобой, гетера, я согласен, но давай-ка без торговли: брать сестерций с покрывающего тела — все равно, что дранку требовать у кровли. Протекаю, говоришь? Но где же лужа?..» Здесь для Бродского нет тайны, сплошная «физика», которая может быть так или иначе описана. Тогда как любовь настоящая как бы замыкает уста, заставляя вспомнить известные пастернаковские строки: «Пошло слово любовь, ты права. Я придумаю кличку иную...»
Однако не только особое целомудрие заставляет Бродского чураться высокой лексики. Пожалуй, чаще эти слова оказываются негодными по прямо противоположной причине: они не только не «пошлее», но много «лучше» той реальности, которую порой вынуждены обозначать. Иносказание в таких случаях призвано не вуалировать, а обнажать неприглядную суть:
Весной, когда крик пернатых будит
леса, сады, вся природа, от ящериц до оленей,
устремлена туда же, куда ведут следы государственных преступлений.
Эти очень характерные для Бродского строки нами взяты из последнего сборника поэта. Однако Бродский изначально очень остро реагировал на фальшь, одним из первых заявив во всеуслышание о грозном неблагополучии в стране. В своей «Речи о пролитом молоке», написанной, дабы избежать докучливой назидательности, раешным доходчивым стихом, Бродский тесно увязывает «надстроечные» и «базисные» проблемы. Вот он и взывает к своим современникам: «Займите чем-нибудь руки!», остерегая (еще в 1967 году!):
Иначе — верх возьмут телепаты, буддисты, спириты, препараты, фрейдисты, неврологи, психопаты.
Кайф, состояние эйфории, диктовать нам будет свои законы...
Относительная идилличность послесталинской эпохи, отчетливо ощутимая его старшими собратьями, помнившими войну и массовый террор, не застиг Бродскому глаза. И, думается, не только в силу острого ума и проницательности взгляда — качеств, прямо скажем, редки. Но в силу и чисто биографических моментов: родившись в 1940, году, поэт по малолетству не испытал всего этого, зато на собственной шкуре изведал всю ограниченность послесталинской «демократии», пережив и заключение, и ссылку.
Однако конфликт с властью — как это ни странно — носит в поэзии Бродского предельно отвлеченный характер: это извечный конфликт поэта и тирана. Строки типа: «Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке...», напечатанные в «Неве», у него на удивление редки — по пальцам перечесть! — причем не по цензурным, естественно, соображениям. С не часто встречающейся щедростью Бродский этим своим опытом жертвует. Жертвует, быть может, потому, что не видит здесь главной проблемы, главной беды эпохи, по ахматовскому выражению, «вегетарианской».
Социально притесняя, но физически, как правило, не уничтожая, эта эпоха оставляла человеку возможность реализоваться в жизни «частной». Уход в нее не был, как это сейчас принято писать, «капитуляцией», но был своеобразным протестом, столь естественным для поэзии поиском истинных ценностей. Не случайно именно в середине 60-х тема семьи перестала быть типично «женской темой», за нее взялись и мужчины-поэты. «Тихо мальчика погладим, друг на друга поглядим...» — писал Александр Кушнер, и эта картина прельщала своей ненатужной гармонией.
Молодой Бродский, хотя и на собственный лад, похоже, склонялся к тому же. В своей «Речи о пролитом молоке» он заявлял: «Как холостяк я грущу о браке. Не жду, разумеется, чуда в раке. В семье есть ямы и буераки. Но супруги — единственный тип владельцев того, что они создают в усладе...»
Однако голос Бродского так и не пополнил хор певцов семейного уюта. Любовное крушение, ставшее темой его многих стихов, ознаменовало существенный этап не только личной, но и творческой его биографии. Резко отрезвив, стряхнув от сладкого морока, оно толкнуло поэта на новый путь. Вчитаемся в одно из давних его стихотворений:
В былые дни и я пережидал холодный дождь под колоннадой Биржи.
И полагал, что это — Божий дар.
И, может быть, не ошибался. Был же и я когда-то счастлив.
Жил в плену у ангелов. Ходил на вурдалаков.
Сбегавшую по лестнице одну красавицу в парадном, как Иаков, подстерегал.
Куда-то навсегда ушло все это. Спряталось.
Однако смотрю в окно и, написав «куда», не ставлю вопросительного знака.
Теперь сентябрь. Передо мною — сад. Далекий гром закладывает уши.
В густой листве налившиеся груши, как мужеские признаки, висят.
И только ливень в дремлющий мой ум,
как в кухню дальних родственников — скаред.
мой слух об эту пору пропускает:
не музыку еще, уже не шум.
Это любовное стихотворение — не только о любви. Последние его строки представляют собою скрытую цитату из блоковской статьи «О назначении поэта». Улавливать звуки, идущие из глуби вселенной, и этот «шум» преобразовывать в «музыку» — такова для Блока главная задача художника, прельщающая, как видим, и современного поэта. Впрочем, «прельщающая» — не то слово, скорее данная в обмен на счастье.
Именно поэтому «музыка» Бродского едва ли будет похожа на классический мотив, хотя само стихотворение и выдержано в целом в классическом ключе. Правда, есть в нем одна деталька, один образ, явно выбивающийся из привычного канона, свидетельствующий об изменении взгляда на мир, на его красоты. В ернической метафоре, безусловно, остановившей внимание читателя, выражен, думается, определенный протест против чудесного придуманного мира, с вурдалаками и ангелами (по терминологии стихотворения), против условной иерархии вещей, согласно которой природа (или любовь) заведомо прекрасна (а тут она возьми и глянься чем-то явно непристойным!)
С этого момента, с конца 60-х, и начался, наверное, сегодняшний Бродский — жесткий, ироничный поэт. Таким ли он видится читателю наших подборок? Может быть, и нет — ибо Бродский, естественно, выходит к нам в несколько парадном виде, если не во фраке, то, уж точно, при галстуке. Хотя читатель наверняка отметит резкость его лексики — даже в необычно торжественном для Бродского стихотворении «На смерть Жукова»; удивится «сниженности» его образов в стихотворении о смерти матери — «Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга»; ощутит, особенно в новомировских вещах, едкость его иронии. Но увидит ли он за всем этим глубоко трагическое мироощущение, особый склад художественного сознания (Кушнер отнес его к «байроническому» типу), героически отвергающего какие бы то ни было иллюзии).
А ведь к иллюзии русская поэзия всегда относилась очень уважительно. «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман», — сказал Пушкин, и это психологическое наблюдение подчас интерпретировалось как жесткое требование «красоты» в ущерб «правде». Не случайно Ходасевич позволил себе оспорить саму эту фразу («Пушкинскому «возвышающему обману» хочется противопоставить «нас возвышающую правду»), восставая против права поэта воспарять над реальностью.
Иосиф Бродский тоже за «возвышающую правду», какой бы низкой и грубой она ни оказалась. В этом смысле он идет еще дальше, отважно поверяя этой самой правдой те многочисленные «возвышающие обманы», которыми напичкано наше сознание. Причем Бродский покушается не только на мелкие, спонтанно возникающие мифы, но и на главные, стоящие от века.
Любовь, казавшаяся главной твердыней, такого испытания, мы знаем, не выдержала. Не связь, а разрыв характеризует для Бродского человеческое бытие: «Безразлично, кто от кого в бегах: ни пространство, ни время для нас не сводня, и к тому, как мы будем всегда, в веках, лучше привыкнуть уже сегодня...»
Мучительно это осознав, Бродский всерьез задумался о Боге, которого, может, и писал с большой буквы, но в расчет особенно не принимал. И хотя поэту, естественно, не приходит и в голову эту проблему трактовать утилитарно: «Не стану жечь тебя глаголом, исповедью, просьбой...» — сразу заявляет он в своем пылком «Разговоре с небожителем», ему не удается найти здесь для себя духовную поддержку.
Совсем эфемерной оказалась надежда на идеальную государственность. Причем дело не только в реальном конфликте с той властью, что выслала поэта из страны. Скитание по миру не опровергло, а подтвердило все то, что он знал и так. В «Мексиканском дивертисменте» поэт как бы подводит своим наблюдениям своеобразный итог:
Скушно жить, мой Евгений. Куда ни странствуй,
всюду жестокость и тупость воскликнут: «Здравствуй,
вот и мы!» Лень загонять в стихи их.
Как сказано у поэта, «на всех стихиях...»
Далеко же он видел, сидя в родных болотах!
От себя добавлю: на всех широтах.
Однако мир у Бродского жесток и туп не только, так сказать, горизонтально, но и вертикально. Мировая культура, к которой он часто обращается с вопросами, охотно подтверждает это. Древние сюжеты оказались стопроцентно пригодными для современных коллизий, непреложно свидетельствуя, что все это уже встречалось под луной. В отличие, скажем, от Мандельштама Бродский использует античность не только, вернее, не столько как «форму прекрасного» (Л. Гинзбург), сколько как «форму обычного», доказывающую отсутствие какого-либо прогресса.
Поэт всматривается в жизнь, и ему не помеха ни пространство, ни время. Собственная судьба постоянно сопрягается с общечеловеческой, через собственное «я» поэт выходит на общие для всех проблемы. Сознание Бродского — сознание человека XX века — насквозь атеистично. В «рай» он не верит ни на земле, ни на небе, ни в шалаше. Извечные опоры человеческому духу — семья, государство, религия, — никогда и не казавшиеся особенно надежными, для поэта изжили себя окончательно, обрушились разом, одновременно.
Треск рушащихся опор — вот, думается, та «музыка», которую Бродский явственно слышит своим слухом художника. Адекватно передать ее читателю — именно в этом он и видит свое «назначение поэта». Стихи Бродского призваны не услаждать, а расталкивать душу (в том числе и собственную), резко выбивать ее из мечтательного настроя, который он сравнил когда-то с наркотическим кайфом. Поэт делает это с помощью своей лексики, естественно включающей в себя арго, канцелярит, архаику, просторечие («Я и непечатным словом не побрезговал бы...» — писал Пастернак, а Бродский им и на деле не «брезгует»); с помощью своего невероятного синтаксиса — сложнейшей, бесконечно ветвящейся фразы (куда там Цветаевой с ее знаменитыми «переносами»); наконец, с помощью нарочитой приземленности своих образов. А бывает резкой натуралистичности их.
«Каменный шприц впрыскивает героин в кучевой, по зимнему рыхлый мускул...» — таково, к примеру, начало стихотворения «В окрестностях Александрии». А ведь это слово — «Александрия» — было окружено до Бродского некоторым ореолом. И само по себе — в силу отдаленной таинственности этого города, и благодаря известному стихотворению Михаила Кузмина. Помните: «Когда мне говорят: «Александрия», я вижу белые стены дома, небольшой сад с грядкой левкоев, бледное солнце осеннего вечера и слышу звуки далеких флейт...» Своей резкой метафорой Бродский сразу убивает два мифа — житейский и сотворенный художником, взамен предлагая свою собственную версию реальности.
В этой реальности почти не остается места красоте. И не потому, что ее вообще не существует. Трагичность жизни, остро ощущаемая поэтом, что-то меняет в ее эстетическом восприятии. «У пейзажа черты — вывернутого кармана. Пение сироты радует меломана», — так Бродский сформулировал чувство, питающее его многие стихи.
Иной раз кажется даже, что мир, осязаемый Бродским, куда-то дел краски (исчезают эпитеты, расцвечивающие его), ароматы («Запахи нечистот затмевают сирень»), звуки, не мучительные для слуха.
А если возникнет вдруг ярко, сочно нарисованная картина — то весьма вероятен подвох. Она может тут же, немедленно начать терять реалистические контуры, трансформируясь в странное, страшное, символическое видение. Нечто подобное происходит в «Осеннем крике ястреба»: «Северо-западный ветер его поднимает над сизой, лиловой, пунцовой, алой долиной Коннектикута. Он уже не видит лакомый променад курицы по двору обветшалой фермы, суслика на меже...» — именно так начинается эта вещь, чтоб затем, набирая силу, сорваться, уйти в такие сферы, куда едва ли проникнет человеческий глаз. Именно там и происходит трагедия, после которой подробное, чрезвычайно эстетизированное описание уже погибшей, замерзшей птицы, отвращая глаз, ужасает душу: «...и в кружеве этом, сродни звезде, сверкая, скованная морозом, инеем, в серебре, опушившем перья, птица плывет в зенит, в ультрамарин. Мы видим в бинокль отсюда перл, сверкающую деталь. Мы слышим: что-то вверху звенит, как разбивающаяся посуда, как фамильный хрусталь, чьи осколки, однако, не ранят, но тают в ладони...» Нам страшно хотя бы на миг уподобиться полным неведения детям, вбегающим в стихотворение с радостным криком: «Зима, зима!»
Бывает, конечно, что и простая, земная, совсем не зловещая красота мелькнет ненадолго в поэзии Бродского. В названии стихотворения непременно стоит тогда слово: «элегия» или «эклога». Эти лирические жанры, некогда очень любимые Бродским, надолго исчезли из его поэтического обихода, как, вероятно, надолго исчезло то самое состояние духа, которое они призваны передавать. Читая его последнюю книгу «Урания», включившую в себя «Римские элегии», «Эклогу зимнюю», «Эклогу летнюю», замечаешь, что поэт постепенно начинает обретать какое-то равновесие, кое-как обживать казавшееся бесприютным пространство. Теперь он, пожалуй, уже не напишет: «Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря...», именно так определяя свое местонахождение в мире. Он вроде поладил с этой музой — Уранией, изображаемой обычно с глобусом в руках. Стихотворение, открывающее его подборку в «Неве», тоже из этой книги. Методично перечисляя все выпавшие ему испытания, поэт неожиданно заключает:
Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность.
Впрочем, наверное, не так уж и неожиданно. При всем своем скептицизме, при всей своей хронической неудовлетворенности миром Бродский никогда не позволял себе метафизического бунта. Уж больно было ясно, что там ничего нет. «Остановись, мгновенье! Ты не столь прекрасно, сколько ты неповторимо», — на свой собственный лад переиначивает Бродский классическую фразу, призывая себя тем самым к мужеству и спокойствию.
«Письма римскому другу» как бы демонстрируют нам этот механизм в действии — они не только иронически высветляют болезненные моменты жизни, но наглядно убеждают нас в целебности этого взгляда на мир. Вспомним неожиданно серьезный конец стихотворения, кстати, удивительно инструментованный: «Зелень лавра, доходящая до дрожи. Дверь распахнутая, пыльное оконце. Стул покинутый, оставленное ложе. Ткань, впитавшая полуденное солнце. Понт шумит за черной изгородью пиний. Чье-то судно с ветром борется у мыса. На рассохшейся скамейке — Старший Плиний. Дрозд щебечет в шевелюре кипариса».
И хотя этот жизненный рецепт отнюдь не нов (затем и ссылка на Марциала), Бродский, думается, вправе на него потребовать патент.
Впрочем, похоже, он и сделал это в одном из своих давних стихотворений:
Гражданин второсортной эпохи, гордо признаю я товаром второго сорта свои лучшие мысли, и дням грядущим я дарю их как опыт борьбы с удушьем.
И строки эти не устарели, не увяли, оторвавшись от жизненной ситуации, что их породила, они легко встают эпиграфом ко всей поэзии Бродского. Характеристика, данная им некогда вполне конкретному хронотопу, оказалась пригодной для определения вселенной и века, конкретный «опыт борьбы с удушьем» оказался пригодным для всех.
Однако у поэта есть собственный способ борьбы с метафизическим «удушьем». Он борется с ним с помощью своего мастерства, бесстрашно осваивая этот мир лирически, преодолевая его трагичность всем арсеналом своих поэтических средств, гармонизирующей силой своего искусства. Поэтому сама виртуозность его мастерства может восприниматься как категория нравственная, сопротивляющаяся хаосу, в какой-то степени подчиняющая его себе.
Но разве не сопротивляются хаосу и несомненное мужество Бродского, беспощадная искренность, редкое постоянство, явленные нам его поэзией? В самой исповеди поэта объективно содержится то, в чем он решительно отказывает миру. Это ощущение, возникающее как бы помимо его воли, вопреки его бесконечным самооговорам, вступает в серьезное противоборство с тяжкой безрадостностью его собственных оценок. В поэзии Бродского мы находим знаменитое «равенство дара души и глагола», которого ждем от художника.
«Замечательный лирик Н.» — как бы восклицаю я вслед за Самойловым, столь мажорно заканчивая свои заметки.
Л-ра: Октябрь. – 1988. – № 7. – С. 203-207.
Произведения
Критика