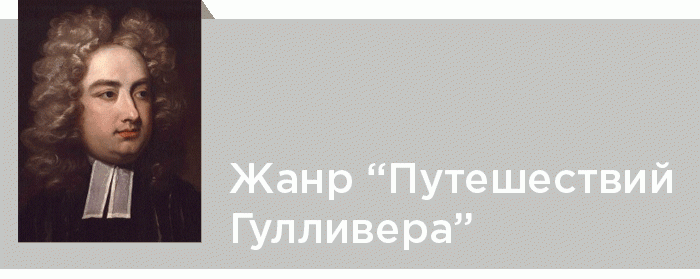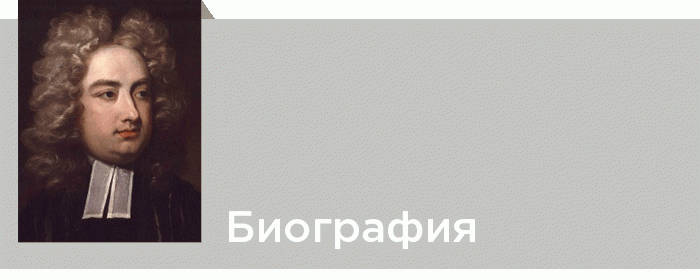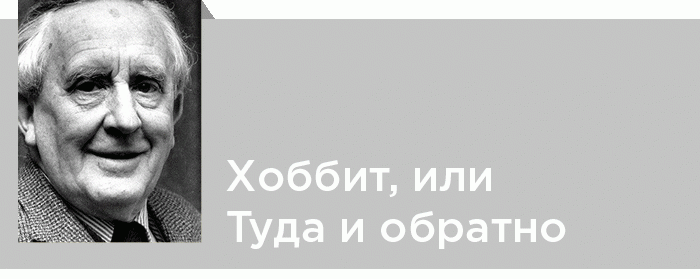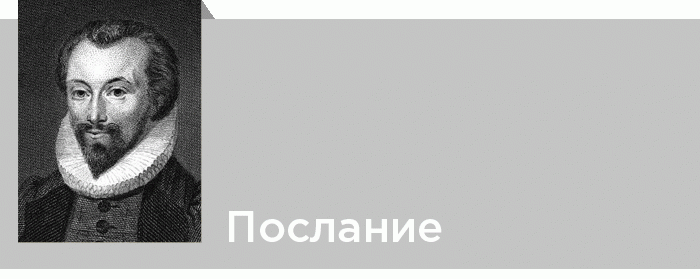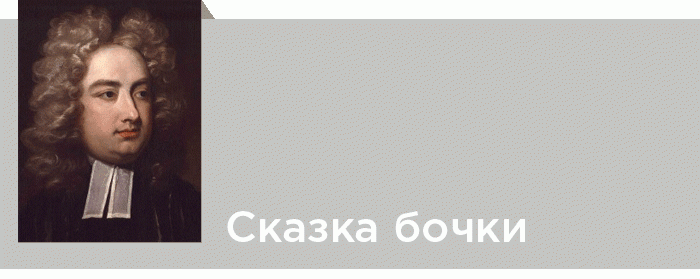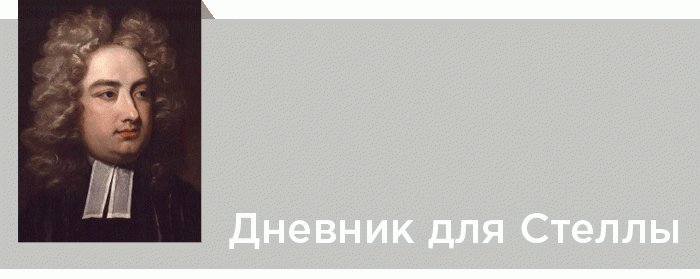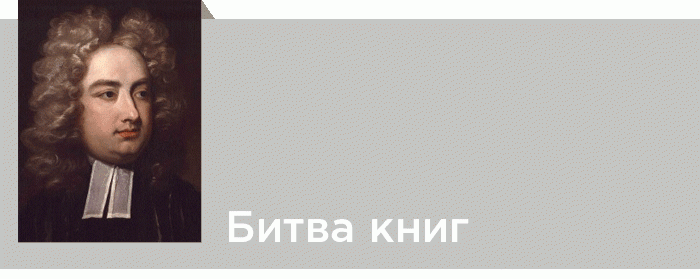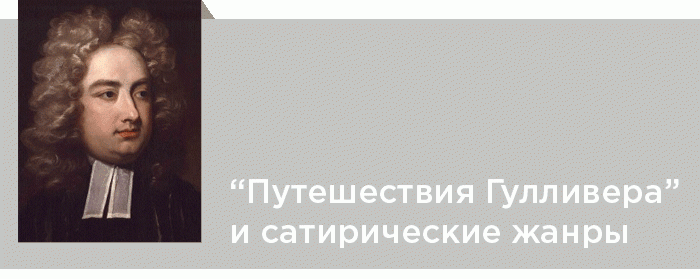Писатели и министры
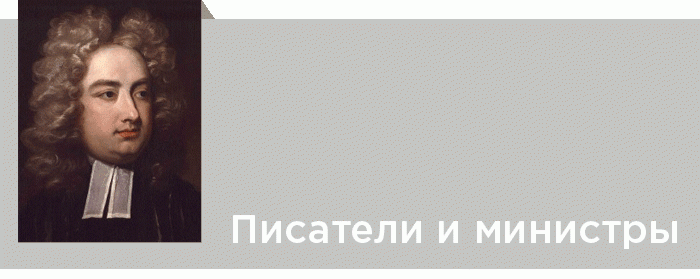
Андрей Зорин
В том, что «Дневник для Стеллы» читается сегодня как литературный памятник, есть горькая ирония времени. Выплескивая на его страницы гордость от причастности к важнейшим государственным делам, удовлетворенное тщеславие, уязвленные амбиции, надежды на устройство своей судьбы и горечь от их крушения, Свифт менее всего думал об изящной словесности. Он просто изливал Стелле свою душу, неуклюже пытаясь выглядеть презрительно равнодушным, а заодно успокаивал свою заждавшуюся корреспондентку, убеждая ее, что задерживается в Лондоне не по своей вине, что хочет, но не может вернуться в Дублин.
На первый взгляд еще меньшее отношение к истории литературы имеет переписка Свифта и Ванессы, напечатанная в дополнениях к «Дневнику». В ней печальная развязка легкого поначалу флирта, затеянного Свифтом в Лондоне. Писатель, разумеется, не мог предположить, к каким катастрофическим последствиям для него и для обеих любивших его женщин приведет столь невинное увлечение.
И все же при всей внешней чуждости «Дневника» собственно литературным задачам в современном подходе к этой книге есть своя справедливость. Страсти, обуревавшие ее героев и авторов, давно откипели. Хитросплетениями государственной политики и человеческих судеб занялись историки и биографы. Но «Дневник для Стеллы» продолжает вызывать интерес не только у специалистов. И дело здесь в том, что это роман. Роман, написанный самой жизнью, изобретательности которой на сюжеты мог бы позавидовать самый виртуозный беллетрист.
Здесь есть все, что нужно для самого захватывающего повествования: любовь и разлука, верность и ревность (то, что отношения в этом треугольнике носили, по-видимому, платонический характер, лишь делало их особенно безнадежными и драматическими), здесь действуют министры и царствующие особы, падают и создаются кабинеты, плетутся интриги, от исхода которых зависят судьбы народов. Но главное — это роман о великом писателе, о его заблуждениях и открытиях, обретениях и потерях. За бесчисленными бытовыми подробностями — меню обедов Свифта, перечнями его сотрапезников, отчетами в денежных расходах и рассказами о погоде встает судьба гения на фоне его эпохи.
Характер Свифта нередко толкал пишущих о нем на крайние определения. Его изображали то несгибаемым борцом за свободу и справедливость, то холодным и беспринципным честолюбцем. Но действительность, как всегда, и сложней и интересней.
Чтобы разобраться в личности писателя, небесполезно обрисовать хотя бы некоторых из его друзей и врагов, людей, чьи имена то и дело мелькают на страницах «Дневника...» и чьи лица глядят с тщательно подобранных иллюстраций. Выберем, к примеру, троих:
Джон Черчилл, герцог Мальборо — непобедимый полководец, присутствие которого на поле боя приводило противника в панику, — в то же время казнокрад, наживавшийся даже на поставках провианта для собственной армии. Сент-Джон Генри, виконт Болингброк, — блестящий дипломат, мыслитель и историк, чьи идеи оказали огромное влияние на многих философов эпохи Просвещения. И он же распутник, политический авантюрист, не брезговавший изменой для достижения своих личных целей.
Роберт Уолпол, граф Орфорд, — циник и проходимец, откровенно превративший подкуп и мошенничество в основной инструмент своей политики. Но и выдающийся государственный деятель, за двадцать семь лет руководства которого Британия достигла несомненных успехов.
Разумеется, далеко не в каждом уживались такие дарования и пороки, но именно их сочетание определяло в ту пору облик верхних этажей власти. В этот круг судьба ввела сына смотрителя судебных зданий, приходского священника Джонатана Свифта, кошельку которого наносила серьезный ущерб перемена погоды. (Вместо легких пеших прогулок ему приходилось ездить в портшезе.)
Было чем гордиться писателю, вознесенному до вершин государственной власти только силой ума и блеском пера. Свифту казалось, что он наконец обрел сферу деятельности, достойную своих дарований. На его глазах вершились судьбы Британии и всей Европы. С ним считались, его ненавидели, им восхищались самые родовитые, богатые и могущественные люди страны. «Знатные особы обращаются со мной, как с человеком, который явно их превосходит», — сообщал он Стелле еще в самом начале своего пребывания в Лондоне.
И все же вращение в кругу сильных мира сего приносило больше унижений, чем радостей. Непрестанных усилий требовало отстаивание собственного достоинства, и при малейших признаках высокомерия в поведении его вельможных друзей Свифт разражался приступами ярости. Еще сильней бесили его попытки оплачивать его памфлеты — такие жесты ставили под сомнение мотивы, по которым он поддерживал правительство. Тем больше тяготила писателя неустроенность собственных дел. Он ждал, что его покровители отблагодарят его хорошим приходом. Разумеется, инициатива должна была исходить от министров, но, как писал Свифт, «эти люди не торопятся оказывать милости», и писатель прибегал к мучительным для него просьбам, напоминаниям и даже лести. При этом он выглядел тем более жалко, чем более независимый вид пытался сохранить. Насколько угнетала его память о пережитой несправедливости, можно судить по тому, что, составив в старости список своих знакомых, Свифт поделил их всех на благодарных и неблагодарных.
Но сколь бы ни были глубоки его разочарования, Свифт не чувствовал себя в силах покинуть Лондон. Успокаивая Стеллу, он много раз писал ей, что любит ее «в тысячу раз больше, чем свою жизнь». Не будем ставить под сомнение искренность писателя, но очевидно, что большую политику он любил еще сильней. И эта страсть порой диктовала ему признания, заставляющие содрогнуться.
«Старший сын леди Мэшем очень болен; боюсь, что ему не выжить, — сообщал Свифт Стелле о горестных событиях в семье фаворитки королевы, своей подруги и союзницы. — Она неотлучно находится при нем в Кенсингтоне, что у нас всех вызывает недовольство. Ее чрезмерная материнская любовь прямо-таки бесит меня. Ведь она ни на минуту не должна оставлять королеву и, напротив того, должна оставить все прочее, дабы всецело посвятить себя тому, что так важно как для дел общественных, так и ее собственных. Я уже не раз твердил ей об этом, но ей это как об стенку горох».
Однако политика не торопилась вознаградить своего рыцаря за такую преданность. Свифт не снискал себе лавров на государственном поприще, да и влияние его на ход дел, по существу, было эфемерным. Он так и не сумел, несмотря на все усилия, примирить между собой двух столпов кабинета тори — Болингброка и Оксфорда. Как это часто бывает, те ненавидели друг друга больше, чем своих врагов вне и внутри страны. Не удалось Свифту и противодействовать отставке герцога Мальборо. Не питая к герцогу никаких симпатий, писатель все же полагал опасным смещение победоносного главнокомандующего до окончания войны. Но для тех, кто стоял у власти, соображения партийной принадлежности значили больше, чем интересы страны. Мнение же Свифта вообще, кажется, не имело для них особого значения. В истории парламентской борьбы вокруг Утрехтского мира это проявилось с особой рельефностью.
Заключение мира с французами было главной целью правительства тори. Но когда это долгожданное соглашение близилось к завершению, выяснилось, что провести его через палату лордов кабинету не удается. Такое поражение грозило министрам падением, а тем, кто поддерживал их курс, — самыми серьезными последствиями. Трудно вообразить, что пережил в эти дни Свифт, тщетно пытавшийся побудить своих преступно хладнокровных, по его мнению, друзей к каким-либо действиям. Его письма Стелле полны проклятий по поводу вероломства королевы и инертности Оксфорда, неизменно «пребывавшего в отличном расположении духа». Спасение пришло неожиданно для писателя. Внезапно королева назначила двенадцать новых лордов-тори, резко изменив соотношение сил в парламенте. Очевидно, что этот шаг был спланирован заранее, но известить об этом Свифта то ли не потрудились, то ли побоялись.
Поразительно, что при своем выдающемся уме Свифт не мог осознать, что оказался орудием в руках властолюбивых политиканов, что, обращаясь с ним, «как с человеком, который явно их превосходит», его покровители пользовались его слабостями, чтобы поставить себе на службу его дар публициста. Свифт-писатель оказался куда проницательней Свифта-человека. Написанные полутора десятилетиями позже «Путешествия Гулливера» полны такого блистательного отвращения ко всему тому, чем он жил в Лондоне, что становится ясно — этот опыт не прошел для него даром. Тем не менее даже эту свою великую и мудрую книгу, а вернее, то благоприятное впечатление, которое она произвела на новую королеву, Свифт попытался использовать, чтобы снова вернуться к прежней деятельности.
Каждый, кто читал Свифта, знает, каким беспощадно зорким взглядом он обладал. В «Дневнике для Стеллы» он — вольно или невольно — с тою же трезвою безжалостностью написал сам себя. Но тем явственней и неподдельней звучит в этой книге светлая нота, сквозная тема, заставляющая забыть о многих не слишком привлекательных чертах в облике писателя. Тема эта — литература. Невозможно не удивляться той готовности, тому бескорыстию и той энергии, с которыми Свифт брался помогать своим собратьям по перу. Бережливый и расчетливый, он щедро делился с ними деньгами, тщеславный и ревниво следящий за чужими успехами, он не жалел усилий, чтобы содействовать их литературной карьере, преданный политической борьбе, он не обращал внимания на их взгляды и партийную принадлежность. Его интересовало только дарование.
Когда Свифт приехал из Дублина в Лондон; самым близким ему человеком в столице был Джозеф Аддисон. Талантливый и тонкий писатель, один из родоначальников европейской журналистики, он в свое время назвал Свифта «вернейшим другом, приятнейшим собеседником и величайшим гением». Однако очень быстро партийные распри развели тори-Свифта и вига-Аддисона на разные полюса английской политики, породили между ними горы взаимных обид и претензий. И все же случайно встретив Аддисона, Свифт признавался Стелле: «Что ни говори, а я все же не знаю никого, кто был бы мне хоть вполовину так приятен, как он». Несмотря ни на что, этих людей тянуло друг к другу.
В Лондоне Свифт приобрел и еще одного близкого друга — замечательного поэта Александра Попа. В последнем письме «Дневника...» он советует Стелле прочитать «превосходную поэму под названием «Виндзорский лес», принадлежащую еще малознакомому ему молодому автору. Эта поэма, ставшая одним из самых совершенных созданий английской поэзии, была посвящена заключению Утрехтского мира. Сейчас, читая ее чеканные строки, невозможно представить себе, что их изысканная гармония была вызвана к жизни дипломатическими аферами Болингброка, закулисными интригами Оксфорда, парламентскими манипуляциями королевы. («Когда б вы знали, из какого сора...») В этом парадоксе едва ли не таится глубинный смысл «Дневника для Стеллы».
И, наконец, последнее. «Дневник...», написанный на труднопонимаемом, исковерканном языке, специально придуманном корреспондентами, полный намеков и недоговоренностей, пестрящий полузабытыми и вовсе забытыми именами, повествующий о сложнейших переплетениях государственных судеб и человеческих жизней, — исключительно тяжелое испытание для переводчика, исследователя и комментатора.
Л-ра: Литературное обозрение. – 1983. – № 4. – С. 57-59.
Произведения
Критика