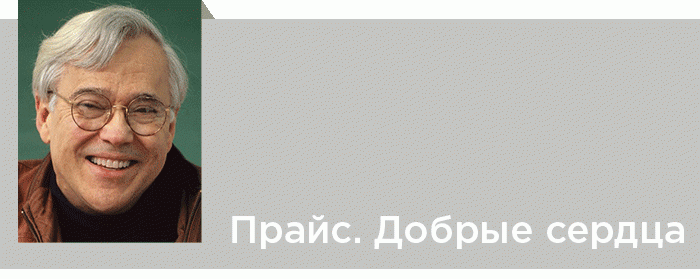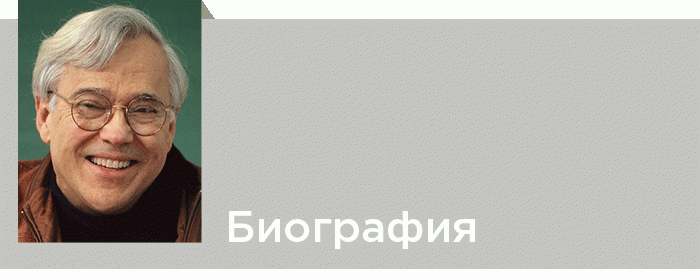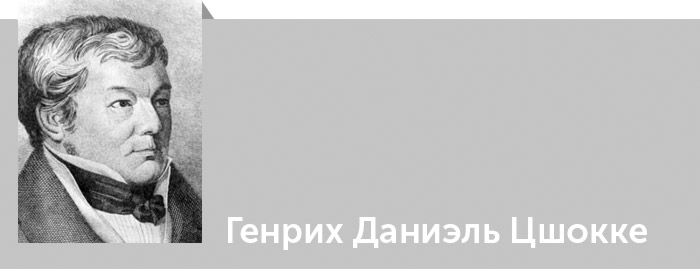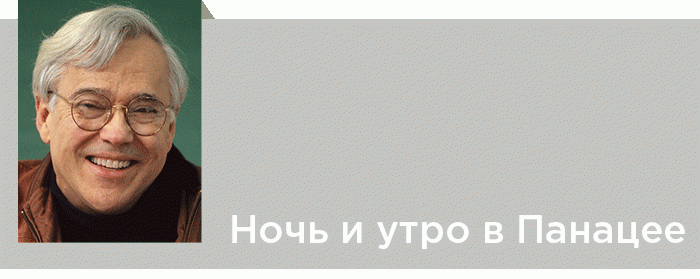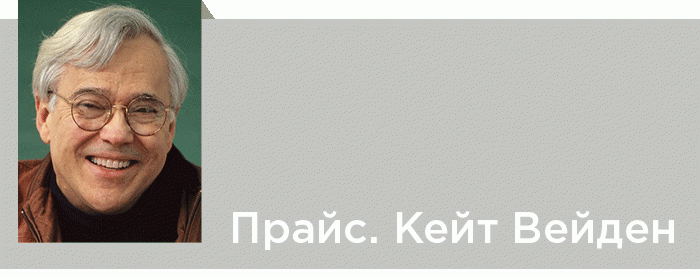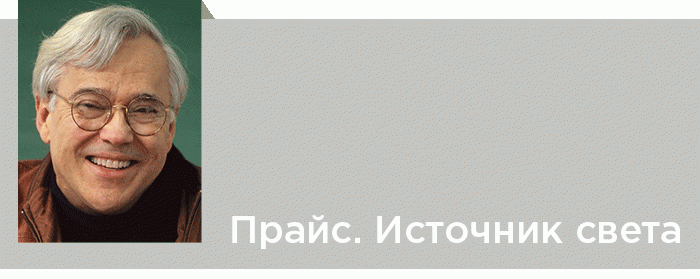Рейнольдс Прайс. Долгая и счастливая жизнь
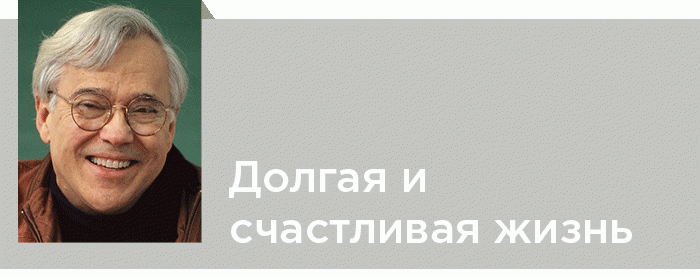
(Отрывок)
Глава первая
Я видел, как угрюмо и сердито
Смотрел терновник, за зиму застыв.
Но миг — и роза на ветвях раскрыта.
Данте. «Божественная комедия».
Рай. Песнь тринадцатая
Глядя сквозь защитные очки прямо на север, где была церковь «Гора Мориа», Уэсли Биверс змеиными зигзагами кренил свои черный мотоцикл из стороны в сторону, то пристраиваясь к медленной веренице машин, то вырываясь вперед, чтоб приехать к церкви первым, и пускал всем в лицо скунсовые струи бензинового перегара, а сзади, прильнув к его спине, будто в дремоте, на обтянутом овчиной седле сидела верхом Розакок Мастиан, которая не то была, не то слыла его подружкой, и сейчас устала смотреть против ветра и старательно кивать каждой машине в этой печальной веренице. А когда Уэсли поддал газу и обогнал грузовичок (его одолжил на сегодня вместе с шофером Сэмми мистер Айзек, и в грузовичке стоял сосновый гроб и стул с перекладинами на спинке, а на нем сидел мальчишка-негритенок, напяливший на себя все, что сумел выклянчить взаймы, и придерживал ногою гроб, а вокруг навалом лежали цветы) — когда он перегнал даже ото, Розакок сказала ему в спину: «Не надо», а потом покорно затихла, ни о чем не думая и лишь крепче вцепившись руками в его бедра, а ветер раздувал сзади ее белую блузку, как белый флаг поражения.
А все потому, что Уэсли после увольнения с флотской службы занялся мотоциклами (вернее, займется с понедельника) и ни за что не соглашался везти ее на машине, хоть из пушек в него пали. Он задумал везти ее на пикник не иначе, как на мотоцикле, но тут, родив ребенка без мужа, умерла Милдред Саттон, и Розакок, чувствуя, что обязана быть на похоронах, попросила Уэсли сначала заехать с ней в церковь, и Уэсли сказал, что заедет, только ради похорон какой-то негритянки не намерен брать машину. Но нельзя же не пойти на похороны, и невозможно тащиться три мили пешком по пылище, а отпускать его на пикник без себя, хоть ненадолго, было рискованно, и потому Розакок не стала спорить, положила шляпу в багажную сумку, подобрала юбку, оголив колени напоказ всему миру, и взмостилась на заднее сиденье.
При такой езде она даже не видела, что делается вокруг; да там и не было ничего нового, незнакомого — все та же земля, по которой она проезжала каждый день, всю свою жизнь, если не считать раннего детства да тех летних дней, когда она уезжала в лагерь на Белое озеро, или гостила у тети Омы в Ньюпорт-Ньюз, или дежурила в больнице, как тогда у Папы, незадолго до его смерти. Но земля все равно была тут и выжидала.
Дорога проходила неподалеку от веранды дома Мастианов, и, если пойти по их дорожке и свернуть налево, придешь к эфтонскому магазину, а там скоро мощеная улица, которая ведет в Уоррентон, куда она ездит на работу. Но сегодня они свернули направо, и дорога стала поуже и все сужалась, и дальше по ней могло пройти в одну сторону что-нибудь одно — машина либо грузовик, мул или телега, а стоял июль, и что бы по дороге ни прошло, даже самое мелкое животное, земля перетиралась в пыль. Пыль вздымалась клубами множество раз за день, а иногда, хоть и незаметно, даже по ночам. На закате, если не было ветерка, она висела в воздухе, как туман, и садилась на все, куда можно было сесть — на Розакок, и Маму, и Рэто, и Майло, когда они все вместе ходили в церковь каждое первое воскресенье месяца, но это было лет десять назад, еще до того, как Майло получил водительские права, а больше всего пыли оседало на негритянских ребятишек, когда они медленно, гуськом брели домой с черной смородиной, которую они набрали для себя (но если остановишься и спросишь: «Сколько ты хочешь за ягоды?», они так удивятся и заробеют, что забудут цену, которую сказала им мать на случай, если кто их остановит, и отдадут тебе смородину с ведерком вместе за столько, сколько ты предложишь, и всю пыль, что вы с ними подымете, ты принесешь домой на этих ягодах). Пыль садилась и на листья — на кусты кизила и орешника, и на реденькие сосны, и на дуб, а часто и на высокий платан, и на вишневые деревца мистера Айзека Олстона, тесно окружившие пруд, вырытый им для освежения воздуха в жару, заглохший и бурый, когда не льют дожди, — те самые деревца, что выросли из прутиков, посаженных мистером Айзеком двенадцать лет назад, в день его семидесятилетия, и тогда же он пустил в пруд таких крохотулей рыбешек, что их едва можно было разглядеть, и уверял, что доживет до времени, когда будет прохлаждаться в тени вишневых деревьев и вылавливать из пруда далеких потомков тех самых мальков. И с него станется, ведь Олстоны раньше девяноста лет не умирают. А те Олстоны, что умерли не так давно, уже после деревьев, не вместились в семейные могилы и лежали по эту сторону баптистской церкви «Услада», и просто удивительно, какие они были коротенькие, а вокруг похоронены люди, никогда не имевшие семейных могил, взять хотя бы Папу (так Розакок называла своего деда: он перед смертью начисто забыл про свою жену, мисс Полину, и просил похоронить его рядом со своей матерью, но позабыл сказать, где она лежит), и мисс Полину в могилке размером как для ободранного кролика, и родного отца Розакок, который не был баптистом (и вообще, можно сказать, никем не был) — и его могилка еле-еле возвышалась над землей. Могилы придвигались все ближе к церкви, и с ними придвигалась трава, а дальше начинался белый песок, который понатаскали сюда со дна речушки. Церковь стояла на белом песке, под двумя дубами, деревянная, посеревшая, квадратная, как ящик для снарядов, словно бросавшая людям вызов — а ну попробуйте-ка не пойти. Мастианы ходили, и даже Уэсли Биверс ходил, хоть и не был баптистом.
Но сейчас им нужно было не туда, и они проехали мимо могил и «Услады», мимо песка и двух длинных пикниковых столов на опушке леса, куда еще детьми бегали Майло, и Розакок, и Рэто вместе с Милдред и другими негритянскими ребятишками, которых она притаскивала с собой (теперь они все подались в другие места, главным образом в Балтимору). Лес начинался у дороги, а где кончался — неизвестно, ни Розакок, ни даже мальчишки ни разу так и не дошли до конца, и не потому, что им было страшно, просто они выбивались из сил — лес тянулся все дальше и дальше, и каждый листик в нем принадлежал мистеру Айзеку Олстону. Однажды Розакок и Милдред запаслись едой и решили: «Будем идти до первого поля, где кто-нибудь что-нибудь посеял».
И вот они медленно пошли по прямой, в прохладной и влажной тени под деревьями, куда никогда не пробивалось солнце и стоял этот зеленый свет, от которого растут грибы. Они шли целый час, и теперь уже дышали воздухом, которым до них дышали только опоссумы да совы да еще, может, змеи, если змеи дышат. Милдред все это было не очень по душе, но Розакок шагала дальше, а Милдред семенила позади и все поглядывала вверх, проверяла, есть ли над ними небо и не смотрят ли на них с деревьев змеи. Наконец они дошли до поляны величиной с цирковую арену, там деревьев не было, только старый колючий шиповник да сухая трава-бородач с метелками точь-в-точь такого цвета, как борода, начинавшая пробиваться у Майло. Они сели у края поляны, чтоб у Милдред отдохнули ноги, и поели лепешек, запивая их сиропом, но Розакок твердо стояла на том, что еще нельзя идти назад, это же не поле, где что-то выращивают (никто не ест сухой бородач, кроме мулов, да и мулы-то едят его, только если им покажется, что этот бородач вам до зарезу нужен). Словом, они уже поднялись с земли и хотели идти дальше, но вдруг Милдред разинула рот и пискнула: «Боже милостивый!», потому что позади, в деревьях, на секундочку показался олень, они даже не успели рассмотреть, с рогами он или нет. Но он уставился прямо на них, и глаза у него были черные-пречерные. Когда в чаще деревьев затих поднятый им шум, Розакок сказала: «Давай не пойдем дальше», и Милдред охотно согласилась: «Давай». Вообще-то оленей они не боялись, но мало ли что можно ждать от этого леса: если после часа ходьбы выскакивают на тебя посмотреть всякие олени, то бог его знает, что будет дальше и что окажется на засеянном поле, где-то впереди, на том конце леса, и кто это поле будет караулить. И они пошли обратно, нарочно не ускоряя шаг, стараясь показать, что им ни капельки не страшно, и, когда они вышли на дорогу, Милдред заговорила — в первый раз с тех пор, как призвала бога посмотреть на того оленя.
— Розакок, — сказала она, — пора ужинать. — И они разошлись в разные стороны. Положим, ужина еще ждать и ждать и с таким же успехом можно было сказать, что пора идти снегу, просто Милдред не терпелось добраться домой и кому-нибудь все выложить про того оленя — как он сиганул в деревья, и как шуршала сухая листва под его копытами, и как стоял и смотрел, даже не на лепешки, а на них — ему было интересно, что они делают.
Если б Розакок отвела глаза от спины Уэсли и оглянулась на лес, она, быть может, вспомнила бы тот день и все, что было тогда, девять лет назад, и что сейчас она едет хоронить ту самую Милдред и подумала бы: где тот олень с чернущими глазами, не стоит ли опять в чаще — и что, он тоже собственность мистера Айзека, тот олень? Но она не подняла глаз и ни о чем не вспомнила. Если ты с Уэсли Биверсом, что толку вспоминать? Все равно ему не расскажешь о том, что припомнилось. Он говорит, что живет только настоящим, а это значило, что, наверно, когда он уехал за сто тридцать миль от дома, три года прослужил во флоте Соединенных Штатов, шатался повсюду в обтянутой матросской форме, чинил радио и носу не высовывал из Норфолка, штат Вирджиния (так он говорил), и только изредка приезжал домой на уик-энд — тогда он, должно быть, мало думал о ней. А она каждую ночь ломала себе голову, считает ли он ее своей девушкой, и надеялась, что считает, хотя он неделями не писал, а потом присылал нахальные открытки. Но вот уже три дня, как он дома, и он больше не матрос, и завтра с одним своим приятелем опять уезжает в Норфолк продавать мотоциклы, а она не видела от него ничего такого, что не повторялось бы из года в год, то есть в субботу вечером он заезжал за ней и вез в бывший амбар под названием «Страна танца» и танцевал со всеми женщинами подряд, и так быстро, что казалось, будто в зале мелькает десять, а то и двенадцать Уэсли Биверсов, а потом отвозил ее домой и битый час целовал на прощание, не сказав ни единого слова и ни о чем никогда ее не спросив.
И она стала об этом думать. Она задумалась так крепко, как только можно задуматься на мотоцикле, когда пыль так и хлещет тебя по ногам, и тут ей пришла в голову новая мысль — что Уэсли и эта машина созданы друг для друга (ведь быть с Уэсли — это все равно что трястись на мотоцикле), но вдруг почувствовала, как шевельнулись его лопатки под ее щекой и бедра под ее руками. И так он шевельнулся, что Розакок на секунду ослабила руки. Было такое же ощущение, как когда, прижав пальцами веко, поводишь глазом, вроде бы и свободно, но все равно боязно, как бы там чего не повредить.
Она подняла голову — вот и церковь «Гора Мориа», куда они ехали, и Уэсли, не замедляя хода, сделал разворот, прочертив глубокую колею на пыльной площадке. Он спустил ногу, черный полуботинок проехался по земле, и мотоцикл остановился под невысоким деревцем. Скунсовые струи пропали, но Уэсли не выключал мотора, нажимал на газ и прислушивался, словно ожидая, что мотор заговорит; и Розакок наконец крикнула ему в самое ухо:
— Перестань тарахтеть, Уэсли!
— А что, разве не занятно?
— Нет, — сказала она. Тогда Уэсли дал мотору затихнуть, и в изумленной тишине не слышно было даже оробевших от трескучего шума птиц — ничего, кроме фырчащих, словно стадо буйволов, машин, тянувшихся за грузовиком с Милдред.
— Слезай, Уэсли. Они сейчас подъедут.
Уэсли перемахнул через седло и смотрел, как она сама слезает с заднего сиденья. После гонки с ветерком жара навалилась на них сразу, и они даже замотали головой от ее тяжести. Но оба молчали. Они давно уже перестали болтать друг с другом. Розакок вытащила носовой платок и поспешила обтереть лицо, пока пыль не смешалась с потом. Глядясь в круглое зеркальце на рукоятке руля, она причесала волосы, в которых еще струился ветерок от быстрой езды. В круглое зеркальце было видно, как на фоне стоящего позади темного дерева летела пыль от волос, внезапно окружив ее лицо ореолом. Даже Уэсли это заметил. Тогда Розакок нахлобучила шляпу и сказала:
— Не известно, чего ради мы мчались как угорелые, — и пошла к церкви, продавливая высокими каблуками тоненькую корочку спекшейся пыли. Через десять шагов ее белые туфли стали коричневатыми. Она обернулась и сказала:
— Идем же, Уэсли. Нехорошо стоять и глазеть, когда они подъедут.
— Надо немножко покопаться в моторе, чтоб был полный порядок, когда мы захотим уехать. Скоро приду. Займи мне место у окна.
Она покраснела — теперь только так и выражалось ее огорчение, когда Уэсли обманывал ее надежды (иными словами, ей приходилось краснеть почти беспрерывно), — и сказала:
— Только не дуди в свою свистульку. — Губная гармошка была еще одним увлечением, которое Уэсли подцепил во флоте.
Она поднялась по ступенькам и обернулась, чтобы взглянуть на дорогу. Снизу Уэсли увидел ее всю и подумал: надо же, как далеко она упрыгнула за три года, высокая стала, почти с него ростом, в ней, наверное, пять футов девять дюймов, не меньше, и кожа какая светлая, точно свечкой обмазаны эти ее длинные кости, а волосы будто все время ветерок шевелит, они у нее длинные, сухие, соломенного цвета, на затылке стянуты и падают из-под плоской шляпы между лопаток, как раз там лежала бы его рука, если б они с ней танцевали нос к носу — другого способа Уэсли не признавал с тех пор, как пришел с флотской службы. Потом взгляд его скользнул дальше. И каждый раз, когда он глядел пониже этих колышущихся волос, он начинал думать про женщин, которых знал в Норфолке и на пляжах, про то, как они пахли в темноте, у него и сейчас стоит в ноздрях этот запах, но он не припомнит ни как их звали, ни как они выглядели, хотя тормошился с ними ночи напролет, и на пальцах его до сих пор, будто застывший жир, осталось ощущение их кожи, можно подумать, они здесь, рядом, под этим деревом, — все те, кто звал его Младенчик, шарили по его телу руками, а когда все начиналось, вскрикивали в темноте: «Ой, боже мой!»
И вдруг на дереве над головой Уэсли запела птица, в палящем воздухе звук ее чистого голоска показался действием, и Розакок взглянула на Уэсли, словно от него оно шло, это птичье пение, и глядела так, будто видела насквозь и его, и все, о чем он думал, и, вглядевшись, покачала головой. Но ведь Уэсли уже исполнилось двадцать два года, и спрашивается, что тут особенного, если ему на ум приходят всякие такие мысли? Разве что они не вяжутся с Розакок, теперешней Розакок, новой, изменившейся с тех времен, когда три года назад они ездили в Уоррентон смотреть кино, потом подъезжали почти к самому ее дому и целый час, а то и больше прощались, сидя в машине под деревом перед сумрачными слепыми окнами, и покатывались со смеху, когда падавшие пекановые орехи стукались о машину.
Те, другие женщины — он их трогал и требовал всего, когда вздумается, а трогал ли он но-настоящему Розакок? Столько времени он ее знает, а если закрыть глаза, что особенного он перед собой увидит? И что с нее стребуешь, с такой вот — во всем белом, воскресном, стоит себе на ступеньках церкви и смотрит, как везут сюда Милдред, — и насколько все это станет твоим, если подойти, потребовать и даже что-то получить?
Может, он и попробовал бы дознаться, но она вдруг повернулась и исчезла в темных дверях, и совсем не нарочно качнула бедрами, просто дала волю силе, которая в ней есть (а силы-то дай боже, камень можно раздробить), и напоследок показала белые лодыжки, твердые и гибкие над этими высокими каблуками, и, господи Иисусе, он словно перенесся в Норфолк, и это было так явственно, как то, что припекает солнце. А оно здорово припекало, заливая Уэсли жаром с головы до ног, наверно, оно наполовину во всем и виновато. Чтобы отвлечься, он вынул инструменты и стал подкручивать гайки в мотоцикле, которые и без того были закручены туже, чем положено богом.
В церковном притворе Розакок вспомнила, что ни разу не была здесь с того дня, когда они прокрались сюда вместе с Милдред и попали на собрание, где восьмидесятилетняя тетка Мэнни Мейфилд встала и принялась называть по именам отцов всех своих детей — сколько могла припомнить. Сейчас Розакок поглядела вокруг и убедилась, что три примечательные вещи были на месте: и свисающая с колокольни веревка от колокола, за которую мог дернуть кто угодно, и серое бумажное гнездо шершней (еще во время войны они по ошибке слепили его в церковном окне, а потом, как казалось на глаз, покинули совсем, но никто не решался сорвать это гнездо — боялись, что там остался какой-нибудь старый и злющий шершень), и прибитый гвоздем возле открытой двери в молитвенный зал бумажный мешочек с надписью: «Жевательную резинку просим оставлять здесь». Она сделала глубокий вдох — словно в последний раз до самого вечера — и вошла, и горячий воздух бросился ей навстречу, как желанной гостье.
Зал казался совсем пустым — только загородка для хора возле пианино, а перед ним кафедра, сбоку печка и ряды твердых скамеек, человек сто уместилось бы, хотя дай бог, чтобы набралась половина, даже по такому особенному случаю, как похороны, но сегодня тут ничто не говорило о предстоящих похоронах. Нигде пи одного цветочка — цветы едут вместе с Милдред на грузовике, и никому не пришло в голову прийти пораньше и открыть окна. В зале было шесть высоких окон; Розакок решила, что откроет последнее слева и сядет возле него. Она пошла по пустому проходу и, когда дошла до кафедры, увидела, что в церкви она не одна — тут, тяжело дыша, спал Лен-дон Олгуд, похожий на сухой кукурузный стебель; руки его свесились со скамьи на пол, рубашка была застегнута под горло. Он жил один в однокомнатной халупе у самой церкви и копал могилы для белых, а беда его была в том, что он глушил парегорик, когда только мог его достать — это бывало обычно по субботам, и потом уже ему редко удавалось добраться домой. В воскресенье утром вы могли где угодно наткнуться на спящего Лендона. Однажды под рождество — Розакок тогда еще не было на свете — он растянулся прямо на дороге, и тому, кто утром его нашел, пришлось ехать с ним прямо в больницу Роки-Маунт, где ему отрезали все пальцы на ногах, обмороженные в легкой обувке. Вот почему теперь носки его ботинок загибаются кверху. Давно ли он тут валяется и сможет ли встать, Розакок не знала, она знала одно: он должен убраться, пока не подъехали машины, не так он одет, чтоб остаться на похороны, и поэтому она окликнула его:
— Лендон! (Она Лендона не боялась. Когда она была маленькой, она бегала в аптеку и покупала на его четвертаки пузырьки парегорика, потому что ему самому больше не отпускали ни капли.) Лендон, вставайте, — сказала она. Но Лендон и не думал просыпаться. — Лендон, это мисс Розакок. Ступайте отсюда.
И до него это дошло. Он открыл глаза.
— Доброе утро, мисс Розакок, — сказал он так, будто встретил ее на дороге по пути на работу.
— Уже день, Лендон, пожалуйста, вставайте и идите себе домой.
— Слушаюсь, мэм. — Лендон сел и, сообразив, что он в церкви, осклабился. — Вон оно где я…. А вы тут зачем, мисс Розакок? — спросил он.
— Сегодня хоронят Милдред.
— С чего это вдруг?
— Она умерла.
— Ну и ну. — Он поднялся на ноги, нахлобучил кепку, даже к козырьку притронулся пальцем, и быстро, как мог, заковылял к двери возле клироса, которая вела наружу. Розакок прошла между скамьями и подняла оконную раму. Лендон, дойдя до двери и уже взявшись за ручку, вдруг обернулся и сказал:
— Вроде бы я Милдред родней прихожусь.
— Дядей, кажется.
— Да, мэм, точно. — Теперь он мог спокойно уйти.
Церковь стояла боком к дороге и к дереву, где был Уэсли, и из окна Розакок могла видеть все, что происходит на площадке. Лендон не прошел по ней и десяти шагов, как появился грузовик, чуть забуксовав на колеях, которые оставил Уэсли, и ведя за собой двенадцать машин, и каждая следующая была еще белее от пыли, чем та, что шла впереди, и все они были набиты битком. Машины разгружались по порядку: первыми вышли две жен-шины, мать Милдред, Мэри, и сестра Милдред, Эстелла, которая осталась жить дома, хотя все семейство разлетелось кто куда, а осталась она из-за слабого здоровья, оно у нее пошатнулось с того вечера, как Мэнсон Харгров на танцах выстрелил ей прямо в грудь из обоих стволов ружья. (Она все-таки выжила: стрелять в грудь Эстеллы — все равно что стрелять в пуховую перину.) Потом появилась куча мальчишек — почти у всех приехавших были мальчишки. Их взяли, чтобы переносить цветы, но едва они высыпали из машины, как рванули к Уэсли и окружили его тесным кольцом, уставившись на мотоцикл, как на колесницу божью, умеющую летать по воздуху. Но Уэсли перестал копаться в моторе, как только привезли Милдред. Раза два он ответил мальчишкам, которые забросали его вопросами:
— А какое в нем горючее?
— Уголь, — сказал Уэсли, кивком поздоровался с Мэри, замолчал и прислонился к дереву.
— Ребята, идите берите цветы, — позвал кто-то.
Мальчишки побежали к грузовику, взяли венки и понесли их к церкви; один шел впереди с венком из роз вокруг шеи, как лошадь, которая победила на скачках и умеет улыбаться.
Мэри и Эстелла стояли у грузовика и смотрели вверх, а мальчишка на стуле уперся взглядом и ногами в деревянный гроб, словно этот гроб его собственность и он никому не собирается его отдавать. Потом молча подошли другие женщины. Одна из них, тетка Мэнни Мэйфилд, которая, чтоб попасть на похороны, прошла пешком четыре мили, но была так стара, что не узнавала здесь ни одной души, обняла Мэри и что-то ей сказала, наверное, что уже пора, и они стали подниматься по ступенькам — две девчонки еле волокли тетку Мэнни, которая могла пройти любое расстояние, но только не «в гору», и, должно быть, следующая очередь будет ее. А мужчины стояли возле грузовика, и, когда цветы унесли, мальчишка на стуле нагнулся и подпихнул деревянный гроб к самому краю, а Сэмми и трое других взяли его на плечи (только чтобы все видели, что они несут гроб, — с ним и двое легко управились бы). Они немного постояли, прилаживаясь к своей ноше. Кто-то тоненько и отчетливо хихикнул. Священник повернул к церкви, и все мужчины зашагали вслед за ним.
Розакок видела все это и ждала, что Уэсли вот-вот оторвется от дерева и сядет рядом с ней. Но он и не шелохнулся, даже когда площадка перед церковью совсем опустела, и, когда она услышала, что входят Мэри и Эстелла, а за ними все остальные, ей пришлось отвести от него глаза, встать и кивать головой всем проходящим, называя каждого по имени. Мать и сестра подошли к передней скамье и опустились на нее так, будто их придавила упавшая сверху тяжесть, другие тоже прошли вперед, а Розакок осталась на своей пустой скамье позади, и все, кроме женщин с грудными ребятами, стояли до тех пор, пока гроб не установили на козлы перед кафедрой и кто-то из мальчишек не положил на крышку, туда, где, по его расчету, было лицо Милдред, венок в виде кровоточащего сердца, который послала Розакок по просьбе Мэри: белые гвоздики, а посередине красные розы, чтоб было как кровь (еще сколько времени надо будет за него выплачивать!). После этого пять женщин встали из разных рядов и взошли на клирос. Заиграло и смолкло пианино, и через секунду в жарком воздухе взвился голос Бесси Уильямс, которая выпевала семь слов, зовя всех присоединиться к ней. Это был гимн «Имя сладчайшее, дай нам узреть твой лик», они пели истово, обращаясь к Иисусу, и глядели вверх, под крышу, на гнезда шершней и на пауков, словно все это могло куда-то укатиться и открыть им то, что они хотели узреть. Но гимн был пропет, и преподобный Минги поблагодарил женщин и сказал, что миссис Рентом сочинила некролог и сейчас его прочтет. Миссис Рентом, улыбаясь, встала со скамьи, повернулась лицом к Мэри и Эстелле и начала читать по бумажке, которую держала в руках:
— Мисс Милдред Саттон родилась в 1936 году в той же кровати, в которой она скончалась. Ее мать — Мэри Саттон из нашего прихода, отец, Уоллес Саттон, — где он сейчас, неизвестно, — несколько лет пробыл на шоссейных работах, а до того, говорят, воевал во Франции, был отравлен газами и похоронен заживо и с тех пор так и не оправился. У мисс Милдред Саттон три сестры и брат, они живут в Балтиморе и Филадельфии, кроме Эстеллы, которая сейчас здесь, с нами, и они не смогли приехать, но прислали телеграммы, которые будут оглашены позже. Она выросла в наших местах и работала на хлопке у мистера Айзека Олстона и время от времени посещала школу, пока не нанялась к Дрейкам стряпать и ходить за детьми, которых она любила как родных. Она проработала у них почти два года, и они, конечно, были бы здесь, если б не уехали отдыхать на Уиллоби-Бич. Милдред до последнего дня собиралась поехать с ними, но не смогла. Она осталась здесь и умерла, немного не дожив до двадцати одного года. Ее любимая песенка была «Анни Лори», и этой песне выучила ее мисс Розакок Мастиан, которая сейчас с нами как представительница наших белых друзей, и по просьбе матери я эту песню сейчас спою.
И она, стоя как стояла, одна пропела всю песню до конца на какой-то совсем не известный Розакок мотив, как видно придумывая его на ходу, потому что ведь Милдред это уже все равно.
Потом священник прочел телеграммы. Они мало отличались от телеграммы ее брата Алека:
«Думаем сегодня о сестренке сожалению машина не в порядке».
Причина казалась очень уважительной. Все кивали головами, и кое-кто сказал: «Аминь».
Розакок неподвижно высидела чтение, стараясь все время видеть гроб между мелькающих вееров. То и дело кто-нибудь да оборачивался назад поглядеть, здесь ли она, и, увидев ее, улыбался, точно весь нынешний день пойдет кувырком, если не будет этого знакомого лица (так смотрел мальчишка, сидевший на три ряда впереди; он таращил на нее глаза, как на что-то невиданное и непостижимое, что может вот-вот растаять в воздухе). Было жарко и душно, и мысли Розакок медленно пробирались сквозь недавнюю весну, дожди и прохладу, пока не привели ее к одному из тех вечеров с Уэсли, но тут до нее смутно донесся голос, вернувший ее обратно:
— Мисс Розакок, будьте добры, проститесь, пожалуйста, с покойницей.
Она повернула голову от окна — рядом с ней стоял священник.
— Уже?
— Да, мэм, все готово.
Они сняли крышку с гроба и хотели, чтобы первой подошла Розакок. Мама предупредила ее, что, наверное, так и будет, и кажется, ту г ничего не поделаешь. Она встала, надеясь, что священник пойдет вместе с ней (он и пошел, но только на несколько шагов позади), и направилась к гробу, не отрывая глаз от стоявшей за ним кафедры, чтобы не видеть Милдред, хоть пока она идет по проходу.
Милдред обрядили в розовую ночную рубашку с завязками у ворота, которую ей подарила с себя хозяйка дома, где она была кухаркой, но за последние дни от Милдред почти ничего не осталось, она так высохла, будто только жизнь и придавала вес ее телу, и рубашка лежала полупустая. У нее всегда почти не было грудей, наверно, Эстелле досталось за двоих, и, когда им было лет по двенадцать, Розакок ей говорила: «Милдред, ты бы купила лифчик с подкладками, у тебя груди как глазунья на сковородке», а сейчас они у нее налитые, хоть это уже ни к чему, и ниже плеча касаются рук, вытянутых вдоль тела, но кистей и пальцев не видать, а они у нее красивые. Оттого, наверное, что грузовик где-то тряхнуло, ее тело сдвинулось влево, лицо резко вдавилось в подушку и видно было только в профиль. Те, кто снимал крышку с гроба, так ее и оставили. Может, я должна положить ее на спину, подумала Розакок, чтобы все видели лицо. Она взглянула на священника и чуть было не спросила, не для того ли он ее позвал. Но, подумав, она повернулась и мимо всех, кто ждал своей очереди подойти к гробу, пошла по проходу на свое место, глядя в пол и как-то приободрившись оттого, что трудное уже позади, и Милдред повернута к стене так, что ее лицо почти не видно.
И Уэсли повернулся так, что его почти не видно. Он сидел на корточках, ботинки его утонули в пыли, но он полировал каждую спицу в колесах этой своей машины, будто теперь ему придется ездить не иначе, как по бархатным коврам. Все, кто был в церкви, вереницей потянулись прощаться с Милдред, и Розакок успела подумать: «Завтра он уедет в Норфолк, на новую работу, и будет продавать мотоциклы, может, до окончания жизни, и все-таки не желает оторваться от машины даже на часок и посидеть со мной в церкви».
А он все надраивал колеса, и руки его двигались медленно, точно спицы покрывало густое масло. Временами он привставал и разглядывал свою работу, и по тому, как ходили его ребра под поясом, видно было, что он тяжело дышал — единственный признак, что и на него действует жара. Наконец, удовлетворившись сделанным, он встал и обтер тряпкой ладони и руки до закатанных рукавов. Но вытирал он смазку, а не пот. Он такой, что в июле месяце может надраить весь мотоцикл и ни капельки не вспотеть, даже его темные, по-флотски коротко подстриженные и высоко подбритые на затылке волосы были совсем сухими. Это даже как-то неестественно. И когда Уэсли опять прислонился к своему дереву, уставясь в землю, он показался Розакок свежим и прохладным, как один ноябрьский денек шесть лет назад, и она стала думать о том дне, таком ясном и свежем, о дне, когда она. в первый раз увидела Уэсли. Он жил в трех милях от ее дома, а она всю свою жизнь слышала о Биверсах, но никого из них в глаза не видела до того дня — это была суббота, — когда она отправилась в лес мистера Айзека собирать с земли пекановые орехи. Оказалось, еще не время — листья уже облетели, а орехи висели на ветках, ожидая хорошего ветра, но ветра в тот день не было, и она поплелась домой с горсточкой орехов в ведерке, решив, что пусть это считается просто прогулкой, потом она взглянула наверх и на высоком дереве у поворота тропинки увидела мальчишку, который раскинул руки между веток и расставил ноги — точь-в-точь как орел на монете. Это было пекановое дерево, она подошла и стала прямо под ним и сказала:
— Мальчик, стряхни мне орехов.
Ни слова не говоря, он крепче ухватился за ветки и раскачал раздвоенный сук, на котором стоял, сотни орехов посыпались на Розакок, и в конце концов она крикнула, что хватит, а то у нее треснет череп. Мальчик перестал трясти ветки, и она набрала орехов, сколько могла донести, и все время ждала, что он сейчас слезет и поможет ей, но он и не думал слезать, а когда она раз-другой взглянула вверх, он даже не смотрел на нее, его длинные ноги в синих джинсах со спущенным ниже талии поясом упирались в ветки; грудь узкая, голая белая шея, волосы каштановые, еще не отросшие после летней стрижки — должно быть, кто-то из домашних обкарнал его так коротко, — а глаза его смотрели вдаль и, наверно, видели такое, чего не увидит ни одна живая душа в округе Уоррен, если только не вскарабкается на пекановое дерево.
— Что ты там выглядываешь? — спросила она.
— Дым.
Розакок поглядела на небо, но оно вроде было чистым.
— А ты не хочешь взять себе орехов? — Как будто вокруг нее они не лежали целыми бушелями!
— Я их не особенно люблю.
— Тогда что же ты делаешь на дереве?
— Наверно, жду.
— Кого это?
— Да просто жду.
— А ты кто?
— Я? Уэсли. — Можно подумать, что он единственный Уэсли на свете.
— А что ж ты не спрашиваешь, кто я?
— Кто ты?
— Я Розакок Мастиан, а тебе сколько лет?
— Скоро шестнадцать.
— Значит, ты уже можешь получить водительские права. Мы с моим братом Майло спали в одной кровати, пока он не получил водительские права, а потом Мама сказала, что ему нужно спать отдельно.
Он улыбнулся, и по этой улыбке она поняла, что, кажется, победа близка, но на сегодня, пожалуй, хватит, и потому сказала: «Спасибо, что натряс орехов» — и пошла домой. После этого она не видела его почти целый год. Но долгими вечерами, пока не кончились орехи, все думала о нем и о том, как его ничего не интересовало, кроме дыма, которого она гак и не увидела, как он смотрел и, наверно, думал, не пожар ли где, и ждал.
А мимо Милдред вереницей проходили люди. Многие — главным образом мелюзга — старались проскользнуть как можно быстрее, искоса бросали взгляд и поскорее отворачивались, а Джимми Джинкинс, возвращаясь на место, растянулся в проходе, потому что шел мимо Милдред с закрытыми глазами, чтобы она ему потом не мерещилась. Но взрослые большей частью задерживались у гроба и жалели, что ее голова повернута набок, хотя никто и пальцем не шевельнул, чтоб ее поправить, а когда Минни Фут подняла своего ребеночка повыше, чтоб ему было лучше видно, он уронил соску прямо в гроб, и все поняли, что соска теперь пропала, кроме малыша, который начал хныкать и заревел бы благим матом, но Минни вовремя села на скамью, расстегнула кофту и убаюкала его, и он заснул так крепко, что даже не слышал, как Сара Фитс, увидев Милдред, завыла: «Господи Иисусе Христе!», но этот вой донесся до того места, где стоял Уэсли (за окном, лицом к церкви, но не глядя на нее и не прислушиваясь к тому, что происходит внутри), и он вскинул глаза и улыбнулся — может, ей, Розакок, а может, просто раскаленной солнцем церкви, и все с той же улыбкой сделал длинный высокий прыжок, точно олень, и, оседлав свой мотоцикл, с размаху нажал ногой на стартер, опять как тот олень, бьющий копытом землю, и неожиданно и рощу, и знойный воздух прорезал оглушающий треск, словно разорвали надвое полотнище пересохшей холстины, и Уэсли исчез.
Вот так, постепенно, увидела все это Розакок. Еще до того, как она оторвалась от своих воспоминаний и отвернулась от окна, почти все уже прошли мимо Милдред; сейчас начнутся надгробные речи, но, когда Сара завела свое «Господи Иисусе», Розакок снова повернулась к Уэсли поглядеть, что он теперь-то будет делать, и подумала про себя: «Этого-то он уж не может не заметить». Так что она видела все с самого начала — как он прыгнул и почудился ей оленем. А может, кем-то и посильнее, когда он все с той же улыбкой уперся в землю черными своими туфлями, потом нога, обтянутая штаниной, дернулась чуть назад, и сразу же взревел и затрещал мотор. Все это она видела и даже не удивилась тому, что он делает, и не подумала, вернется ли он сюда. Она даже отвернулась и стала смотреть на Мэри и Эстеллу, которых подвели в последний раз посмотреть на Милдред, и они разрыдались, и все, кто был в церкви, залились слезами, кроме Розакок, хотя у нее было не меньше оснований, чем у других, — ведь она так давно знала Милдред. Но она не заплакала, потому что рев мотоцикла вдруг смолк — Уэсли выехал на дорогу в четверти мили от церкви, а сейчас, конечно, развернется, приедет сюда и будет ждать. Ну, так и есть, опять началось, тарахтение неслось к церкви и, как сверло, буравило все сердца, и наконец все лица обернулись к Розакок: может, хоть она уймет этот шум, но она глядела прямо перед собой и не видела ничего, пока грохот не стал таким громким, что громче невозможно, и вдруг стих так же быстро, как и начался. Тот мальчишка, на три ряда впереди, что все время на нее пялился, хлопнул себя по коленке и громко выпалил: «Уехал, мам!» Уэсли бросил ее одну. Наверно, он сейчас понесся к бетонному шоссе и промчится двадцать миль до озера Мэсона, где сейчас пикник и уйма народу.
«Вдруг да он уехал навсегда, — сказала она себе, — вдруг да я его больше в глаза не увижу», — и это заставило ее призадуматься: а что же он ей оставит и есть ли что-нибудь такое, что можно выбрать и хранить в себе или погордиться перед другими и сказать: «Я знала одного человека, Уэсли Биверса, так вот это — от него».
А много ли у нее есть от него — пачечка бумажных листков дома в ящике, письма и открытки, которые он ей посылал. (Он не часто ей писал, а когда письмо приходило, оно было вроде повестки в суд, до того равнодушное и непонятное, что над какой-нибудь фразой целыми днями можешь себе ломать голову и в конце концов начинаешь думать, что лучше б он вовсе не писал, а иной раз хочется позвонить ему по междугородному телефону, где бы он там ни был, и сказать: «Уэсли, давай я прочту тебе кусочек из твоего письма» — и прочесть ему то, что он написал: «В прошлую субботу мы поехали в Океанский Кругозор и там возле ларька с шамовкой познакомились кое с кем, и они сказали, почему бы нам не попляжиться в своей шкурке при лунном свете, и, в общем, мы здорово провели время и уехали только в понедельник утром», а потом спросить: «Уэсли, объясни, пожалуйста, что это за люди, с которыми ты знакомишься у сосисочного ларька, и что значит попляжиться в своей шкурке»? Но мыслимое ли дело звонить по междугородному и платить кучу Денег только за то, чтоб услышать в ответ: «С чего это ты так переполошилась?») Кроме писем, у нее была одна его фотография, где он в матросской форме и улыбается, и стихи, которые она сочинила на конкурс «Каким я представляю себе Идеального Супруга» (но в конце концов так никуда и не послала, потому что слишком расписалась), и еще матросская шапочка, которую она у него выпросила (ее можно было купить за доллар в любом магазине военного обмундирования).
Когда Уэсли вернулся домой, она однажды надела эту шапочку в надежде, что он ее сфотографирует. Но само собой, у него и в мыслях этого не было, и в конце концов она сама подарила, почти навязала ему как подарок в день рождения свою карточку, только эта одна у него и есть — Розакок Мастиан по шею, раскрашенная фотографом и до того на себя непохожая, что и сказать нельзя.
Вот, значит, и все, но разве от тех, кого она знала и кто ушел навсегда, осталось больше? Ржавые жестянки из-под нюхательного табака, до сих пор попадающиеся во дворе, — это память о Папе; даже от всех собак, которые у нее были в жизни, сохранились ошейники, а номерной знак от машины (Нью-Джерси, 1937), до сих пор висящий на заднем крыльце, — единственное, что осталось от ее родного, кровного отца, который нашел его на шоссе в тот вечер, когда она родилась; он пришел домой пьяный в стельку, прибил номерной знак над кадкой с водой и сказал: «Прошу всех запомнить — в этот год родилась моя дочь»; только это и осталось, и больше ничего — ни портрета, ни единой нитки, словно святой дух унес его с земли в огненном столпе со всеми пожитками, а не сшиб пикап, которого он спьяну в сумерках не разглядел, но двинулся прямо на него, будто намереваясь войти и поспать в нем.
Намного ли больше останется от Уэсли? Что, кроме того первого ноябрьского дня и множества субботних вечеров и сегодняшнего, последнего дня, когда он пропал, подняв дикий шум и тучу пыли? Ей вспомнилось, что он ей сказал вчера вечером; он долго молчал, и она спросила, часто ли он смотрел на ее карточку, когда был во флоте.
— Случалось, — ответил он.
— А зачем? — спросила она, и Уэсли сказал:
— А то бы я забыл, как ты выглядишь, — и засмеялся. Хотя сейчас, вспоминая, она решила, что смех смехом, а сказал он это всерьез. Они знали друг друга почти семь лет, а стоило ему уехать из дому, как он порою забывал ее лицо. Но что тут особенного? Розакок и сама, когда уезжала в летний лагерь (и всего-то на восемь дней!), бывало, раздумается, лежа ночью на раскладушке, и вдруг ей представится кто-нибудь из родных — Мама, Майло, Рэто или Папа, и каждый вроде бы без лица, как головка сыру. Она напрягала память, стараясь представить себе их черты, и даже пробовала рисовать пальцем в воздухе, но чаще всего так и не могла припомнить их лица, пока не возвращалась домой и не видела их своими глазами. Чудно как-то — лицо президента Рузвельта ты помнишь до последней родинки, и Энди Темп стоит перед глазами как живой, а лица, которые привыкла видеть всю жизнь, никак не можешь себе представить. Но лица Уэсли она никогда не забывала, даже если ей до него было столько же дела, сколько до какого-нибудь араба в раскаленной пустыне.
Она-то знала, как он выглядит. И наверно, так будет всегда: с кем бы она ни повстречалась, где бы она ни была, даже во сне ей видится его лицо — и вверху, на дереве, среди пекановых орехов, и не на дереве, и такое, каким оно стало теперь, сегодня, через шесть лет. Но всегда в нем проглядывал тот мальчик Уэсли, все такой же, каменный до самого нутра, не принимавший ничего близко к сердцу, а может, и вовсе без сердца; он будто сухое шершавое семечко у нее в руке, и поди знай, есть ли там живой росток того, первого Уэсли, и научится ли он смотреть на людей так, чтобы они не чувствовали себя за десять тысяч миль от него, и думать не только о флоте Соединенных Штатов и о мотоциклах, и отвечать, когда с ним заговаривают, и говорить то, что он думает, и не мельтешиться туда-сюда, — вот если б он этому всему научился, пока не поздно, как приятно было бы на него смотреть, и тогда, если б даже он однажды ушел навсегда, то, наверно, оставил бы после себя что-то стоящее, ребеночка, например, у которого была бы та же смешная фамилия и лицо Уэсли, но он наполовину принадлежал бы ей и откликался бы, когда она его позовет.
Единственное, что останется от Милдред (когда закроют крышку гроба), — это ее ребенок; одному только богу известно, как он остался жив, темнокожий, неподатливый, в обитом белой тканью ящике из-под апельсинов, куда его положили; он выгибал спину и сучил паучьими ножонками и ручонками, словно его завели ключом, и не знал, что он уже родился и убил свою мать и что его пришлось назвать Следжем, по фамилии доктора, потому что отец так и не объявился и не сказал его настоящую фамилию — насупленный, упрямый маленький человечек, который явился на свет безродным, разве только кровь у него наполовину материнская, и может, если он выживет, то будет похож лицом на мать и говорить точь-в-точь, как она, и все это в нем сейчас заложено и выжидает.
Священник тоже выжидал, пока Мэри и Эстеллу отвели от Милдред и усадили на скамью. Сейчас полагалось начать надгробные речи, но он видел, что Розакок сосредоточенно глядит в окно на что-то, не имеющее отношения к похоронам, поэтому пришлось несколько забежать вперед и произнести небольшую речь, которая по замыслу должна бы быть последней перед тем, как закроют крышку гроба; в речи говорилось, что все мы восстанем из могил, в том числе и Милдред, но ни слова об ее живом ребенке, как будто Милдред умерла от простуды. И все время священник следил за. Розакок, ожидая, когда она повернет к нему голову и, стало быть, будет готова, но всю его речь да еще и молитву она просидела, глядя в окно, и, исчерпав свои возможности, священник должен был негромко обратиться в задний ряд:
— Мисс Розакок, все мы знаем, что Милдред очень хорошо к вам относилась, и, по-видимому, вы тоже очень хорошо к ней относились. — Тут много голосов сказали «аминь». — И я позволю себе спросить, не могли бы вы сказать о ней надгробное слово?
Голос его донесся до Розакок будто сквозь сон, она очнулась и обвела присутствующих медленным, невидящим взглядом.
Священник, стремясь ее подбодрить, продолжал:
— Если вы поделитесь хоть чем-то, что найдете в своем сердце, мы будем безмерно рады.
Все глаза уставились на нее. Розакок кивнула. Она собиралась заранее обдумать, как бы получше сказать о Милдред, но в этот день все выходило не так, как она рассчитывала. Она прикусила верхнюю губу, просто от духоты, и встала, и заговорила:
— Мы с Милдред последнее время редко виделись, но всегда помнили, когда у кого из нас день рождения, она — мой, а я — ее, и позавчера вечером я подумала: завтра Милдред исполнится двадцать один год, и после ужина пошла к ней, но дома никого не застала, кроме индюка. Только утром я узнала, что ее уже увезли. Я хотела подарить ей пару чулок и пожелать долгой и счастливой жизни, а она уже умерла.
Вот и все, что нашлось в ее сердце. Она подивилась про себя, почему так мало, но если было и больше, то все заслонили собой Другие вещи. Розакок села, и, прежде чем кто-либо успел сказать ей «спасибо», у нее мелькнула мысль, показавшаяся в эту секунду чистейшей правдой: «Все, кого я знаю, умерли». В жаркой духоте она поднялась со скамьи, прихлопнула рукой донышко шляпы, чтобы крепче держалась на голове, схватила сумочку и вся холодная, как оконное стекло, быстро вышла из церкви — совсем не потому, что ее душило горе, и не для того, чтоб дать волю слезам, — но в церкви настала мертвая тишина, все провожали ее глазами, а миссис Рентом произнесла: «Не выдержала» — и, ткнув кулаком Сэмми, своего сына, сидевшего с краю у прохода, громко прошептала: «Сэмми, иди посмотри, там девочка, наверно, убивается».
Сэмми вышел; Розакок стояла на средней ступеньке, вцепившись в поля шляпы, будто надвигалась буря, и смотрела на дорогу; солнце расстелило ее тень до самых дверей церкви. Опасаясь вспугнуть ее своим голосом, Сэмми чиркнул спичкой о подошву и закурил сигарету. Розакок, не поворачивая головы, повела на него сухими глазами и сказала:
— Сэмми, ты же сгоришь в шерстяном.
(На нем был темно-синий костюм — за весь день она впервые увидела человека, который понимал, что такое похороны.)
— Если вам куда-то надо, мисс Розакок, Сэмми вас может отвезти. — Это было сказано так участливо, словно ей надо было ехать в больницу.
Она помедлила, представив в уме географическую карту, и ей страшно захотелось назвать что-нибудь у черта на куличках, например Буффало.
— Пожалуй, никуда, Сэмми. Я, должно быть, вернусь домой, а тут и пешком недалеко.
— По такому пеклу?
— Я играю в бейсбол еще и не на таком пекле, и ты тоже, — сказала она. Потом, сообразив, что она наделала, уйдя из церкви во время надгробных речей, прибавила: — Я и так испортила похороны Милдред, не хватает, чтоб я и тебя увела. Поди скажи Мэри, мне очень жаль, что я не могу остаться, но я должна разыскать Уэсли.
Произведения
Критика