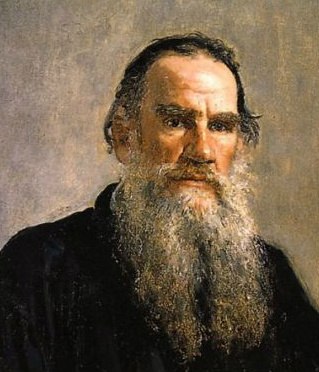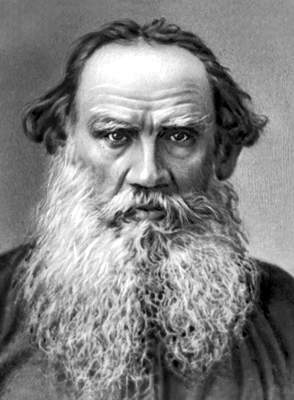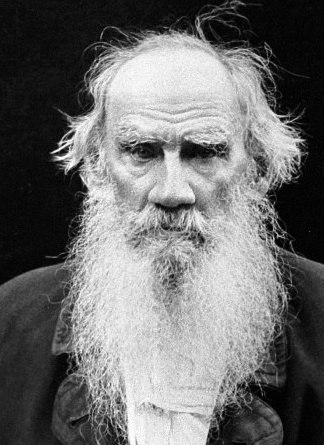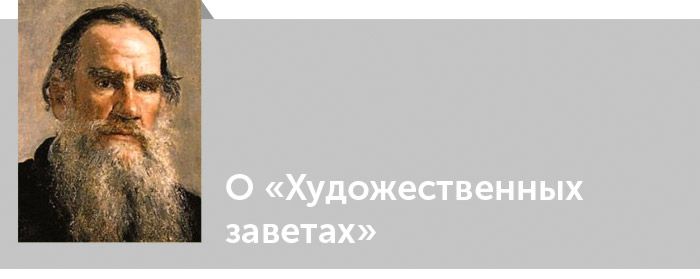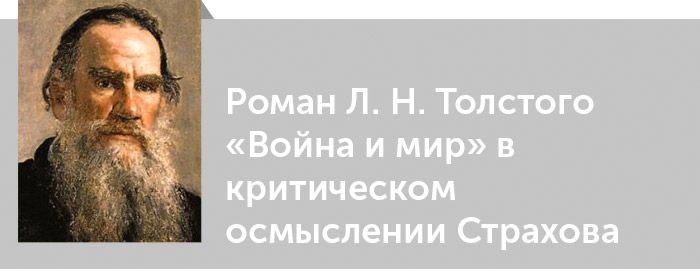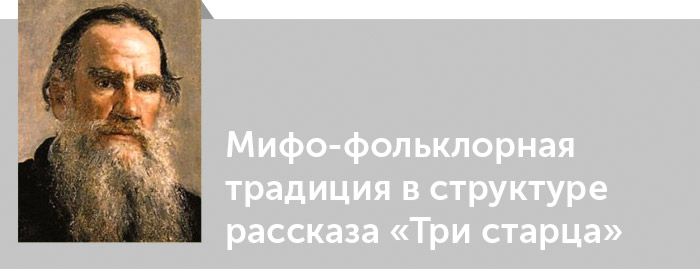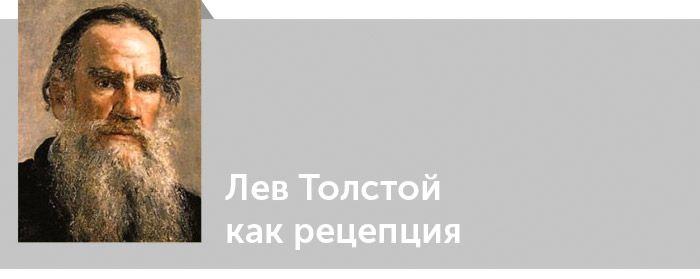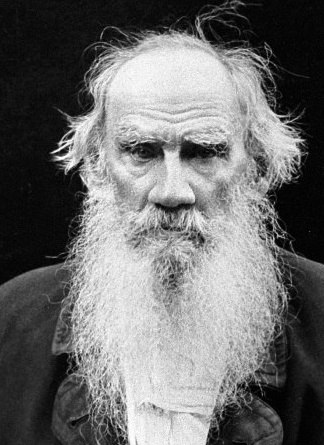Традиции романтизма и поэтики Л. Толстого

Н.К. Гей
Если речь идет об общем направлении толстовского творчества, вполне правомерно считать, что оно носило не только несомненный, но и ярко выраженный последовательно антиромантический характер.
Однако, захваченные очевидностью общего правила, мы распространяем его и на отдельные моменты творчества, упуская сложность, а подчас и противоречивость внутреннего развития писателя.
«Основной пафос молодого Толстого, — считал Б. Эйхенбаум, — отрицание романтических шаблонов как в области стиля, так и в области, жанра»; все в его творчестве подчинено задаче «разрушить романтическую поэтику со всеми ее стилистическими и сюжетными построениями».
Действительно, все написанное Толстым далеко стоит от романтизма начала века. Но, рассматривая становление творческого метода Толстого, необходимо иметь в виду сложность движения русской литературы от романтизма к реализму. В этой связи интересно проследить значение романтического наследия не только для творчества Пушкина,. Гоголя и Лермонтова, но и для Толстого, Достоевского и Чехова.
Конечно, заманчиво представить себе Толстого художественным феноменом и считать, будто он вступил в литературу не только вполне сложившимся писателем, но и законченным реалистом. Но думается, что реализм Толстого не был раз и навсегда «законченным». Он претерпел на ранних этапах писательского самоутверждения стремительные видоизменения и носил следы напряженного поиска — от «Детства» до «Поликушки». Однако даже признание известной «законченности» реализма раннего Толстого не означает невозможности воздействия романтической поэтики на творческий путь и художественный опыт писателя. В этой связи сошлемся на интересное наблюдение, сделанное Я. Билинкисом. Анализируя пушкинскую «Полтаву», исследователь констатирует: «Полтавская битва воспроизведена у Пушкина так, как рисовали сражения классицисты и даже их предшественники... Как ни парадоксально это звучит, в данном конкретном случае своеобразие идейно-художественного задания, поставленного Пушкиным, специфика развития его метода требовали от поэта именно нереалистического изображения Полтавского боя ради утверждения принципов реализма».
Однако необходимых выводов из этого наблюдения автор не делает! Не совсем последовательно Я. Билинкис далее говорит: «Художественная система Толстого как система великого художника, имеющая в основе своей особый подход к миру, не могла сочетаться у ее создателя хотя бы с отдельными чертами какой бы то ни было иной художественной системы. Она властно исключала для ее создателя и носителя возможность использовать иные принципы художественного освоения мира».
Но как же в таком случае быть с «классицизмом» Пушкина в «Полтаве»? Разве «Полтава» не творение «великого художника» в зрелую пору его гения? Разве в ней не запечатлен «свой особый подход к миру»? И разве вопрос об особых, переходных формах от одной творческой системы к другой не обладает определенным универсализмом?
Б. Эйхенбаум правильно указал на то, что после «Детства» для Толстого наступил период мучительных сомнений и борьбы, и потому до «Войны и мира» его произведения — скорее плоды настойчивых исканий, чем свершения. Но и это в целом справедливое мнение нуждается в известных коррективах. Исследователь, основываясь на разнохарактерности, разноплановости и известной «несобранности» художественных структур у Толстого (что дает себя знать уже в автобиографической трилогии, а затем и внутри целого цикла, такого, например, как «Севастопольские рассказы»), демонстрирует подвижность, текучесть авторской манеры, используемых им приемов. Писатель как бы «перебирает» всевозможные способы повествования, различные средства изображения жизни, чтобы выявить для себя самого, в первую очередь, их художественные возможности, сильные и слабые стороны, исследовать эффективность самых разных сочетаний их, и в этой связи он обращается к поэтике и стилистическим средствам русских и зарубежных классиков.
Б. Эйхенбаум допускает возможность такой постановки вопроса главным образом в отношении творческого опыта писателей XVIII века, к которым, по его мнению, тяготел Толстой. Поэтому исследователь и зачисляет молодого писателя в разряд «архаистов», считая, что он совершенно игнорировал романтические веяния в искусстве XIX века.
Однако молодым Толстым была проделана поистине титаническая работа. Между автобиографической трилогией и «Поликушкой» диапазон «проб» охватывает литературное развитие доброго полувека, начиная от традиций сентиментально-предромантического толка и кончая творческим опытом натуральной школы, связь с которой проследил в одной из своих работ Н.К. Гудзий.
Мнение о развитии таланта Толстого нуждается в обосновании и более последовательном применении взятого принципа. Толстовскому гению безусловно соответствует определение «могучий захватчик», которое относили в свое время к Гете.
Впрочем, и не может быть иначе с настоящим художником: чем крупнее его дарование, тем больше возможностей у него овладеть уже накопленным художественным опытом. Конечно же, прежде чем сделать чужое своим, писатель видит свое в чужом. И нужна творческая зрелость, чтобы на смену освоению пришло владение материалом, стилем, языком. Но если это так, то можно ли исключать ближайших предшественников и целиком обращать свое внимание лишь на связи художника с «дальними» для него литературными традициями?
Дело обстояло несомненно сложнее; «архаизм» Толстого уживался с его своеобразным «романтизмом». Отсюда могут следовать два разных вывода, и лишь по результатам возможно судить, было ли это бесплодным эклектизмом или многообещающей восприимчивостью.
Но не будем забегать слишком вперед и задумаемся над вопросом, как объяснить у «архаиста» и «антиромантика» Толстого наличие фактов и явлений, до сих пор не проясненных? Как, в самом деле, возникла романтическая, по сути дела, позиция героя-рассказчика в «Люцерне», его бунт против современного общества, или еще более странная для реалиста фигура музыканта-скрипача из «Альберта», этого «гениального юродивого»? Начав рассматривать под этим углом зрения факты, можно также обнаружить, что некоторые творческие идеи Толстого скорее тятотеют к опыту романтического искусства, нежели к реализму. Так, во время работы над «Святочной ночью» Толстой записал в дневнике: «... начатый рассказ не увлекает меня. В нем нет лица благородного, к[оторое] бы я любил...» В черновом варианте «Юности» об Иртеньеве сказано: он «один сам с собой перебирал все свои бывшие впечатления, чувства, мысли, поверял, сравнивал их, делал из них новые выводы и по-своему перестраивал весь мир...». Еще более энергично говорится в дневниковой записи Толстого от 3 июля 1851 года: «В Мечте (с большой буквы! — Н. Г.) есть сторона, которая лучше действительности...». И как бы в развитие этой мысли Толстой замечает, что искусство было для него «обходом» жизни, к которому он прибегал, чтобы, «как прежде бывало, вспорхнуть над жизнью». Естественно, что писатель убеждается в необходимости все более глубокого обоснования реальностью своих побуждений и идеалов.
И все-таки даже жанровая специфика ранних толстовских произведений испытывает воздействие не раскрытых еще исследователями импульсов. Появляется «Утро помещика» — небольшой фрагмент из «догматического» романа, т. е. произведения, посвященного и подчиненного выражению близкого писателю идеального содержания. «Казаки» первоначально именуются в дневнике «поэмой», а об «Альберте» сказано прямо, что это не «описательное», но «исключительное», другими словами — исключительное по содержанию произведение.
Начнем с «Детства» Толстого, произведения, как бы выросшего из дневниковых записей писателя и первоначальных попыток «рассказать» впечатления детства в «Четырех эпохах развития». Исходные варианты трилогии Толстого характеризуются точностью наблюдений, фактографизмом, вниманием к движениям собственной мысли и чувства и, наконец, потребностью «объяснить» изображаемое, прокомментировать то, о чем повествуется, в обстоятельных рассуждениях и авторских отступлениях.
Эволюция первоначальных вариантов произведения позволяет говорить о сдвиге к романтической поэтике. Меняется общий тон отступлений, число и объем которых в окончательной редакции сильно сокращен, но которые, как правило, теряют свою рационально-резонерскую направленность и приобретают взволнованность, эмоциональную напряженность и позволяют говорить даже о «лирических» главах трилогии.
Можно встретить вкрапления, носящие экспрессивную стилистическую окраску, близкую, скажем, манере Марлинского или раннего Полевого. Так, например, Толстой пишет: «Наталья Савишна молча выслушала все это, потом, взяв в руки документ, злобно взглянула на него, пробормотала что-то сквозь зубы и выбежала из комнаты...». Или: «...вдруг учитель с злодейской полу-улыбкой обратился ко мне». Или, наконец: «...я вижу там что-то удивительно прекрасное, белое, прозрачное, длинное и чувствую, что это моя мать».
О композиционно-стилистическом значении воображаемых картин, мечтаний, грез в трилогии и последующем творчестве Толстого мы еще будем говорить, но в одной статье просто невозможно исчерпывающе проанализировать соотношение творчества Толстого с творчеством романтиков. Мы ставим перед собой ограниченную задачу: проследить, как воздействовали на письмо Толстого некоторые стороны романтической ноэтики, какое они имели значение при разработке новой системы художественных средств.
Загипнотизированные мыслью о «сплошном» реализме Толстого, исследователи часто оставляли без внимания все то, что не могло подойти под определения реализма, противоречило им. Именно к числу подобного рода явлений, как было сказано, относится и «Альберт», написанный в 1857-1858 годах. Как раз ко времени создания этой повести относятся слова Толстого о том, что он рыдает «беспричинными, но блаженными поэтическими слезами» от стихов Пушкина, что ему хочется писать об искусстве «ужасно высоко и чисто».
Повесть была навеяна знакомством с известным в Петербурге скрипачом Георгом Кизеветтером, произведшим большое впечатление на писателя как своим незаурядным талантом, так и безрадостной участью: Кизеветтер пережил несчастную любовь и спился.
Это произведение, конечно, легко оставить без внимания, отнеся к числу неудач писателя. Однако в данном случае неудача писателя может быть уяснена лишь в связи с темой настоящей работы.
В «Альберте» налицо соединение романтического повествования о гениальном художнике, обреченном на бедность, безвестность и отчуждение от общества, и столь же характерной для реализма темы маленького человека с его бесправием и убожеством.
Толстой назвал своего героя «гениальным юродивым». Для любого романтика, будь то Новалис или Гельдерлин, Полевой или Тимофеев, гениальность — дар неба, безумие, перед которым обыденное сознание чувствует полную свою беспомощность и бессилие. Но это ни в коем случае не юродство. Вот почему, думается, в самом словосочетании «гениальный юродивый» можно видеть «ключ» к двойственной природе произведения Толстого. Попытка соединить вместе столь далекие начала — с одной стороны, тему гениального художника, а с другой, жалкого «юродивого» — без достаточно ясного их внутреннего соподчинения в художественном плане не могла, конечно, не привести к серьезному диссонансу.
Взявшись за «Альберта», Толстой невольно оказался перед проблемой «заурядного» и «незаурядного», «обыденного» и «необыденного», о чем с одинаковым напряжением думали и романтики и писатели-реалисты.
Нужно было обладать необыкновенной силой пушкинского синтеза, чтобы суметь представить эту проблему так, как это было сделано в «Борисе Годунове» и «Капитанской дочке», где самозванец выступает как личность, заурядная в своем повседневном существовании, но способная раскрыться в неожиданных своих возможностях и войти в исторические судьбы народа.
Эта пушкинская способность соединять реальное и идеальное приводила в восхищение Гоголя, который вынужден был исходить из несоединимости гениального сознания и обыденного, повседневного строя жизни. Искусство и повседневность оказываются в его сознании почти враждебными друг другу началами. Именно отсюда возникает романтическая напряженность «Портрета». На стыке двух стихий, как известно, и строилась эстетика романтизма. В гоголевской трактовке назначения искусства, музыки, песни, равно как и в непосредственном воплощении этих проблем в его художественных произведениях, всегда давала знать о себе романтическая струя.
Но в ходе литературного процесса совершается разделение романтической стихии и реалистического анализа, характера поэтического безумца и маленького человека. Заглавное положение в каждом из этих направлений принадлежит таким гоголевским творениям, как «Портрет» и «Шинель».
Художник и его творение, чиновник и дело его рук, постижение глубинного смысла вещей и немудрящее служение букве-фаворитке — вот стихии, которые противостоят друг другу, взывают друг к другу, но не могут найти «примирения» на почве русской действительности прошлого века.
Это же размежевание переходит и к Достоевскому. В его «Белых ночах» и «Бедных людях» запечатлено поэтическое видение жизни, устремленность к мечте и «ничтожество» неустроенного и убогого существования. В мире, разъятом на части, происходит по необхбдимости раздвоение помыслов, чувств и стремлений, раздвоение самосознания — двойничество человека, потерявшего человеческое достоинство и не могущего смириться с этим. Любая попытка преодолеть ущербность такого мира приводит к ущербному герою. И в образе князя Мышкина писатель попробовал соединить чуткость и интуицию героя с идиотизмом, но так, что этот последний скорее получает особый, переносный смысл: он скорее родствен пушкинской теме «бедного рыцаря», только решенной в категориях не поэзии, а повседневного бытия.
Таковы некоторые моменты развития интересующей нас проблемы, в русле которой оказался Толстой. В «Альберте» — те же линии расхождения, что и в произведениях Гоголя и Достоевского: гениальный художник и маленький человек, служитель муз и юродивый. Но то, что у Гоголя и Достоевского было выражено в двух разнородных художественных мирах («Портрет» и «Шинель», «Белые ночи» и «Бедные люди») или, совмещаясь в одном произведении, подчинялось единому художественному решению и получало единое реалистическое оформление в стиле («Идиот»), остается у Толстого в рамках одного произведения в виде двух «исконно» неоднозначных стилистических компонентов.
У Гоголя Акакий Акакиевич — только маленький человек, и выше каллиграфической эстетики ему не дано подняться. У Достоевского — человек с искрой «божественного огня» уже не может быть «маленьким человеком» в общепринятом смысле слова (князь Мышкин).
Альберт у Толстого — это «маленький человек» со всеми атрибутами поэтики натуральной школы в воссоздании этого образа. Но он одновременно и гениальный художник, служитель муз, со всеми атрибутами романтической поэтики в изображении этой его ипостаси: «Мы рабы, а он царь». Именно в таком ключе, как известно, писали о художнике-романтике Н. Полевой, Н. Кукольник и многие другие.
В первом случае возникает весьма характерное повествование, с соблюдением содержательных атрибутов натуральной школы и ее стилистики:
«Альберт, засунув руки в штаны под пальто, надвинув вылезлую с широкими полями шляпу на нечесанные засоренные волосы, на согнутых ногах, торопливо и робко оглядываясь, шибко пробирался около самой стенки».
«Это был среднего роста мужчина, с узкой согнутой спиной и длинными всклокоченными волосами. На нем были короткое пальто и прорванные узкие панталоны, над шершавыми нечищенными сапогами. Скрутившийся веревкой галстук повязывал длинную белую шею. Грязная рубаха высовывалась из рукавов над худыми руками».
Во втором случае говорится: «Альберт с каждой нотой вырастал выше и выше... Лицо сияло непрерывной восторженной радостию; глаза горели светлым сухим блеском...» и т. д. «Иногда он быстро выпрямлялся, выставлял ногу; и чистый лоб, и блестящий взгляд... сияли гордостию, величием, сознанием власти».
Всего на каких-нибудь двух страницах мы встречаем: «улыбка блаженного воспоминания», «поэтические, гофманские ночи», «блаженнейшая улыбка», «теперь же этот мир был разрушен, на месте его стала ужасная действительность», «устроил свой особенный мир», «огонь бесплотной страсти к прекрасному».
Эстетический антагонизм очевиден. Он был прекрасно схвачен самим Толстым в словах: «гениальный юродивый». Этот антагонизм был еще более острым в первоначальных редакциях повести о «пропащем», т. е. опустившемся и погибшем человеке. Альберт показан был не только как нескладный и жалкий, но и как льстивый человек. А один из персонажей говорит о нем: «Не могу понять, почему тот артист, который воняет, лучше того, который не воняет...».
Естественно, что Толстой чувствовал несовместимость двух стилевых потоков, но удивительно не то, что он пытается в ходе работы избавиться от нее, а то, что происходит приглушение не романтической, а натуралистической стороны повествования!
Приведенные выше портретные зарисовки дополняются романтической интерпретацией музыканта: «Нечесанные волосы, закинутые кверху, открывали невысокий и чрезвычайно чистый лоб. Темные усталые глаза смотрели вперед мягко, искательно и вместе важно. Выражение их пленительно сливалось с выражением свежих, изогнутых в углах губ...»
А в письме Боткину из Парижа Толстой сообщает: «Надеюсь здесь кончить Кизеветтера, который в продолжение дороги так вырос, что уже кажется не по силам».
Стилистическое противоречие тем самым делается непреодолимым.
На страницах рассказа — и «жалкий» артист с «пошлым жестом», что невозможно при романтическом воссоздании характера; и «бедный человек», наделенный «необыкновенным» даром, возвышающим его над всем окружающим, что невозможно для традиции натуральной школы. Двойственность такого построения проецируется на все элементы повествования, порождая «нетолстовский» способ и средства выражения, вроде: «странная мужская фигура... пленительно зашевелилась».
И не случайно возникает и укореняется мнение об «Альберте» как о произведении, произнесенном «не своим голосом». Для нашей темы как раз важно отметить этот явный «перекос» в сторону романтизма, который в финальной части рассказа превращается в подлинное прославление гениального художника.
Даже Б. Эйхенбаум, в явном противоречии со своим исходным тезисом, писал: «... в споре об искусстве и художнике Толстой предпочел вернуться к романтическим представлениям о гении...» От себя же добавим, что «возвращение» Толстого здесь происходило как к романтическим представлениям, так и, соответственно, романтической поэтике.
Остановимся на более общих представлениях: они явственно сказались в отмеченной уже трактовке художника и его места в жизни, но еще сильнее — в самом истолковании искусства и музыки как высшего, «романтического» вида искусства.
Необходимо указать и на общественную мотивированность этого толстовского интереса. Споры о сущности и значении искусства получают в 50-е годы прошлого века особый характер: появляются диссертация Чернышевского, статьи Дружинина, Анненкова и Боткина. Причем Толстой своим неожиданным романтическим истолкованием оказывается в оппозиции к известному триумвирату защитников «чистого искусства». Уже Эйхенбаум обратил внимание на явное расхождение Толстого с Боткиным в трактовке художника. Так, Боткин в статье о Фете с иронией говорит о «фантастических взрослых младенцах», изображаемых романтиками.
Для Толстого «фантастический взрослый младенец» оказывается героем — жертвой среды. Его гибель — преступление против человека, против лучшего в нем и воплощенного прежде всего в искусстве, которому он служит. Идея произведения выражается при этом самым непосредственным образом, в виде чисто романтической тирады: «Нет, братья!.. Вы не поняли человека, жившего между вами; вы не поняли его! Он не продажный артист, не механический исполнитель, не сумасшедший, не потерянный человек. Он гений, великий музыкальный гений, погибший среди вас незамеченным и неоцененным... Он, как соломинка, сгорел весь от того священного огня... Он любит одно — красоту, единственнонесомненное благо в мире». И далее воображение замерзающего художника рисует ему, как он «сам играл на скрипке все то, что прежде говорил голос. Но скрипка была странного устройства: она вся была сделана из стекла. И ее надо было обнимать обеими руками и медленно прижимать к груди... Звуки были такие нежные и прелестные, каких никогда не слыхал Альберт. Чем крепче прижимал он к груди скрипку, тем отраднее и слаще ему становилось».
Здесь дано даже не изображение замечательной игры на скрипке, гениальной музыки гениального музыканта, а скорее символ идеи хрупкости и бесценной значимости подлинного искусства. Затем говорится: «Уж не во сне ли это? — спросил он себя». И автор присоединяется к герою: «Но нет! это была действительность, это было больше, чем действительность: это была действительность и воспоминание».
Оставим на время рассказ Толстого, имеющий несомненную романтическую направленность, и отметим, что отношение к музыке молодого Толстого было, пожалуй, наиболее показательным в интересующем нас вопросе.
Много места уделено передаче музыкальных впечатлений в «Детстве», особенно в первоначальных его редакциях. В главе XI сказано, что музыка создает особое настроение: «...казалось, что вспоминаешь то, чего никогда не было». Музыка оказывается средством свободного «перехода» в другие сферы бытия. В окончательном тексте от развернутого фрагмента осталось несколько конспективных фраз, но они весьма характерны для установления прямых отношений между миром музыки и миром воспоминаний, мечтаний, грез, полусознательной, а то и вовсе бессознательной работы мозга, так старательно фиксируемой Толстым на протяжении всего творчества.
И у зрелого Толстого музыка, пение, танец (вспомним хотя бы «Войну и мир») будут средством «размыкания», перевода повседневного опыта переживаний героя в сферу свободных и больших движений души. Всякий раз, когда художник описывает исполнение музыкального произведения и впечатления, им вызванные, — будь то ранние редакции «Детства», «Люцерн», «Альберт» или «Утро помещика», — вместе с темой музыки в произведение входит романтическая приподнятость стиля, слова приобретают особую тональность («и в душе моей как будто распустился свежий благоухающий цветок», — говорится в «Люцерне»), а повествование начинает развиваться в соответствии со свободным полетом фантазии. В этом отношении весьма показательно «Утро помещика», первое произведение молодого писателя с собственно «толстовской» проблематикой, толстовским героем.
Повествуя о Нехлюдове, писатель делится с читателем своими раздумьями, сообщаемыми как в эпистолярной форме, в переписке с графиней-тетушкой, так и во внутреннем монологе героя.
Герой полемизирует с принятыми взглядами на жизнь, на народ, который для него — источник всех ценностей жизни, и оказывается внутри типично толстовских противоречий, выход из которых будут искать и Пьер Безухов, и Константин Левин, и сам автор. Но это произойдет много лет спустя, а пока писателю не оставалось иного выхода, как показать Нехлюдова, непонимаемого теми самыми мужиками, которых он хочет облагодетельствовать, зашедшим в тупик. В финале писатель вынужден оставить своего во многом автобиографического героя наедине с музыкальным инструментом. И начинается импровизация, которая сливается с полетом воображения, с удивительно свободным развитием мечты: «Он свободно и легко летит все дальше и дальше, и видит внизу золотые города, облитые ярким сияньем, и синее небо с частыми звездами, и синее море с белыми парусами — и ему сладко и весело лететь все дальше и дальше...».
Перед нами не мотивированный предшествующим содержанием мажорный аккорд, переключение повествования в совершенно иную плоскость. Именно в этом «сломе», в этой потребности иной тональности и возникает стилистическая стихия, свободная от простого описания предметов и явлений.
Руссо говорил о себе, что он чувствовал прежде, чем мыслил. А Карамзин, как бы продолжая эту мысль, заметил: «Чувствительное сердце есть богатый источник идей...» Это в значительной мере характерно для молодого Толстого. И, видимо, были основания у исследователя «Альберта» сказать, под воздействием романтического строя произведения: «...могучий писатель создал произведение, которое, как музыка... возвышает душу...»
Именно на последовательном сопоставлении стиля действительности и стиля мечты, стиля воспоминания и стиля факта, поэтики детского мироощущения и поэтики «твердой» реальности, их переплетенности и взаимовлияния и организуется структура толстовской трилогии, ее композиция.
Вряд ли можно найти другого такого писателя не только в русской, но и в мировой литературе, который бы решился на обильное, постоянное и настойчивое соотнесение мира реального и мира вымышленного, выдержанных в соответствующей стилистической огласовке.
Л-ра: Русская литература. – 1972. - № 1. – С. 34-48.