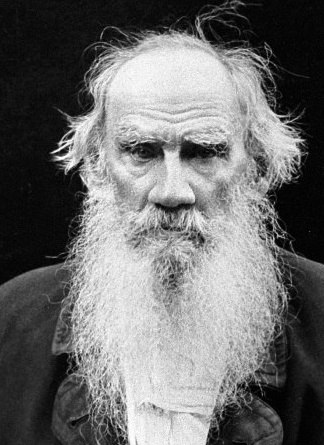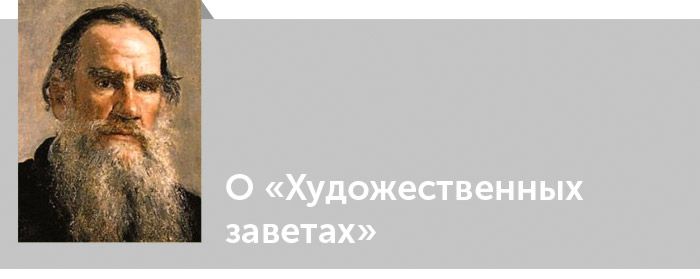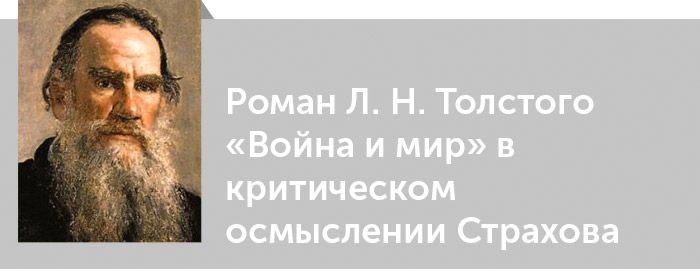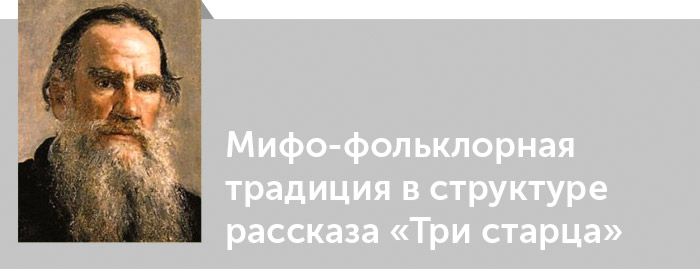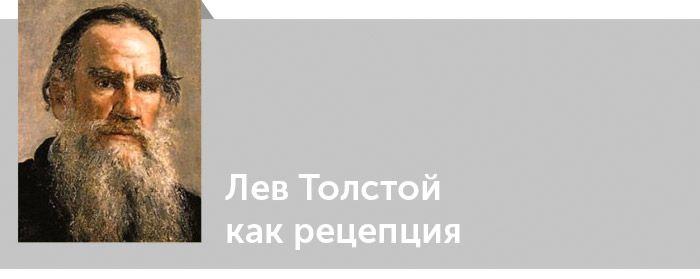Медицинский дискурс в романе Ж. К. Гюисманса «Наоборот» и повести Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича»

Д. А. Зубарь
Рассматривается медицинский дискурс эпохи fin-de-siècle в сравнении с медицинским дискурсом Ренессанса.
Ключевые слова: декадентский роман, медицинский дискурс, мировоззрение, мифологизация медицины, образ врача-мага.
Розглядається медичний дискурс епохи fin-de-siècle у порівнянні з медичним дискурсом Ренесансу.
Ключові слова: декадентський роман, медичний дискурс, світогляд, міфологізація медицини, образ лікаря-мага.
The article focuses on medical discourse of the epoch of fin-de-siècle in comparison to the medical discourse of the Renaissance.
Keywords: decadent novel, medical discourse, world-view, mythologizing of medicine, image of magician-physician.
М. М. Бахтин в работе «Формальный метод в литературоведении» отмечает, что литература, являясь самостоятельной и своеобразной идеологией, отражает в своем содержании тот идеологический кругозор, частью которого сама она является [4, с. 199]. Вне идеологии не мыслимы ни сюжет, ни лирический мотив, ни любой другой элемент литературного произведения как художественного целого, поэтому литературное произведение следует рассматривать как порождение духа времени, своеобразное воплощение мировоззрения эпохи, его идеологических составляющих. Для адекватной интерпретации произведения необходимо определить ту мировоззренческую доминанту, которая была интегрирована в произведение и определила его формально-содержательные элементы. А. Н. Долгенко верно отмечает, что «жанр как особый тип художественной целостности, создающий определенный образ миропереживания, запечатлевает определенное мировоззрение» [10, с. 3]. По мнению исследователя, в жанре декадентского романа был воплощен декаданс как особый тип мировоззрения. Однако, на наш взгляд, интерпретация декадентского романа исключительно в рамках декадентского мировоззрения (в том виде, в котором его понимает А. Н. Долгенко) не раскрывает в достаточной мере его идейного содержания. Вместе с тем, во-первых, литература запечатлевает только живой процесс становления кругозора, но не готовые догматы [4, с. 201], во-вторых, элементы других идеологических систем, попадая в литературное произведение, преображаются в элементы литературы как особой идеологии и начинают функционировать по законам художественного целого, в частности по законам жанра. На наш взгляд, мировоззренческая домината, являющаяся жанрообразующим фактором декадентского романа, была определена медицинским дискурсом, который в разных модификациях был характерен как для эпохи Возрождения, так и для эпохи fin-de-siècle.
Целью статьи является сопоставление медицинских дискурсов эпохи Ф. Рабле и эпохи fin-de-siècle, а также анализ проявления медицинского дискурса в романе Ж. К. Гюисманса «Наоборот» и повести Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича». В нашем исследовании мы исходим из положения о принципиальном значении карнавальной традиции для формирования декадентского романа как жанровой разновидности. По мнению М. М. Бахтина, наиболее полное выражение данная традиция получила в творчестве Ф. Рабле, так как в эпоху Возрождения были созданы благоприятные условия для ее воплощения. Рассматривая ренессансное мировоззрения, Бахтин уделяет особое внимание значению медицины в системе наук: «…Эпоха Рабле во Франции была единственной эпохой в истории европейских идеологий, когда медицина находилась в центре не только всех естественных, но и гуманитарных наук и когда она почти отождествлялась с философией. Это была единственная эпоха... пытавшаяся ориентировать всю картину мира, все мировоззрение именно на медицине. В эту эпоху пытались осуществить требование Гиппократа: переносили мудрость в медицину и медицину в мудрость» [3]. М. М. Бахтин подчеркивает, что наиболее существенным влияние медицины в парадигме наук было во Франции. Следует прибавить, что именно Франция стала родиной декадентского романа как жанровой разновидности, а Ж. К. Гюисманс считается создателем жанрового канона. Бахтин, естественно, не использует в своем исследовании термин медицинский дискурс, однако мы полагаем, что данный термин наиболее адекватно передает суть явления. Под дискурсом, учитывая «размытость» данной категории, мы понимаем «совокупность письменных или устных текстов и ситуации их создания и актуализации» [11]. Мы определяем медицинский дискурс как совокупность текстов в рамках коммуникативной ситуации, сложившуюся в определенную эпоху, объединенную медицинской тематикой и выражающую последовательную мировоззренческую позицию.
Медицина в эпоху Возрождения «вышла из берегов» собственно медицинских, она стала центром гуманитарных наук, проникла в искусство. Многие великие гуманисты и ученые той эпохи были врачами: Корнелий Агриппа, химик Парацельс, математик Кардано, астроном Коперник. Бахтин отмечает, что «влияние медицины на искусство и литературу никогда не было так сильно, как в эпоху Рабле» [3]. Медицина стала источником тематического, образного материала для искусства, в частности литературы, медицинские понятия становились элементами других идеологических систем, своеобразно трансформируясь и приобретая новые свойства. Влияние медицины на литературу М М. Бахтин иллюстрировал, в частности, следующим образом: «В 1537 году Рабле производил публичное анатомирование трупа повешенного, сопровождая его объяснениями. Эта демонстрация разъятого тела имела громадный успех. Этьен Доле посвятил этому событию небольшое латинское стихотворение. Здесь от лица самого повешенного прославляется его счастье: вместо того чтобы послужить пищей птицам, его труп помог демонстрации удивительной гармонии человеческого тела, и над ним склонялось лицо величайшего врача своего времени» [3]. В исследовании Бахтина указан ряд образов, появившихся в карнавальной литературе под влиянием медицинского дискурса. Среди них следует отметить:
- гиппократов лик, описание признаков лица мертвеца, по которым врач делает заключение о смерти, наступающей или наступившей;
- образ тела в агонии, материального тела с точки зрения медицины как арены борьбы между жизнью и смертью;
- изображение тела в момент выполнения физиологических функций: чихания, сморкания, еды, дефекации, испускания ветров и т.д., данные функции, их полноценное протекание являются признаком жизни, здоровья материального тела;
- изображения внутренних органов, которые метонимически замещают тело, в особенности кишки, утробы; утроба представляет собой единство жизни и смерти: утроба поглощающая есть смерть, утроба рождающая – жизнь;
- изображение врача как человека, принимающего участие в жизни и смерти, как человека, сопровождающего у порога жизни и смерти;
- образ врача-мудреца, врача-чародея, врача-философа, врача-писателя, который, вероятно, восходит к архаичному образу врача-жреца.
Теперь рассмотрим эпоху рубежа XIX–XX вв. с точки зрения места медицины в системе наук и ее роли в мировоззрении эпохи. На наш взгляд, роль медицины в эпоху fin-de-siècle соотносима с ее ролью в эпоху Рабле, однако следует принять во внимание, что к этому времени медицина значительно дифференцировалась по направлениям. Врач на рубеже XIX–XX вв. был не просто врачом, он был хирургом, физиологом, неврологом, гомеопатом и т. д. Принципиальное значение для исследования декадентского романа, а также литературы эпохи модернизма в целом, на наш взгляд, имеет тот факт, что парадигма отраслей медицины была представлена в медицинском дискурсе неравномерно. Отраслями медицины, наиболее активно, проникающими в искусство и гуманитарные науки, особенно в философию были: неврология, психопатология, психиатрия, физиология высшей нервной деятельности. Иными словами, это – цикл отраслей, находящихся на стыке материального и духовного в человеке, исследующих соотношение между психическими и физиологическими процессами. Ольга Матич в книге «Эротическая утопия» отмечает, что на рубеже XIX–XX вв. работы по психиатрии и психопатологии были популярны среди русской интеллигенции, в частности среди писателей и литературных деятелей: «Толстой и князь Нехлюдов в «Воскресении» (1899) читали исследования по психопатологии Ж. М. Шарко, Чезаре Ломброзо и Генри Модсли. Соловьев посвятил целый раздел «Смысла любви» (1892–1894), программного произведения эпохи об эротической любви, очерку Альфреда Бине о фетишизме (1887) и книге Рихарда фон Крафт-Эбинга «Половая психопатия» (1886), одному из наиболее влиятельных исследований в психиатрии до Фрейда. (Даже духовные лица во время религиозно-философских чтений ссылались на книгу Крафт-Эбинга). Розанов опубликовал книгу под названием «Люди лунного света», свою собственную версию работы Крафт-Эбинга о патологических случаях, которую можно интерпретировать как экстравагантное исследование гендерных аспектов и гомосексуальности. Андрей Белый писал в мемуарах, что Гиппиус с большим интересом читала Крафт-Эбинга в 1906 г. В 1918 г. Блок обращался к бестселлеру Макса Нордау «Вырождение» [1, с. 12–13].
Книга Нордау представляет интерес для нашего исследования, поскольку в рамках деятельности Макса Нордау произошла своеобразная поэтизация, мифизация медицины. При всей своей нелепости его теория имеет ключевое значение для понимания духа рассматриваемой эпохи. Книга Нордау, наряду с учением о дегенерациях Огюстена Мореля, была ядром мифа о вырождении. В рамках этого мифа описывались «разнообразные симптомы воображаемой болезни вырождения, включая неврастению, истерию, атавизм, наследственный сифилис, фетишизм и гомосексуальность, причем предполагалось, что все эти недуги были опасны не только для отдельного человека, но и для нации (national body) в целом» [1, с. 12]. В этом контексте обратим внимание на словосочетание national body – дословно: национальное тело. Это тело, на наш взгляд, является ни чем иным, как народным телом в романах Рабле, полным жизненной энергии, торжествующим обновление, и поэтому индивидуальная смерть не кажется трагедией. В эпоху fin-de-siècle нездоровье коснулось национального тела, цикл его обновлений нарушился, поэтому индивидуальная смерть уже пугала, страх смерти уже не компенсировался радостью обновления. Обратим внимание на личность М. Нордау. Он был «журналистом, который получил образование врача, он извлек свою теорию о вырождении из психиатрической больницы, где он работал под руководством Шарко, и применил ее к литературному и философскому авангарду» [1, c. 13]. Само сочетание журналист-психиатр, проявляющий одинаковую активность в обеих областях деятельности, является настолько же нетрадиционным, насколько оно характерно для эпохи. В лице Нордау, мы имеем дело с неправомерным медицинским подходом к литературе, в рамках которого литературу меряют не своей мерой. Однако выход медицины за свои пределы, мифизация, поэтизация медицины, ее сближение с гуманитарными науками играет важную роль в эпохе рубежа ХІХ–ХХ вв. Эта тенденция достигнет кульминации в творчестве З. Фрейда О. Матич отмечает связь между декадансом и медицинским дискурсом: «Цветы зла» Ш. Бодлера (1857), общепризнанного предвестника декаданса в литературе, вышли в один год с «Трактатом о дегенерациях» Огюстена Мореля. Хронологическое совпадение поэтического сборника Бодлера и научного трактата Мореля говорит, по мнению ученой, о возникновении важного культурного дискурса второй половины XIX века, в котором сочетался художественный декаданс и псевдонаучная теория вырождения [1, с. 11]. Мы же полагаем, что данный дискурс был частью более обширного медицинского дискурса, сложившегося в Европе к началу ХХ века. В России в данную эпоху медицина, также как и в Европе, стремительно развивалась в рамках психологии, психиатрии и физиологии высшей нервной деятельности. Здесь, прежде всего, следует отметить деятельность двух выдающихся российских физиологов: И. П. Павлова, создателя учения об условных рефлексах, и А. А. Ухтомского, создателя учения о доминанте. Обоих исследователей объединял поиск «материальных основ психической деятельности» [5, с. 525], естественнонаучных основ душевной деятельности, взаимосвязи и взаимоотношения между материальным и духовным в человеке. Так, Павлов пытался «интерпретировать некоторые психические и нервные заболевания, например шизофрению и истерию с точки зрения физиологии высшей нервной деятельности» [5, с. 526]. Он являлся продолжателем идей Сеченова, которые были заложены последним в «Рефлексах головного мозга», – «свести психические процессы к физиологическим основам» [там же]. Научная деятельность Ухтомского связана «с попыткой создания основ единой науки о человеке, построенной им на стыке различных научных направлений: философии, биологии, физиологии, психологии, социологии и этики» [2]. Его учение о доминанте в настоящее время широко применяется за пределами медицины, в частности в гуманитарных науках и теории искусств: «А. А. Ухтомский стал одним из провозвестников нового синтезирующего мышления, которое охватывало не только естествознание, но и науку о человеке, объединяло в единое целое множество различных направлений и проблем» [2]. Если Нордау был врачом-публицистом, врачом-критиком, то Ухтомский был врачом-философом; также, что для нас немаловажно, Ухтомский был священником. В мировоззрении Ухтомского сочетались «глубокая религиозная вера и материалистические искания в науке» [2]. Он окончил духовную семинарию, затем Московскую Духовную академию; затем стал кандидатом богословия, был старостой единоверческой церкви, в которой сам вел службу, «монахом в миру». Отметим, что Павлов, родившийся в семье священника, также окончил духовную семинарию. Таким образом, в русском медицинском дискурсе эпохи рубежа XIX – XX столетия важную роль играл врач-священник, врачеватель не только тела, но и души, признававший в человеке материальное и идеальное, тонко чувствующий взаимосвязь этих составляющих.
В Западной Европе слияние медицины с философией и искусством наиболее полно и оригинально осуществилось в творчестве Зигмунда Фрейда. Фрейд также, как и рассмотренные выше русские врачи, сочетал изучение телесного в человеке с изучением душевного. Он первоначально увлекался физиологией, затем выбрал своей специальностью невропатологию, занимался анатомией центральной нервной системы, затем изучал психиатрию под руководством Шарко; в 1893 г. издал книгу по психиатрии «Об истерии», а в 1901 появляется небезызвестное «Толкование сновидений», где закладываются основы фрейдовского учения. Отметим, что учение Фрейда, никогда не считавшего себя врачом, нельзя в полной мере считать медициной. Когда (после 1908 г.) идеи Фрейда получили широкую популярность, они встретили резкое сопротивление у представителей официальной невропатологии и психиатрии. После войны Фрейд в значительной степени отошел от медицинских интересов, обратившись к философским трактовкам ряда биологических, психологических и общекультурных вопросов в духе реакционноидеалистических воззрений Ницше и Шопенгауэра [6, с. 67–68]. Таким образом, Фрейд проделал путь от анатомии через психиатрию и психоанализ к философии.
На наш взгляд, творчество Фрейда носит итоговый характер в рамках рассматриваемой тенденции. В. Д. Днепров называет учение Фрейда мифологией: «Фрейдизм – это наукообразный миф о больном, социально-ущербном сознании. Как древние мифы доставляли художникам картины природы и общества, предварительно уже обработанные фантазией, так фрейдизм с немалой экспрессией представил психическую жизнь в образах-понятиях и впервые после многих столетий предложил искусству, так сказать, мифический полуфабрикат. Недаром Томас Манн называл Фрейда «художником понятий». Недаром некоторые книги Фрейд заканчивает вопросом: а не написали ли мы роман?» [9, с. 353–354]. По Днепрову, Фрейд – автор произведений, романов-мифов – медицинских трактатов, в которых слились наука, искусство и религия. В творчестве австрийца произошла своего рода архаизация мировоззрения, синтез, уподобляющий творчество синкретизму. Таким образом, в эпоху fin-de-siècle в рамках медицинского дискурса сложились благоприятные условия для возрождения карнавальной традиции. Однако специфика медицинского дискурса эпохи, точнее, специфика отраженного в нем мировоззрения, обусловила изменения в карнавальной традиции по сравнению в раблезианской. Принципиальным отличием была смена возрождения вырождением. В данном контексте рассмотрим роман Ж. К. Гюисманса «Наоборот» и повесть Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича». Здесь в модифицированном виде реализуются мотивы, характерные для раблезианской традиции, в частности:
- изображение болезней внутренних органов, в особенности кишок, которые метонимически замещают умирание тела;
- мотив неприятия пищи организмом как нарушение одной из главных функций его жизнедеятельности;
- образ врача, ведущего борьбу со смертью, успешно или безуспешно;
- мотив важности хорошего настроения, определенного образа мыслей для выздоровления и поддержания жизни.
В повести Толстого также присутствует яркий образ Гиппократова лика. Петр Иванович заходит в «комнату мертвеца» попрощаться с Иваном Ильичом, и начинает разглядывать усопшего. Он «стал разглядывать мертвеца. Мертвец лежал, как всегда лежат мертвецы, особенно тяжело, по-мертвецки утонувши окоченевшими членами в подстилке гроба, с навсегда согнувшеюся головой на подушке, и выставляя, как всегда выставляют мертвецы, свой желтый восковой лоб с взлизами на ввалившихся висках и торчащий нос, как бы надавившй на верхнюю губу. Он очень переменился, еще похудел с тех пор, как Петр Иванович не видал его, но, как у всех мертвецов, лицо его было красивее, главное – значительнее, чем оно было у живого. На лице было выражение того, что-то, что нужно было сделать, сделано, и сделано правильно. Кроме того, в этом выражении был еще упрек или напоминание живым» [12, c. 133]. В данном отрывке, мертвец (причем слово мертвец, на наш взгляд, несколько выбивается из контекста, к которому больше подходит слово покойник) намеренно обезличен, подчеркивается его сходство с прочими мертвецами. Иван Ильич в данном фрагменте олицетворяет не самого себя как отдельную личность, и даже не собственное мертвое тело, он олицетворяет мертвеца вообще, иными словами он олицетворяет смерть. Лицо мертвеца – это лицо смерти. Об этом явлении Бахтин писал: «Подчеркнем еще знаменитую facies hippocratia – «Гиппократов лик». Здесь лицо является не выражением субъективной экспрессии, не чувств и мыслей больного, а показателем объективного факта близости смерти. Лицом больного говорит не он сам, а жизньсмерть, принадлежащая к надындивидуальной сфере родовой жизни тела. Лицо и тело умирающего перестают быть самими собой. Степень сходства с самим собой определяет степень близости или отдаленности смерти» [3]. У Рабле кишки, потроха, символизируют утробу, цикл надындивидуальной жизни. У Толстого болезнь кишки равна смерти всего организма: «Слепая кишка? Почка, – сказал он [Иван Ильич – Д. З.] себе. – Не в слепой кишке, не в почке дело, а в жизни и... смерти. Да, жизнь была и вот уходит, уходит, и я не могу удержать ее. Да. Зачем обманывать себя? Разве не очевидно всем, кроме меня, что я умираю, и вопрос только в числе недель, дней – сейчас, может быть» [12, с. 160]. В повести Толстого первые симптомы смертельной болезни героя связаны с пищеварительной системой: «Нельзя было назвать нездоровьем то, что Иван Ильич говорил иногда, что у него странный вкус во рту и что-то неловко в левой стороне живота» [12, с. 152].
В то время как романы Рабле изобилуют пиршественными образами, их герои поглощают невероятное количество пищи и выпивают астрономическое количество вина, герои эпохи fin-de-siècle не в состоянии съесть даже легкую пищу, любое, даже самое безобидное блюдо вызывает тошноту, рвоту, боли; пища не усваивается. У Ивана Ильича пища вызывает резкое ухудшение настроения: «Начинались его придирки всегда перед самым обедом и часто, именно когда он начинал есть, за супом. … он раза два во время начала обеда приходил в такое бешенство, что она [Прасковья Федоровна – Д. З.] поняла, что это болезненное состояние» [12, с. 152]. В повести подчеркивается также «невкусность» пищи: «Ему готовили особенные кушанья по предписанию врачей; но кушанья эти все были для него безвкуснее и безвкуснее, отвратительнее и отвратительнее» [12, с. 165]. У Толстого также описывается трудность дефекации как обратной стороны поглощения пищи, в противовес героям Рабле, известным обильными испражнениями: «Для испражнений его тоже были сделаны особые приспособления, и всякий раз это было мученье. Мученье от нечистоты, неприличия и запаха, от сознания того, что в этом должен участвовать другой человек» [Там же]. С аналогичным явлением мы сталкиваемся в «Наоборот»: невроз дез Эссента проявляется, главным образом, в неспособности есть. При лечении герой становится «лакомкой наоборот»: ему вводят питательные пептоновые клизмы, так как его желудок не в состоянии переваривать пищу. Здесь любовь дез Эссента ко всему искусственному достигает наивысшей точки. Жан восхищается этим способом кормления: «Клизма подействовала. И дез Эссент мысленно благословил эту процедуру, в некотором роде венец той жизни, которую он сам себе устроил. Его жажда искусственности была теперь, даже помимо его воли, удовлетворена самым полным образом. Полней некуда. Искусственное питание – предел искусственности!» [7].
Таким образом, непомерное раблезианское обжорство сменяется плохим аппетитом, смертью от истощения, заболеваниями пищеварительной системы. Раблезианский оптимизм сменяется декадентским пессимизмом, желание жить – болезнью и смертью. Но все это происходит в рамках одних и тех же образов. И у Гюисманса, и у Толстого присутствует врач: у первого – это врач-спаситель, мудрый врач, у второго – это группа бестолковых, ни на что не способных, не приходящих к единому мнению, корыстных врачей. Врач из Парижа, давний приятель Жана, буквально вытаскивает полусумасшедшего героя из когтей смерти. Он безошибочно определяет причину невроза, внимательно осмотрев больного и поглядев мочу. Его предписания начинают действовать практически сразу. Врач оказывается мудрецом, ведь это он настаивает на том, чтобы Жан переехал из Фонтенея, ведь в этом доме «его ожидает умопомешательство и в придачу легочное заболевание» [Там же].
Врач подчеркивает важность здорового духа, хорошего настроения, говоря, что «необходимо оставить уединение, вернуться в Париж, влиться в общую жизнь и, помимо прочего, развлекаться, как все люди», ведь «перемена образа жизни – это вопрос жизни и смерти» [Там же]. У Гюисманса, подчеркивается связь между психическим и физическим здоровьем: «Доктор сухо и категорически повторил, что, и на его собственный взгляд, и на взгляд всех невропатологов, только радости, развлечения и удовольствия способны побороть болезнь, ибо ее духовная сторона неподвластна химическому воздействию лекарств» [Там же]. Также немаловажно, что гюисмансовские врачи единодушны в своем мнении касательно дез Эссента: «Дез Эссент помчался в Париж, посетил других врачей и, ничего не скрывая, рассказал им обо всем. И все, как один, подтвердили вердикт своего коллеги. (…) Врачи в один голос твердили: развлечения, веселье!» [Там же]. У Толстого же, напротив, врачи оказываются беспомощны, подчеркивается, что их интересует лишь гонорар за оказанные услуги, им нисколько не интересен пациент, они не мудры и не могут придти к единому мнению насчет диагноза и метода лечения Ивана Ильича. Герой мечется от одного врача к другому, и доктора не вселяют в него надежды и веры в выздоровление, как в случае с дез Эссентом, а наоборот, способствуют утрате веры и озлоблению: «Ухудшало его положение то, что он читал медицинские книги и советовался с докторами. (…) Но когда он советовался с докторами, тогда ему казалось, что идет к худшему и очень быстро даже. И несмотря на это, он постоянно советовался с докторами. В этот месяц он побывал у другой знаменитости: другая знаменитость сказала почти то же, что и первая, но иначе поставила вопросы. И совет с этой знаменитостью только усугубил сомнение и страх Ивана Ильича. Приятель его приятеля – доктор очень хороший – тот еще совсем иначе определил болезнь и, несмотря на то, что обещал выздоровление, своими вопросами и предположениями еще больше спутал Ивана Ильича и усилил его сомнение. Гомеопат – еще иначе определил болезнь и дал лекарство, и Иван Ильич, тайно от всех, принимал его с неделю. Но после недели не почувствовав облегчения и потеряв доверие и к прежним лечениям, и к этому, пришел в еще большее уныние» [12, с. 155–156].
В повести проводится параллель между ухудшением настроения и ухудшением физического самочувствия. «Теперь же всякая неудача подкашивала его и ввергала в отчаяние. Он говорил себе: вот только что я стал поправляться и лекарство начинало уже действовать, и вот это проклятое несчастие или неприятность... И он злился на несчастье или на людей, делавших ему неприятности и убивающих его, и чувствовал, как эта злоба убивает его; но не мог воздержаться от нее. Казалось бы, ему должно бы было быть ясно, что это озлобление его на обстоятельства и людей усиливает его болезнь и что поэтому ему надо не обращать внимания на неприятные случайности; но он делал совершенно обратное рассуждение: он говорил, что ему нужно спокойствие, следил за всем, что нарушало это спокойствие, и при всяком малейшем нарушении приходил в раздражение» [12, с. 155]. Получается, что Иван Ильич гибнет в какой-то мере из-за собственного уныния и глупости, ибо здоровое тело возможно только при наличии здорового духа. Таким образом, в декадентском романе Гюисманса реализуется более оптимистичное мировоззрение по сравнению с повестью Толстого, ведь жизнь в борьбе со смертью все-таки побеждает. Можно предположить, что существует два варианта развязки «медицинского» сюжета в рамках карнавальной традиции: когда побеждает жизнь, и когда побеждает смерть. Например, смерть побеждает в декадентском романе Роденбаха «Выше жизни», ибо герой гибнет, не справившись с депрессией. У Гюисманса в обоих декадентских романах побеждает жизнь. В романе «Там, внизу, или Бездна» астронома Гевенгэ излечивает от недугов, вызванных колдовством, молитвами и заклинаниями, врачеватель-священник Иоганнес. В лице Иоганнеса мы имеем врачевателязаклинателя духов, целителя-мага, данный образ, на наш взгляд восходит к образу древнего врача-жреца. Мы уже отмечали, что русские врачи, Павлов и Ухтомский были священниками, причем Ухтомский сознательно перешел в единоверие, то есть в более архаичную религиозную традицию. Как врач и священник в одном лице, Ухтомский одновременно врачевал и тело, и душу. Таким образом, жизнетворчество в эпоху fin-de-siècle касалось не только символистского течения. Обратим внимание, что один из главных героев романа М. Арцыбашева «У последней черты» – врач, наблюдающий за рядом умирающих от болезней или умерших вследствие самоубийства людей. Главный герой трилогии Ф. Сологуба «Творимая легенда» Георгий Триродов – химик, ученый алхимик и маг. На наш взгляд, этот образ также восходит к архетипу врача-жреца, причем он, среди подобных образов декадентских романов наиболее архаичен, так в его власти убивать, задерживать смерть и воскрешать из мертвых. Интерпретация данного образа в контексте медицинской тематики осветит новую грань в прочтении трилогии.
Идеологическое содержание декадентского романа не ограничивается декадансом как особым типом мировоззрения. На формирование мировоззрения, выраженного в данной жанровой разновидности значительное влияние оказал медицинский дискурс. В эпоху fin-de-siècle, так же как и в эпоху Рабле, происходит взаимопроникновение медицины, философии, искусства и религии. Медицинский дискурс является источником тематики и образов декадентского романа, таких как гиппократов лик, образ врача-жреца, мотив неприятия пищи организмом и т. д. Мотив здоровья-болезни, представленный в литературе эпохи fin-de-siècle, связан не столько с индивидуальным, сколько с надындивидуальным бытием. Мы полагаем, что замена возрождения вырождением вызвана изменениями философской идеологии, связанными с некоторыми социальными преобразованиями. Раскрытие природы этих изменений имеет ключевое значение в исследовании декадентского романа, что составит предмет дальнейших исследований в данном направлении.
Библиографические ссылки
1. Matich O. Erotic Utopia: The Decadent Imagination in Russia’s Fin de Siecle / Olga Matich. – Madison: The University of Wisconsin Press, 2005. – 355 p.
2. Батуев А. С., Соколова Л. В. –Алексей Алексеевич Ухтомский – великий ученый-гуманист [Электронный ресурс] // А. С. Батуев, Л. В. Соколова.
3. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса
4. Бахтин М. М. Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. Марксизм и философия языка. Статьи / Составление, текстологическая подготовка И. В. Пешкова. Комментарии Л. В. Махлина, И. В. Пешкова / М. М. Бахтин – М. : Лабиринт, 2000. – 640 с.
5. Большая медицинская энциклопедия [Электронный ресурс]: 35 томов. – М., 2006. – В 4-х дисках. – Диск 3.
6. Большая медицинская энциклопедия [Электронный ресурс]: 35 томов. – М., 2006. – В 4-х дисках. – Диск 4.
7. Гюисманс Ж. К. Наоборот / Перевод с фр. Е. Л. Кассировой, под ред. В. М. Толмачева [Электронный ресурс] // Гюисманс Ж. К., Рильке Р. М., Джойс Д. Наоборот. Три символистских романа. – М., 1995.
8. Гюисманс Ж. К. Там, внизу, или Бездна [Электронный ресурс] / Ж. К. Гюисманс. – М., 1993.
9. Днепров В. Д. Черты романа ХХ века / В. Д. Днепров. – Л. : Советский писатель, 1965. – 548 с.
10. Долгенко А. Н. Художественный мир русского декадентского романа рубежа XIX – XX веков: автореф. дис. докт. филол. наук: спец.: 10.01.01 «Русская литература» / А. Н. Долгенко. – Волгоград, 2005. – 40 с.
11. Каменская Т. Н. Понятие дискурса в лингвистике [Электронный ресурс] / Т. Н. Каменская, 2010.
12. Толстой Л. Н. Смерть Ивана Ильича: Повести и рассказы / Сост., вступ. статья, коммент. Э. Бабаева / Л. Н. Толстой. – Л. : Худож. лит., 1983. – 304 с. (Классики и современники. Русская класс. литература).
Надійшла до редколегії 04.05.12