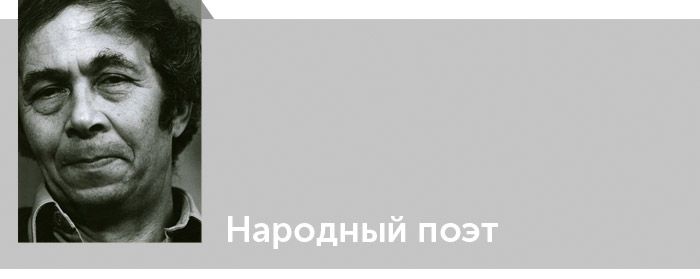Стендаль. Арманс

или Сцены из жизни парижского салона 1827 года
(Отрывок)
ПРЕДИСЛОВИЕ
Одна умная женщина обратилась ко мне, недостойному, с просьбой исправить стиль этого романа, так как сама она не совсем ясно себе представляет, какими качествами должно обладать литературное произведение. Прежде всего я должен предупредить читателя, что отнюдь не разделяю некоторых политических суждений, там и сям рассыпанных в ее повествовании. Но, хотя взгляды милейшего автора и мои собственные во многом противоположны, мы оба испытываем одинаковое отвращение к так называемому «списыванию с натуры». В Лондоне появилось несколько весьма пикантных романов «с ключом»: «Вивиан Грей», «Олмекский клуб», «Светская жизнь», «Матильда» и др. Это забавные карикатуры на людей, по прихоти случая или рождения занимающих место, которое вызывает всеобщую зависть.
Таких «литературных» достоинств нам не нужно. С 1814 года автор ни разу не переступил порога Тюильрийского дворца. Он так горд, что даже по именам не знает людей, несомненно, пользующихся известностью в определенном кругу.
Но в своем романе он сатирически изобразил фабрикантов и дворян. Если бы у голубок, воркующих на вершинах высоких деревьев, спросили, что собою представляет, по их мнению, Тюильрийский сад, они ответили бы: «Это огромная зеленая равнина, где можно наслаждаться ярким солнечным сиянием». Мы, гуляющие по этому саду, сказали бы: «Это прелестный тенистый парк, который защищает от зноя и особенно от невыносимо слепящих лучей летнего солнца».
Точно так же о любой вещи каждый судит в зависимости от своего положения. Такие же противоречивые точки зрения высказывают о современном состоянии общества лица, равно заслуживающие уважения, но не согласные друг с другом в выборе путей, ведущих нас к счастью. И все наделяют своих противников смешными чертами.
Обвините ли вы автора в желчности по той лишь причине, что в его романе каждая из сторон дает недоброжелательные и несправедливые описания салонов другой стороны? Потребуете ли от людей, движимых страстями, философского спокойствия, то есть отсутствия страстей? В 1760 году, чтобы завоевать расположение хозяина и хозяйки салона, следовало быть любезным, остроумным, но отнюдь не слишком гордым или слишком твердым, как говаривал регент.
Чтобы извлекать выгоду из паровой машины, нужно быть человеком расчетливым, трудолюбивым, благоразумным и совершенно лишенным всяких иллюзий. В этом коренное отличие эпохи, окончившейся в 1789 году, от эпохи, начавшейся в 1814 году.
Отправляясь в Россию, Наполеон постоянно напевал слова из арии, которую он слышал в превосходном исполнении Порто (в «Molinara»):
Si batte nel mio cuore
L'inchiostro e la farina?
Эти слова могли бы повторить многие молодые люди, родовитые и вместе умные.
Говоря о нашем веке, мы невольно набросали два главных характера из этой повести. В ней, быть может, не наберется и двадцати страниц, которым грозила бы опасность попасть в разряд сатирических, но автор идет особым путем, а наш век уныл, склонен к угрюмству, и с ним нужно быть настороже, даже выпуская в свет книжечку, которая, как я указывал автору, самое большее через полгода, будет забыта, подобно другим лучшим произведениям того же рода.
А пока мы просим хотя бы о части той снисходительности, с которой отнеслись к авторам комедии «Три квартала». Они поднесли публике зеркало, — виновны ли они, что мимо него проходили уроды? К какой партии можно причислить зеркало?
Стиль этого романа порой отличается безыскусностью выражений, которую у меня не хватило духа исправить.
С моей точки зрения, нет ничего хуже немецкой и романтической выспренности. Автор твердил мне: «Излишнее пристрастие к изящным оборотам речи приводит в конце концов к благообразию и сухости. Они приятны на протяжении одной страницы, но эта «очаровательная изысканность» приводит к тому, что книгу закрывают после первой же главы, а мы хотим, чтобы читатель прочел как можно больше глав. Оставьте же мне мою сельскую, или, если хотите, мещанскую, непритязательность».
Заметьте, однако: автор был бы в отчаянии, если бы я действительно поверил, что у него мещанский стиль, В этом сердце живет беспредельная гордость. Оно принадлежит женщине, которая сочла бы, что на десять лет состарилась, если бы ее имя стало известно. К тому же подобный сюжет!..
Стендаль
Сен-Женгу, 23 июля 1827 г.
ГЛАВА I
It is old and plain
It is silly sooth
And dallies with the innocence of love.
«Twelfth night», act II
Октав окончил Политехническую школу, когда ему едва исполнилось двадцать лет. Отец Октава, маркиз де Маливер, стремился удержать своего единственного сына при себе, в Париже. Стоило молодому человеку убедиться, что таково задушевное желание отца, которого он уважал, и матери, которую страстно любил, как он тотчас отказался от намерения поступить в артиллерию. Он думал прослужить несколько лет и потом выйти в отставку с тем, чтобы вернуться в полк, как только начнется какая-нибудь война. Проделает он ее в чине лейтенанта или полковника, Октаву было безразлично. Вот пример тех странностей, которые навлекли на него неприязнь людей посредственных.
Благодаря острому уму, высокому росту, изысканным манерам и большим прекрасным черным глазам Октав мог бы считаться одним из самых примечательных светских молодых людей, когда бы его лучистые глаза не выражали постоянно такой горести, что собеседник испытывал скорее жалость, нежели зависть. Пожелай он блеснуть умением вести беседу, он имел бы шумный успех; но ему как будто ничего не хотелось, никакое событие не могло опечалить его или обрадовать.
В детстве он много болел, потом, когда его здоровье и силы укрепились, он стал неукоснительно подчиняться тому, что считал требованием долга. Казалось, что если бы не это чувство долга, ничто вообще не побуждало бы его к действию. Быть может, какой-то необычный нравственный принцип, глубоко запечатлевшийся в этом юном сердце и пришедший в противоречие с ходом обыденной жизни, рисовал ему в мрачном свете и его будущее существование и отношения с людьми. Какова бы ни была причина этой глубокой печали, все же Октав слишком рано стал мизантропом. Командор де Субиран, дядя Октава, как-то сказал при нем, что нрав племянника его просто пугает.
— А зачем мне представляться иным, чем я есть на самом деле? — холодно возразил Октав. — Ваш племянник всегда будет вровень с рассудком.
— Но никогда не окажется выше его или ниже, — прервал Октава командор со своей провансальской резкостью. — Из чего я заключаю, что ты либо еврейский Мессия, либо Люцифер, который собственной персоной явился в этот мир, чтобы сбивать меня с толку. Я никак не могу тебя понять: ты не человек, а какой-то воплощенный долг!
— Как я хотел бы никогда от него не отступать! Как был бы счастлив вернуть мою душу создателю такой же кристально чистой, какою он ее сотворил!
— Вот чудеса! — вскричал командор. — Впервые за год этот юнец, до того кристальный, что его душа превратилась в кусок льда, изволил выразить какое-то желание!
И, весьма довольный своей остротой, командор быстро вышел из гостиной.
Октав с нежностью посмотрел на мать: она-то знала, что душа у него не ледяная. Хотя г-же де Маливер было уже около пятидесяти лет, она не утратила молодости — и не только потому, что все еще была хороша собой: обладая на редкость живым и своеобразным умом, она горячо и деятельно отзывалась на радости и печали своих друзей-сверстников и даже молодежи. Без труда понимая их надежды и опасения, она вскоре сама начинала надеяться или бояться. Такой душевный склад стал терять свою привлекательность с тех пор, как общественное мнение сочло его обязательным для всех женщин известного возраста, не желающих прослыть ханжами. Но в г-же де Маливер не было и тени притворства.
С некоторого времени слуги стали замечать, что она постоянно куда-то уезжает и часто возвращается не одна. Сен-Жан, любопытный старик-лакей, не покинувший своих господ и в годы эмиграции, решил проследить за человеком, которого неоднократно привозила к себе г-жа де Маливер. В первый раз незнакомец затерялся в толпе, но при следующей попытке любопытство Сен-Жана было удовлетворено: тот, кого он выслеживал, вошел в двери больницы Шарите, и привратник сообщил старику, что это знаменитый врач Дюкеррель. Слуги г-жи де Маливер обнаружили, что их хозяйка всякий раз привозит к себе какого-нибудь известного парижского врача и почти всегда находит предлог показать ему своего сына.
Обеспокоенная странностями Октава, г-жа де Маливер начала бояться, не болен ли он чахоткой, но ей казалось, что если, к несчастью, это правда, то, назвав по имени ужасную болезнь, она лишь ускорит ее развитие. Врачи, люди проницательные, заявили, что болезнь ее сына — всего лишь тоскливая и беспокойная неудовлетворенность жизнью, свойственная в эту эпоху многим юношам его общественного положения, но что она сама должна принять серьезные меры, так как чахотка грозит не Октаву, а ей. Г-же де Маливер пришлось соблюдать такой строгий режим, что вскоре печальная весть стала достоянием всех домочадцев. Как ни старались скрыть от маркиза название болезни, он, тем не менее, понял, что ему грозит одинокая старость.
До революции маркиз де Маливер был очень богат и ветрен. Вернувшись во Францию лишь в 1814 году вслед за королем, он обнаружил, что после всех конфискаций его доходы составляют около тридцати тысяч ливров ренты. Он счел себя разоренным. Теперь все помыслы этого человека, никогда не блиставшего умом, свелись к стремлению выгодно женить Октава. Эта навязчивая мысль не давала ему покоя, но так как честь была для старика превыше всего, то, вступая в подобного рода переговоры, он неизменно заявлял:
— Я могу предложить прославленное имя, моя генеалогия с несомненностью восходит к крестовым походам Людовика Молодого. Соперничать в Париже со мною могут не более тридцати семей. Но что касается всего прочего, то я разорен, обездолен, я нищий.
Подобный образ мыслей у человека преклонных лет отнюдь не способствует кроткому философскому смирению, составляющему отраду старости. Поэтому, если бы не выходки старого командора де Субирана, сумасбродного и довольно злобного провансальца, родной дом Октава выделялся бы своей безрадостностью даже в Сен-Жерменском предместье. Г-жа де Маливер, которую ничто, даже собственное недомогание, не могло отвлечь от беспокойства по поводу здоровья Октава, под предлогом своей болезни проводила много времени в обществе двух знаменитых парижских врачей. Она хотела завоевать их дружбу. Эти люди принадлежали — один в качестве главы, другой в качестве ревностного приверженца — к враждующим врачебным направлениям. Г-жу де Маливер, сохранившую живой, любознательный ум, порой развлекали их споры, хотя они и касались предметов весьма неприятных для тех, кто не воодушевлен любовью к науке и желанием разрешить спорный научный вопрос. Маркиза умела вовлекать обоих противников в беседу, и только благодаря этому громкие голоса время от времени оживляли обставленную с безукоризненным вкусом, но смертельно унылую гостиную особняка Маливеров.
Обивка из зеленого бархата с густым золотым тиснением, казалось, была создана нарочно для того, чтобы поглощать весь свет, лившийся из двух огромных окон с зеркальными стеклами. Эти окна выходили в уединенный сад; буксовые шпалеры делили его на множество причудливых уголков. В глубине сада высился ряд лип; трижды в год садовник аккуратно их подстригал. Своими неподвижными кронами эти липы как бы олицетворяли духовную жизнь семьи.
Спальня молодого виконта напоминала антресоли — так низко нависал в ней потолок: ее высотой пожертвовали ради красоты главной в доме комнаты — гостиной, расположенной как раз под комнатой Октава. Юноша ненавидел свою спальню, но все же не раз хвалил ее в присутствии родителей. Он вечно был в страхе, что какое-нибудь непроизвольное восклицание выдаст его и покажет, как невыносимы ему и его комната, и весь дом.
С глубоким сожалением вспоминал он о своей каморке в Политехнической школе. Жизнь там была ему так отрадна потому, что спокойствием и замкнутостью напоминала монастырское существование. Долгое время Октав мечтал удалиться от мира и посвятить себя богу. Это желание напугало его родителей, особенно отца, который увидел в намерении сына лишнее подтверждение своих страхов, что на старости лет он останется в одиночестве. Но, стараясь глубже вникнуть в суть религии, Октав не мог не прийти к изучению трудов тех писателей, которые на протяжении двух последних столетий пытались объяснить, что такое мысль и воля человека. Следствием этого была полная перемена во взглядах юноши, между тем как взгляды его отца остались неизменными. Старый маркиз с каким-то суеверным ужасом смотрел на юного аристократа, охваченного страстью к книгам. Он все время боялся, как бы Октав снова не заговорил о монастыре, и потому особенно хотел поскорей его женить.
Стояли последние ясные дни осени, которые в Париже все равно что весна. Г-жа де Маливер сказала сыну:
— Тебе необходима верховая лошадь.
Октав видел в этом только лишний расход, а так как из-за вечных жалоб отца считал положение семьи куда более стесненным, чем оно было на самом деле, то довольно долго отнекивался.
— Зачем мне лошадь, мама? — неизменно говорил он. — Я недурно езжу верхом, но мне это не доставляет никакого удовольствия.
Госпожа де Маливер купила великолепную английскую лошадь, молодую и очень красивую, составлявшую удивительный контраст с двумя древними нормандскими клячами, которые вот уже двенадцать лет служили семье де Маливеров. Октава этот подарок привел в большое смущение. Два дня он благодарил за него свою мать, но на третий день, оставшись с нею наедине и воспользовавшись тем, что разговор зашел об этой лошади, сказал, целуя руку матери:
— Я слишком тебя люблю, чтобы еще раз повторять слова благодарности, но подумай, нужно ли твоему сыну лицемерить с той, которая ему дороже всех на свете? Эта лошадь стоит четыре тысячи франков, и ты недостаточно богата, чтобы позволять себе такие расходы.
Госпожа де Маливер открыла ящик секретера.
— Вот мое завещание, — сказала она. — Я оставляю тебе мои бриллианты, но с обязательным условием: пока деньги, вырученные за них, не будут истрачены, ты должен держать лошадь и иногда ездить верхом. Я тайком продала два бриллианта, так как еще при жизни хочу радоваться тому, что у тебя есть хорошая лошадь. Твой отец требует от меня тяжелой жертвы, заставляя хранить драгоценности, которые мне уже совсем не нужны. Он носится с какими-то надеждами на перемены в политике, маловероятные, на мой взгляд, и счел бы себя в два раза беднее и обездоленнее, чем сейчас, если бы у его жены не осталось бриллиантов.
Лицо Октава омрачилось глубокой грустью, и он положил обратно в ящик секретера документ, само название которого уже говорило о столь жестоком и, быть может, уже близком событии. Он снова взял руку матери и больше не выпускал ее — жест, который позволял себе очень редко.
— Все планы твоего отца, — продолжала г-жа де Маливер, — связаны с этим законом о возмещении, о котором нам твердят уже три года.
— Я от всего сердца желаю, чтобы его отклонили! — воскликнул Октав.
— Почему? — спросила г-жа де Маливер, радуясь и тому, что он так оживился, и тому, что его слова доказывали глубокое уважение и доверие к ней. — Почему ты хочешь, чтобы его отклонили?
— Во-первых, потому, что он, с моей точки зрения, несправедлив, так как не до конца последователен, а во-вторых, потому, что если его примут, я буду вынужден жениться. К несчастью, у меня странный характер. Но не я создал его таким, и единственное, что я мог сделать, — это познать себя. За исключением тех счастливых минут, когда мы с тобой бываем вдвоем, мне хорошо, только когда я остаюсь совсем один и рядом нет никого, кто имел бы право разговаривать со мной.
— Милый Октав, в этой удивительной склонности виновата неумеренная страсть к науке. Твои занятия сводят меня с ума. Ты кончишь, как гетевский Фауст. Можешь ты мне поклясться, как в прошлое воскресенье, что читаешь не только безбожные книги?
— Мама, я читаю и те книги, которые указала мне ты, и те, которые считаются безбожными.
— В твоем характере есть какие-то таинственные, мрачные черты, которые ужасают меня. Кто знает, какие выводы ты делаешь из того, что читаешь!
— Дорогая мама, как я могу сомневаться в том, что считаю истинным? И мыслимо ли, чтобы всемогущий и добрый бог наказал меня только за то, что я верю свидетельству своих чувств, которыми он же сам наделил меня?
— Ах, я всегда боюсь прогневить неумолимого бога! — со слезами на глазах сказала г-жа де Маливер. — Он может отнять тебя у моей материнской любви. Бывают дни, когда я читаю Бурдалу и холодею от ужаса. Судя по Библии, всемогущий безжалостен в своем мщении, а ты, наверное, оскорбляешь его, читая философов восемнадцатого века. Сознаюсь тебе, что позавчера я вышла из церкви св. Фомы Аквинского в полном отчаянии. Если аббат Фей даже в десять раз преувеличивает гнев, который обрушивает всевышний на безбожные книги, все равно мне грозит опасность потерять тебя. Аббат сказал, что в Париже выходит какая-то кощунственная газета, которую он даже не осмелился назвать в проповеди, а ты, я уверена, ее ежедневно читаешь.
— Да, мама, читаю, но я верен своему слову и, кончив ее читать, сразу же принимаюсь за чтение газеты противоположного направления.
— Дорогой мой сын, меня пугает пылкость твоих увлечений, а главное, я боюсь тех путей, которые они незаметно прокладывают в твоем сердце. Будь у тебя какие-нибудь склонности, естественные в твоем возрасте, которые отвлекали бы тебя от опасных мыслей, мне было бы спокойнее. Но ты читаешь безбожные книги и скоро дойдешь до того, что усомнишься даже в существовании бога. Зачем ломать себе голову над такими страшными вопросами? Помнишь свое увлечение химией? Целых полтора года ты никого не желал видеть, обижал невниманием самых близких родных, отказывался выполнять самые непреложные обязанности.
— Мой интерес к химии не был увлечением, — возразил Октав. — Это было добровольно взятое на себя обязательство. Бог свидетель, — добавил он со вздохом, — было бы куда лучше, если бы я не отказался от намерения стать ученым, отгородившим себя, подобно Ньютону, от мирской жизни.
Октав просидел у матери до часу ночи. Тщетно уговаривала она его пойти на какой-нибудь светский вечер или хотя бы в театр.
— Я останусь там, где мне лучше всего, — повторял Октав.
— Когда я вдвоем с тобой, я верю тебе, — просияв от счастья, сказала маркиза. — Но стоит мне в течение двух дней видеть тебя только на людях, как разум начинает брать верх над чувством. Такое одиночество неестественно для мужчины твоих лет. Вот тут у меня лежат никому не нужные бриллианты, которые стоят семьдесят четыре тысячи франков. Они долго еще так пролежат, раз ты отказываешься жениться. Да ты и в самом деле еще слишком молод — тебе всего лишь двадцать лет и пять дней! — С этими словами г-жа де Маливер поднялась с кресла и поцеловала сына. — Мне очень хочется продать эти ненужные драгоценности, положить вырученную сумму в банк, а проценты тратить как мне вздумается. Раз в неделю я буду принимать у себя, но, под предлогом болезни, только тех людей, которые тебе действительно приятны.
— К сожалению, мама, все люди одинаково наводят на меня тоску. Во всем мире я люблю тебя одну.
Хотя Октав ушел от г-жи де Маливер глубокой ночью, она не могла заснуть, терзаясь мрачными предчувствиями. Тщетно старалась она забыть о том, как ей дорог Октав, и судить о сыне, словно о чужом человеке. Вместо того, чтобы здраво размышлять, она все время погружалась в романтические мечты о его будущем. Ей вспомнились слова де Субирана. «Командор прав, — думала она, — я сама чувствую в Октаве что-то сверхчеловеческое. Он живет как особое существо, отчужденное от людей». Потом мысли ее обрели бóльшую трезвость, и она попыталась найти объяснение тому, что при столь бурных или, по крайней мере, столь возвышенных страстях у Октава совершенно нет вкуса к радостям жизни. Ей невольно казалось, что источник этих страстей таится не в окружающем мире, а в чем-то потустороннем. Все внушало матери тревогу — даже благородная внешность ее сына. Его прекрасные, исполненные нежности глаза заставляли ее трепетать от ужаса. Порою, когда эти глаза были устремлены на небо, в них как будто светился отблеск блаженства, которое они там провидели. Через секунду они уже отражали муки ада.
Какое-то целомудрие запрещает нам выспрашивать человека, благополучие которого кажется таким хрупким; поэтому г-жа де Маливер чаще смотрела на сына, чем задавала ему вопросы. В сравнительно спокойные минуты глаза Октава как бы говорили о томлении по далекому счастью: чудилось, что из их глубины глядела нежная душа, отделенная необъятными пространствами от того единственного, что ей дорого. Октав правдиво отвечал на все вопросы матери, однако ей все же не удавалось проникнуть в тайну его сосредоточенных, а порою и мрачных раздумий. Таким Октав стал с пятнадцатилетнего возраста, но г-жа де Маливер никогда серьезно не думала, что тут могла быть замешана какая-то скрытая от всех любовь. Разве Октав не был полным хозяином своего состояния и своей судьбы? Маркиза знала, что Октав не только не видит в обычном человеческом существовании источника радостей, но, напротив, считает это существование лишь досадной помехой, которая не позволяет ему погрузиться в милые его сердцу мечты. Как ни терзал ее образ жизни Октава, чуждый всему, что его окружало, она не могла не признать, что душа у него прямая и мужественная, богато одаренная и исполненная чувства чести. Но при этом Октав отлично знал свои права на независимость и свободу, и благородные чувства удивительным образом уживались в нем с безмерной скрытностью, невероятной в таком возрасте. Перед г-жой де Маливер вновь предстала жестокая действительность и сразу разрушила все мечты о счастье, на короткие минуты умиротворявшие ее воображение.
Мало что на свете было так неприятно, можно даже сказать, ненавистно Октаву, — ибо он не умел чувствовать наполовину, — как общество дяди командора; однако весь дом считал, что он обожает играть в шахматы с де Субираном или фланировать с ним по бульварам. Это было словечко самого командора, который в свои шестьдесят лет так же любил рисоваться, как и в 1789 году; только теперь молодое позерство, простительное потому, что оно изящно и весело, сменилось самодовольным умничаньем и потугами на глубокомыслие. Этот пример столь искусной скрытности пугал г-жу де Маливер. Она думала: «Я спросила сына, действительно ли ему приятно видаться с моим братом, и он ответил мне правду. Но кто знает, какие странные замыслы зреют в этой непостижимой душе? Не спроси я его, ему и в голову не пришло бы самому заговорить об этом. Я обыкновенная женщина, мне доступно понимание лишь моих маленьких житейских обязанностей. Смею ли я давать советы такому сильному и необыкновенному человеку? У меня нет друга, достаточно умного, чтобы можно было посоветоваться с ним. Да и как нарушить доверие Октава? Ведь я обещала ему хранить все в тайне».
Печальные мысли не давали г-же де Маливер уснуть до самого рассвета. Наконец она решила употребить все свое влияние на сына, чтобы он почаще бывал у маркизы де Бонниве. Эта родственница и ближайшая подруга г-жи де Маливер пользовалась большим влиянием в высшем свете. У нее нередко собирались настоящие сливки общества. «Мне остается только одно, — продолжала размышлять г-жа де Маливер, — войти в доверие к достойным людям, которых я иногда встречаю у г-жи де Бонниве, и выведать, что они думают об Октаве».
Салон г-жи Бонниве посещали для того, чтобы, во-первых, насладиться ее обществом, а во-вторых, чтобы получить поддержку ее мужа, искусного придворного, отягченного годами и почестями и почти столь же любимого своим государем, как его блистательный предок, адмирал де Бонниве, который побудил Франциска I наделать столько глупостей и так мужественно наказал себя за это.
Произведения
Критика