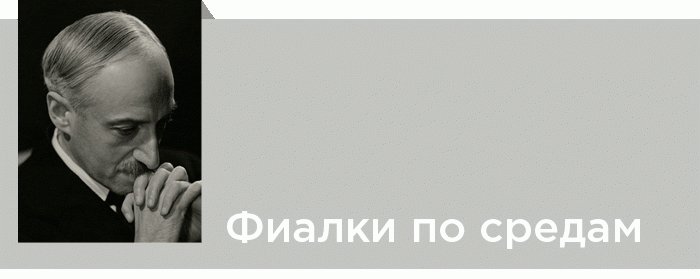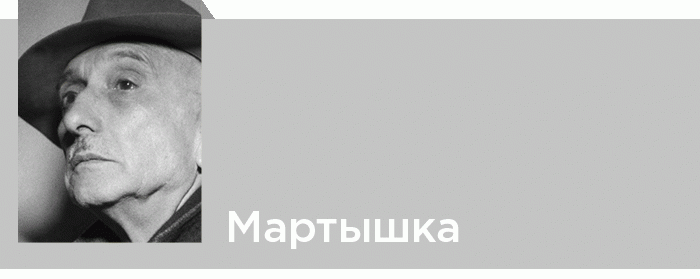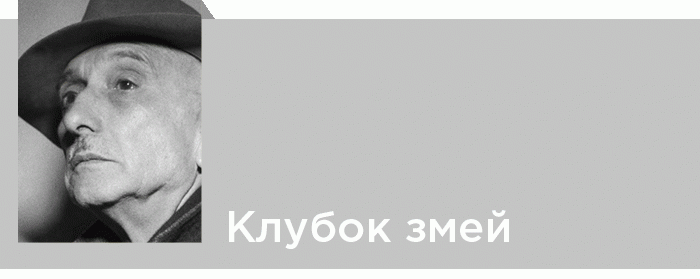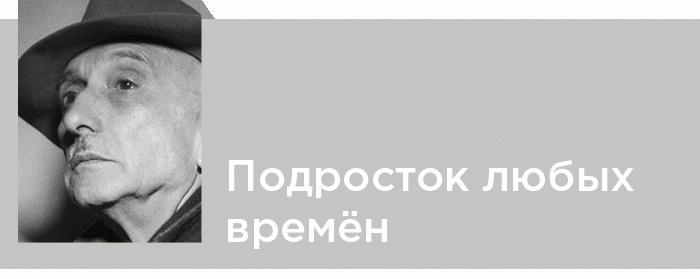Франсуа Мориак – критик и художник
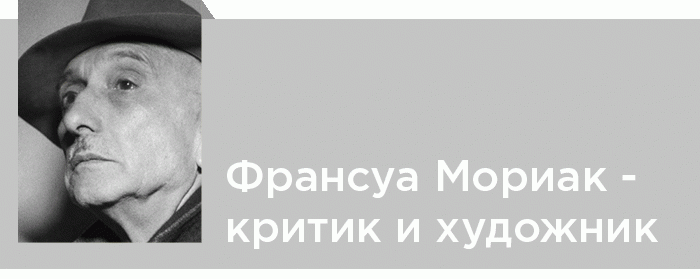
Ю. А. Милешин
Франсуа Мориак, один из крупнейших мастеров реалистического западноевропейского романа, не был литературным критиком в строгом смысле этого слова, хотя в его обширном наследии есть несколько книг, посвященных вопросам литературного творчества. Эти книги общеизвестны: «Жизнь Жана Расина» (1928), «Роман» (1928), «Блез Паскаль и его сестра Жаклин» (1931), «Романист и его персонажи» (1933), «В сторону Пруста» (1947). Однако напрасно стали бы мы искать в его книгах последовательного анализа какого-либо литературного направления. О многих он даже не упоминает, хотя был живым свидетелем их появления, развития, а часто и смерти. Когда вышла в свет его первая книга, роман натурализма еще не стал явлением исторического порядка, а на литературном горизонте уже маячила тень дада и сюрреализма. Когда он был уже признанным мэтром французской литературы, ему довелось увидеть опасность, грозившую современному искусству со стороны «нового романа», и сказать об этом во весь голос: «Великий боже! Существует ли на свете такой идиот, чтобы поверить, что литературный жанр, представленный Сервантесом и Толстым, Достоевским и Прустом, является второстепенным искусством». Мориака всегда интересовало творчество такого мастера психологического романа, каким был М. Пруст. В книге о нем он дал блестящий портрет автора «В поисках утраченного времени», но не дал сколько-нибудь полного анализа его произведения. При этом, как и в случае с «новым романом», Мориак более всего обеспокоен уходом писателя от действительности: «Двадцать лет спустя после смерти М. Пруста мое восхищение живо, но в нем все же появился один оттенок. Я более не уверен, что его произведение, взятое полностью, означает триумф метода. Вот что меня поражает: вершины этого произведения возникают из самого далекого прошлого автора. Лишь ребенок из романа «По направлению к Свану» и взрослые, которых наблюдает этот ребенок, еще чистым своим взором (в частности, я думаю о знаменитом эпизоде: „Любовь Свана"), устояли перед разложением. Но по мере того, как обретенное время удаляется от ранних лет и выносит на поверхность определенную сексуальную жизнь и образы, которые она влечет за собой, металл произведения, до этого нетронутый, постепенно разъедается».
Жажда реализма у Мориака сопровождается насущной необходимостью сохранить в произведении нравственный заряд, без чего коррозия разрушит его цельность: «... отсутствие нравственной перспективы обедняет человеческие натуры, созданные Прустом, сужает его вселенную». Критическая проза Мориака носит по преимуществу эссеистский характер. Менее всего стремится он объяснить литературный процесс, ему важнее найти совпадение со своей точкой зрения, обогатить знание человеческой природы примером родственного ему по духу писателя. Поэтому ему интересны Достоевский и Паскаль, Лоти и Пруст, Радиге и Баррес. Это вовсе не значит, что Мориак-художник подобен архитектору-эклектику, формально соединяющему в своем творчестве различные стилевые элементы. Осмысливая развитие национальной и мировой литературы, без чего не может обойтись ни один крупный художник, он извлекал из него только то, что было созвучно его собственным творческим установкам. Именно этим обстоятельством объясняется и тот круг авторов, которых он затрагивает в своей критической прозе, этим объясняется и пристрастие его к определенной тематике.
Мориак — писатель, который черпал свои темы исключительно из жизни провинциальной Франции. Мог ли он пройти мимо П. Лоти, который, по его мнению, лишь один «сквозь поверхностную грубость проник в девственную душу народа, в эту неизведанную землю, вечный аспект которой не изменила никакая культура, этого моря, которое несмотря на крайнюю жестокость, обладает скрытой нежностью, бесхитростной добротой, постоянной верностью». Не так ли он и сам относится к своим персонажам? Действительно, в какой-то мере атмосфера повествования о Ландах близка «Исландскому рыбаку» Лоти. Но, может быть, еще ближе ему в этом смысле М. Баррес с его культом французской земли, в которой и он видит источник вдохновения. При этом Мориак не разделял ни колониальных у Лоти, ни националистических у, Барреса тенденций. В них он видел причину «глубокого разногласия между Барресом и множеством его духовных сыновей», к которым в известной мере причислял и себя.
Р. Радиге с его рациональным анализом внутреннего мира героев утвердил Мориака в его собственных художественных исканиях. И прежде всего, в необходимости более пристального внимания к человеку: «В чем психологический роман отличается от приключенческого? Ни в чем, это одно и то же, отвечает Радиге... Именно внутри нас разыгрывается единственная драма, которая нас интересует, наше приключение». По этой же причине его привлекал и Пруст, но у Радиге, особенно в романе «Бал у графа д’Оржель», он видит достоинства, которых лишены последние тома прустовского произведения: «Чем ни богаче наша нравственная жизнь, тем сложнее становятся наши чувства, тем больше интерпретация их требует одновременно и простоты, и тонкости». С такими же требованиями Мориак подходит и к своему творчеству, и в большинстве случаев ему удается обрести искомый синтез простоты, тонкости и сложности.
Некоторые писатели сопровождали Мориака всю жизнь — Паскаль, Расин, Достоевский. О первых двух он написал несколько книг, а о Достоевском существуют многочисленные высказывания, рассеянные в массе литературных и публицистических работ, целая глава посвящена ему в «Романе» (VI). Все они складываются в строгую систему притяжений и отталкиваний, которая отразилась в его творчестве. Паскаля, Расина, Достоевского у Мориака объединяет присущее всем им стремление разрешить вопросы познания человека в нравственной плоскости, перенести центр тяжести на анализ его внутреннего мира. Все они входят в круг писателей моралистов. Мориак продолжает эту традицию, освященную именами Монтеня, Паскаля, Лабрюйера, Ларошфуко, в романе XX в. То, что великие моралисты прошлого открывали в человеке на путях философского анализа внутреннего мира человека, а Расин подтверждал в своих трагедиях, становится основанием для всего художественного творчества Мориака.
Преемственная связь обозначена здесь непосредственно: Федра, сжигаемая страстью, — образ вечный, по мысли писателя, — у Мориака принимает современный облик. Это — Тереза Дескейру. Социальный смысл этого образа едва ли не с исчерпывающей полнотой раскрыт в работах отечественных исследователей. Однако, социальный смысл образа далеко еще не покрывает всего его содержания. Не меньшее значение для автора имеет его связь с общечеловеческими проблемами познания вневременной и внесоциальной сущности человека. Мориак исходит из точки зрения Паскаля: «Человеческую натуру можно рассматривать двояко: исходя из конечной цели, и тогда человек возвышен и ни с чем ни сравним, или исходя из обычных свойств, как рассматривают лошадь или собаку, исходя из их обычных свойств — способности к бегу, et animum arcendi — и тогда человек низок и отвратителен. Вот два пути, которые привели к стольким разногласиям и философским спорам». И Паскаль, и Расин, и Достоевский, и сам Мориак не ограничивались тем, что вставали на одну из возможных точек рассмотрения человека, они стремились, не исключая ни одной из этих точек зрения, показать его сложный мир. Отсюда и раздвоенность сознания у их героев. Обычно такое положение персонажей у этих писателей связывают с той нравственной аксиомой, которую все они разделяли, и которую каждый из них воспринимал по-своему. Паскаль ее выразил так: «Неоспоримо, что вся людская нравственность зависит от решения вопроса, бессмертна Душа или нет», а герой Достоевского еще конкретнее: «...уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того: тогда ничего уже не будет безнравственного, все будет позволено, даже антропофагия».
Эту нелегкую задачу решают и герои Мориака, в первом ряду которых стоит Тереза. Как и расиновскую Федру, преступление отрезает ее от мира. «Федра влечет за собою громадное число потомков, — пишет Мориак, — которые знают, что они не могут ни ждать чего-либо, ни надеяться на что-нибудь лишенные любви на пустынной земле под бронзовым небом. На каждом повороте нашего пути мы встречаем ее мертвое лицо, ее высохшие губы, ее сожженные глаза, которые просят пощады, ее горестное тело, парализованное стыдом, чье единственное преступление заключается в том, что оно пребывает в мире». Портреты Федры и Терезы совпадают чуть ли не дословно, единственная деталь, относящая Терезу к XX в., — постоянная сигарета в бледной руке. Но не в портретной схожести дело. Наследница Федры, она обречена на вечное одиночество и вечное страдание, которое может прервать только смерть.
В центре внимания критической прозы Мориака постоянно находился современный роман и проблемы, которые он поднимал. Уже первая его работа, посвященная этой теме, отражает озабоченность писателя состоянием популярнейшего у читателей жанра, который, по едва ли не единодушному мнению буржуазной критики 20-30-х гг., находился в состоянии глубокого кризиса. Преобладающим было такое мнение: роман умирает, если он уже не умер. «...критическая литература, посвященная кризису романа, никогда не была столь цветущей, как в первое десятилетие межвоенного периода», — пишет французский критик М. Ремон. Десятилетие это кончалось в год выхода работы Мориака «Роман». Так что со своей точки зрения писатель подводил некоторые итоги затянувшейся дискуссии.
Есть ли основания говорить о глубоком кризисе французского романа в этот период? Особенно, если учитывать, что в эти десятилетия в жанре романа плодотворно работали Р. Роллан и А. Франс, и уже были опубликованы первые части «Семьи Тибо» Роже Мартен дю Гара. В 1927 году, уже после смерти автора, была закончена публикация романа М. Пруста «В поисках утраченного времени», не говоря, уже о том, что и сам Мориак к этому времени был автором не только «Пустыни любви» и «Прародительницы», но и «Терезы Дескейру». Об упадке романа можно было говорить только по отношению к роману натурализма и психологическому роману П. Бурже. И тот и другой к этому времени ощущался анахронизмом. О кризисе можно было вести речь и имея в виду литературу, вдохновлявшуюся отжившими идеями символизма и скороспелыми идеями сюрреализма. В такой обстановке голос Мориака звучал трезво и определенно: «...никто не имеет права заключать из такого положения, что роман идет, к своему концу; ибо во все времена очень великие романисты были одиночками. И все же, хоть роман и не умер, нужно быть слепым, не признавая, что кризис его существует». Однако, признание этого факта не повергает его в уныние, как пессимистически настроенных оппонентов Мориака. Он убежден, что из состояния упадка роман выйдет «обновленным и, может быть, чудеснейшим образом обогащенным».
Сам Мориак на кризис романа смотрит с позиции католического писателя, или, как он говорит, с позиции католика, пишущего романы. С этой точки зрения роман и не может не прийти в упадок, ибо католический романист должен показывать «конфликт Бога и человека в религии, конфликт мужчины и женщины в любви, конфликт человека с самим собой». Первый из них для Мориака является самым важным. И именно в этом плане, считает он, современный роман несостоятелен, так как он утратил основной конфликт и бьется, пока безуспешно, в поисках нового, ибо современное общество менее всего озабочено нравственными проблемами, которые вытекают из такой постановки вопроса. Безусловно, Мориак понимает, что вернуть эту область конфликтов в современный мир было бы предприятием совершенно несостоятельным, хотя и мечтает об этом. Слишком далек он от понимания реального состояния дел в мире, когда упорно возвращается к дорогой ему мысли: «Но, может быть, настало время напомнить о некоторых основных истинах. И прежде всего об этой: невозможно работать над тем, чтобы глубже понять человека, не служа делу католичества». К счастью, декларации, подобные этой, не могли разрушить художественного видения мира, присущее большому писателю. Французский критик Б. Руссель замечает очень точно: «Мориак — романист и католик, а не католический романист. Два человека борются в нем: чаще побеждает романист, редко христианин».
Собственное его творчество, особенно лучшие романы, такие как «Тереза Дескейру», «Клубок змей», «Фарисейка», «Подросток былых времен», «Обезьянка», показывают, что на первый план у него выходят совершенно другие конфликты: человек и семья, человек и буржуазное общество, власть денег в нем. При изучении противоречий писателя-реалиста, происходящих от установки на религиозную нравственность, возникает далеко не простая проблема, о которой пишет Ф. С. Наркирьер: «В данной связи возникает вопрос о соотношении мировоззрения писателя и его художественного метода. Отечественные исследователи справедливо указывают на глубокие противоречия мировоззрения Бальзака. С еще большим основанием можно говорить о противоречиях Франсуа Мориака, во многом определивших противоречия его творчества, его сильные и слабые стороны». Одним из выходов из этого противоречия может быть обращение к общественной тематике. У Мориака это находит выражение в критике некоторых сторон буржуазной действительности, в том числе и частной собственности. Будучи представителем своего класса, он тем не менее не очень щадит его в своих романах.
Другой выход для Мориака заключался в том, чтобы попытаться отыскать в современном мире страсти, которые владеют людьми, в их чистом виде, как это было у Расина. Мориак находит такой мир. Это — французская провинция. Книгу «Провинция. Заметки и максимы» с полным основанием можно причислить к тем работам, в которых раскрывается его эстетическое кредо. Сохраняющая дух великих французских моралистов в разрешении нравственной проблематики, она и по форме — максимы — близка к ним. Как и многие писатели, критически относящиеся к буржуазному обществу, Мориак не любит города. Более того, он ему представляется отвратительным. Но если город, особенно гигантский, столичный, тем не менее притягивал внимание крупнейших писателей и XIX и XX в. — Бальзака, Гюго, Диккенса, Достоевского, Золя, Верхарна, Драйзера — тем, что был средоточием наиболее острых социальных проблем, то для Мориака важно противопоставление столичного города и провинции. И не потому, что провинция — тихий райский уголок, и в ней можно отыскать в первозданном виде остатки патриархальной старины, чтобы на этом фоне подчеркнуть бесчеловечность капиталистического города, как это бывало у многих писателей. Если следы такого противопоставления у Мориака и есть, то оно опять-таки переведёно в нравственную плоскость. Город символизирует отсутствие всякой духовности в связи с забвением конфликта человека с богом. В поисках его писатель и отправляется в провинцию: «... если вечные конфликты, которые пережил роман в течение века, потеряли многое в остроте, все это не мешает тому, что эти конфликты еще существуют ... есть ещё области, где старые плотины держатся крепко. Провинциальная французская семья в 1927 году дала бы Бальзаку больше сюжетов, чем он смог бы обработать за всю свою жизнь. Эти драмы существуют, и мои читатели знают, что я из тех, кто до сих пор черпает в них не самые слабые из своих произведений...». Провинция становится для него идеальным местом действия романов потому именно, что там он находит страсти в их чистом, лишенным воздействия города, виде. Мориак словно уподобляется трагикам классицизма, стремясь анализировать человеческие страсти прежде всего. Но это — необходимейшее условие его творческого метода. Перенесение места действия в провинцию означает создание идеальных условий для анализа духовного мира героя: «Провинция — земля вдохновения, источник любого конфликта. Лишь провинция все еще ставит препятствия для страсти, что вызывает драмы. Скупость, гордость, ненависть, любовь, за которой постоянно подсматривают, усиливается в зависимости от встречаемого сопротивления. Сдерживаемые барьерами религии, социальной иерархии, страсти скапливаются в сердцах.
Провинция — фарисейка. Провинция все еще верит в добро и в зло: она сохраняет чувства возмущения и отвращения».
Вывод таков: город не дает романисту достаточного количества, конфликтов нужного качества, или же они не такие яркие, как в провинции. Это тем более вызывает удивление, что, в сущности, провинция Мориака, будучи отрезанной от города, отрезана и от важных социальных и исторических событий. Приведенные слова были написаны в середине шестидесятых годов, после того уже, как мир за пятьдесят предшествующих лет пережил страшные потрясения двух мировых войн. А. Камю называл нашу эпоху одной из самых драматических или даже трагических в истории человечества. Миром, предугаданным Достоевским, казалось А. Мальро время концентрационных лагерей и газовых печей, миром, в котором борьба между добром и злом идет каждый миг. Что же, Мориак прошел мимо всего этого и все упростил ради удобства психологического анализа? И это тот самый Мориак, который принес в подпольное издательство свою «Черную тетрадь?»
Разумеется, нет. Все это находится в поле зрения Мориака-публициста. Для Мориака-художника дело обстоит иначе: городские, шире — общественные, конфликты представляются ему разрешенными тем обстоятельством, что там не осталось места религиозной нравственности. Современная общественная жизнь просто стоит в стороне от этого жгучего для Мориака вопроса. Если же бог отринут, то для Мориака оказывается невозможным вести речь о морали. Мысль эта восходит к Паскалю и Достоевскому, хотя писатель нигде не цитирует ее, настолько она для него очевидна. Так у него возникает теория мнимой «бесконфликтности» города.
Но тем острее проявляется у него конфликт там, где действие происходит в его родных Ландах. Конфликт человека с религией изображен в романе «Агнец». Главный герой его, в изображении которого чувствуется несомненная близость к князю Мышкину, «положительно прекрасному герою» Достоевского, Ксавье Дартижелонг — показательный пример: он теряет смысл жизни тогда, когда к нему приходит разочарование в религиозной морали, точнее ощущение ее беспомощности. Конфликт с моралью, построенной на этой основе, отражен в романе «Черный ангел», где исследуется ситуация вседозволенности. Конфликт героя со светской честью показан в романе «Дорога в никуда». Эти же конфликты ясно видны и в наиболее известных и признанных романах писателя, в «Терезе Дескейру», которую автор хотел и не смог вернуть в лоно католицизма, не разрушив при этом логику развития характера, в «Клубке змей», где ненависть между супругами, среди прочего, имеет в качестве основы атеистические взгляды главы семьи.
Переключение конфликта исключительно в область морали, как ее понимает Мориак, все же не означает полного ухода писателя от действительности. Скорее, на этом фоне острота ее изображения только увеличивается. Страсть, которую изображает автор «Клубка змей», не ограничивается чисто любовными или семейно-родственными отношениями. Она у него соединена с обладанием богатством, земельным или денежным. Характеристика любого героя у Мориака включает этот момент. Ради того, чтобы собрать в руках все окрестные лесные массивы, действует не только Бернар, но и Тереза Дескейру. Мадам Гажак воздействует на личную жизнь связанных с ней людей потому только, что она самая богатая в округе землевладелица. Драма Жана Пелуэйра развертывается на этом же фоне. Пелуэйры — богачи, а богачам не принято отказывать. Вот богатство и решает судьбу красавицы Ноэми и ее уродливого мужа. Деньги, и только деньги определяют судьбу всех героев романа «Клубок змей», Эту сторону буржуазной действительности Мориак, оставаясь писателем-реалистом, не может спрятать за изображением страстей самих по себе. Страсти его героев проявляются чисто по-бальзаковски, сливаясь с темой власти денег над душой человека.
Глубина конфликтов усугубляется еще и тем, что несмотря на «крепкие плотины», которые еще сохранились в провинции, нравственные устои начинают рушиться и там под натиском действительности. При этом разрушение нравственности идет не только в силу разлагающего влияния собственности на душу того, кто ею обладает, но и в силу критического отношения к ней, которое возникает у отдельных представителей того же общества. Тот самый Ален Гажак, чья мать, одна из крупнейших собственниц, бунтует против собственности: «...она развращает, бесчестит людей». Показательно, что этот герой сочетает внимание к Паскалю с попыткой осмыслить мир через восприятие казалось бы совершенно чуждых для мориаковской провинции книг Жореса, Геда, Прудона.
Среда, которую рисует Мориак, известна ему до тонкостей. «Я не могу задумать роман, — пишет он, — не представив себе мысленно вплоть до самых укромных закоулков дом, который станет местом действия... Никакая драма не сможет зародиться и ожить в моем сознании, если я не привяжу ее к местам, где постоянно жил». Именно следование им жизненной правде, почерпнутой из действительности, в известной мере перечеркивает его католические позиции и подводит к признанию за писателем роли историка общества, если он даже не разделяет эстетики «Романа»: «В этом случае отсутствие конфликтов не только не будет его смущать, но даже станет объектом его живописи». Однако, в таком случае, считает Мориак, перед романом возникают новые трудности: «...история аморфного общества не может переписываться бесконечно, как это было у наших предшественников с конфликтом духа и плоти, долга и страсти». Действительно, буржуазное общество, отказавшись от четкой критической позиции по отношению к самому себе, все дальше и дальше уходит от классических образцов жанра, свидетельством чему является творчество романистов модернизма от Д. Джойса до представителей «нового романа» и сторонников структуралистского текста.
Вместе с тем Мориак видит реальную опасность, в которую может погрузиться западная литература, если в ней возобладают некоторые современные тенденции. Это опасность — бездуховность. Мориак говорит об этой тенденции в книгах Д. Джойса, М. Пруста, Коллет, П. Морана и Ж. Лакретеля, в которых на первый план выходит «запретное» дотоле в области человеческой психики. Мориак и сам не был чужд тем, как это видно из многих его романов. Опасность виделась ему в отсутствии потребности в нравственной жизни: «Мы потеряли — и это, может быть, великое несчастье — чувство возмущения и отвращения, мы решаемся заглядывать в самые бесстыжие глаза потому, что ничто нас не возмущает, ничто нас не отвращает от того, что свойственно человеку». Сложное, противоречивое в человеческом сердце, граничащее с патологическим или даже преступающим эту черту, не могло привлекать его само по себе. Примером преувеличенного внимания к этой стороне человеческой психики было для него не только творчество А. Жида, но и М. Пруста: «Желание видеть в человеке только его самые глубокие индивидуальные черты, гордость тем, что проникаешь всевидящим оком в человеческий хаос, тем, что регистрируешь его малейшее и едва различимое движение, вот где заключена страшная опасность для современного романа, та самая, что тяжело, давит, на произведения Марселя Пруста; да, на замечательное произведение, которое с этой точки зрения, может служить нам примером и предостережением». Поэтому-то он, зная уже Фрейда, относился критически к использованию его открытий в литературе.
Для Мориака образцом остается классический французский роман, при условии, правда, что его нужно обновлять и углублять. Обрести новые черты, считал Мориак, французский роман сможет, обратившись к достижениям русского реалистического романа XIX в., в частности, Достоевского. «Достоевское начало» заключалось для Мориака в том, чтобы проникнуть в хаос человеческого сознания, неподвластный логическому анализу, но сохраняющий нравственную перспективу. Вся шестая глава «Романа» посвящена этому вопросу. «Герои Достоевского предстают французскому читателю столь странными не потому, что они — русские, а потому, что они похожи на нас, на наш собственный хаос; они индивиды столь противоречивые, что мы не знаем, как думать о них; именно потому, что Достоевский не навязывает предвзятого порядка, никакой иной логики, кроме жизненной, которая с точки зрения нашего разума является самой нелогичностью. Мы удивлены, что его персонажи каждый раз испытывают чувства противоположные тем, которые они должны были бы испытывать естественно; но кто из нас, понаблюдай он за собой непредвзято, не удивится неожиданным и нелепым чувствам, которые он открывает в себе». Сложность, противоречивость, многомерность его персонажей, по Мориаку, является тем величайшим достижением в искусстве проникновения в тайники человеческой натуры, которым должен овладеть современный романист.
Подобную же задачу ставили многие французские романисты первой половины XX в., связывая разрешение ее с именем Достоевского. Достаточно назвать имена таких писателей, как А. Жид, А. Сальмон, Ж. Бернанос, Ж. Дюамель, писатели-экзистенциалисты и многие другие. Но если А. Жида и в значительной мере писателей-экзистенциалистов влекли как раз проявление у Достоевского темных сторон человеческой натуры, его «подпольный человек», чью этику они брали за образец для своих героев, то Мориак находит другой путь его освоения. Путь, который поможет избегнуть поучительного примера слишком ревностных поклонников автора «Братьев Карамазовых».
Мориак хочет сочетать, с одной стороны, сложность психологического анализа Достоевского, с трезвостью и ясностью анализа, присущего французской литературной традиции, которую чисто условно можно было бы назвать паскалевской или моралистической. Эта традиция сказывается не только в методе анализа, но и в особой напряженности повествования, которая присуща французским моралистам XVII в., старавшимся вскрыть сущность человека через его отношение к нравственным проблемам. И здесь, через Паскаля, Мориак снова встречается: с Достоевским, для которого одним из главных вопросов тоже было «страдания человека, лишенного бога», что во многом: определяло его этические искания.
Религиозные воззрения Мориака, отразившиеся в его романах, во многом связаны с этой точкой зрения. Он многое хотел бы вести к богу именно по этой причине. В главе IV «Романа», однако, Мориак подчеркивает важность этической проблематики для всякого «историка общества», будь он даже глубоко неверующим. Ни точность взгляда теоретика романа, анализирующего современное состояние его, ни интуиция художника не обманули писателя. Именно эта проблема стала впоследствии очень важной для западноевропейской литературы, центральной в творчестве писателей-экзистенциалистов. Сам же Мориак рассматривал ее скорее с точки зрения моралиста общества, с тревогой наблюдающего падение вечных моральных ценностей.
Плодотворным было и другое стремление Мориака, созвучное Достоевскому, — создание образа человека, одушевленного философской идеей, которая бы составила его вторую натуру, тесно связанную с глубинами сознания, как у Ивана Карамазова, как у Раскольникова, как у князя Мышкина. Эту особенность художественного стиля русского писателя Мориак разделяет целиком: «Действительно, философские и религиозные идеи человека создают в нем вторую натуру, буквально нового человека, столь же реального, как то животное, влекомое инстинктом, каким был бы человек без этих идей».
Можно было бы задать писателю совершенно оправданный вопрос. Он его сам предупредил. «Вы никогда не говорите о народе, — обращает он к себе вопрос и тут же отвечает. — Зачем принуждать себя описывать среду, которую знаешь плохо? Каждый из нас копает там, где он родился, где жил». В той области отображения действительности, которую избрал он, ему удалось стать крупнейшим мастером реалистического романа во французской литературе первой половины XX в.
Л-ра: Зарубежная литературная критика. – Ленинград, 1985. – С. 55-66.
Произведения
Критика