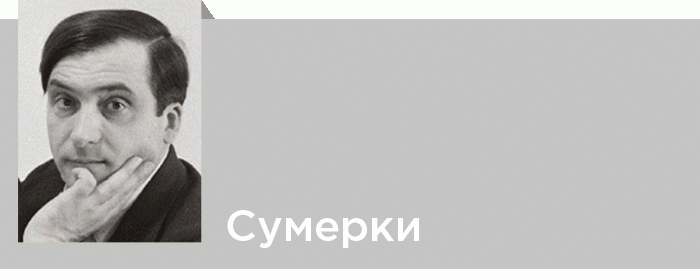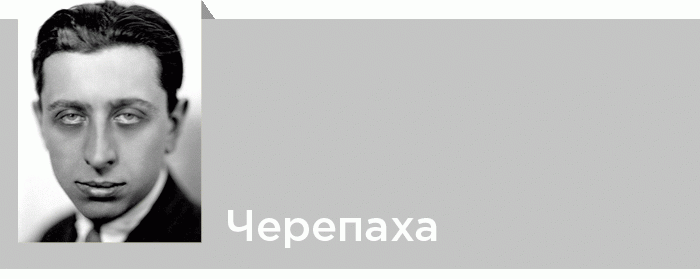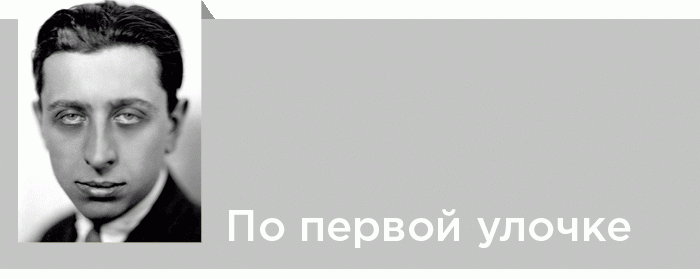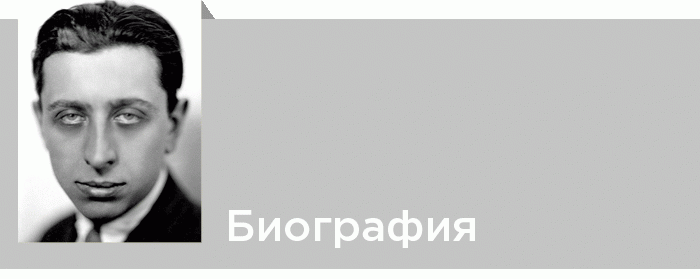Путь Робера Десноса

Т. В. Балашова
Робер Деснос, как и Луи Арагон или Пьер Реверди, был среди «сюрреалистов первого часа»: его творчество 20-х годов Бретон ценил за преданность идеям группы. Разрыв с ней у Десноса, как и у Арагона, принял форму прямых деклараций, но «прощание с прошлым» происходило труднее.
Ситуация во французской поэзии отличается от ситуации других литератур не в последнюю очередь количеством «переходов», когда художник дерзко рвал (а иногда мягко снимал с себя) путы авангардистской эстетики. Специфика такого разрыва, свершившегося в творчестве Элюара и Арагона, хорошо освещена отечественным литературоведением, но, чтобы убедиться, что подобный разрыв не случайность, что в нем откристаллизованы закономерности искусства XX в. вообще, поучительно осмыслить иной «вариант» перехода, когда из творчества поэта уходит формалистическая усложненность, но появляется новая, реалистически обусловленная сложность.
В истории мировой поэзии XX в. есть судьбы, линия которых вычерчивается «от сложного к простому». Поборники поэтической темноты полагают, что переход к «простому», т. е. понятному, убивает самое поэзию; защитники социально-действенной лирики, порицая «сложность», порой наивно радуются победе «простоты». Предметом подобных «двусторонних» интерпретаций не раз становилась поэзия Робера Десноса (Robert Desnos, 1900-1945). Его творческий путь, направленный, как он сам говорил, к «эстетике понимания», «снимает» противопоставление сложного и простого в поэтическом мироощущении, убеждает, что и реалистический образ может быть «трудным».
Взаимосвязь между условным метафорическим образом и а-метафорической формой поэтического «сообщения», между фольклорной традицией и новейшей стихотворной структурой — эти проблемы встают сразу, едва мы начинаем путешествие по поэтическому миру Робера Десноса.
«Самый представительный поэт своего поколения», — пишут о Робере Десносе; «Самый непосредственный. Самый свободный, всегда одухотворенный... и самый мужественный из людей», — говорил о своем друге Поль Элюар.
Режиссер Мэн Рей называл его «блестящим интерпретатором идей сюрреализма». «Если Элюар наиболее доступный из великих поэтов Франции, то Деснос наиболее трудный», — считает английская исследовательница Мари Эн Коу.
Порой даже финал этой судьбы — стихи, печатавшиеся под псевдонимами в подпольной прессе Сопротивления, голгофа тюрем и концентрационных лагерей (Деснос прошел через Компьен, Освенцим, Бухенвальд, Флоссенбург, умер в Терезине) — кое-кому видится только экстравагантной неожиданностью — вроде неожиданных сочетаний, узаконенных поэтикой сюрреализма. А сама поэтическая судьба вычерчивается как движение от фантасмагорического абсурда к прозаизмам, убившим поэзию. В действительности развитие было иным.
По законам поэтики сюрреализма соединять надо было самое несоединимое, сближать самое отдаленное. И двадцатилетнему Роберу это удавалось виртуозно. «В течение нескольких лет Деснос делал то, что было задумано сюрреализмом» — это суждение, упрощающее и цели сюрреализма, и творчество Десноса, тем не менее правдоподобно: друзья-сюрреалисты долго считали Десноса самым удачливым производителем автоматических видений. Однако настал момент, когда Бретон заподозрил его в измене эстетическим принципам школы, а потом и сам Деснос определил критерии своего противостояния: «Верить в сверхреальное, — резко написал он, — это заново мостить дорожку к богу; сюрреализм, как понимает его Бретон, — серьезная опасность для свободной мысли, хитроумная ловушка...».
Иное, чем намечал Бретон, отношение к автоматизму поэтического письма пробивалось уже в виртуозно-филигранных откровениях «спящего» Десноса.
Слишком часто выплывали из бездны подсознания афоризмы, метко обобщавшие законы буржуазного миропорядка. Деснос обличал ханжество, ригоризм различных школ и сект, националистический психоз, дух чистогана, пустопорожние словеса протеста, не способные изменить мир.
Цикл «Рроз Селави» (1922), «Обжигающая речь» (1923), «Омоним» (1923) дают достаточно оснований, чтобы считать их типично сюрреалистическими — слишком «резвятся» слова и звуки, удивляя, сбивая с толку.
«Чистый автоматизм» господствует и в тексте Десноса «Кары ада» (Pénalités de l’enfer). Но характерно, что автор никогда не включал его в свои сборники. Наиболее ценным оказывалось отнюдь не автоматическое.
В десносовских метафорах между неожиданно сближенными словами часто проскакивает искра обобщения. Она придает словам более глубокий смысл, чем тот, что возникал от механического соседства; странноватые сочетания лишь делают рельефнее, ударнее мысль. Так возникает образ, в то время как в типичных примерах сюрреализма сочетания слов безобразны, они остаются несоединимыми, несоединенными.
На примере эволюции Робера Десноса можно видеть, как от мнимо сложной ассоциативности, которая не требует работы мысли, поскольку не обещает разгадки, поэт движется к сложным образам, необходимым и самому поэту и читателю для понимания реальности.
Чтобы подчинить себе слово, мысль должна прорасти из реальности. В программных текстах сюрреализма — и часто у раннего Десноса — реальность искажена: она холодна, неподвижна и как бы лишена человеческого присутствия. Но и здесь были оттенки, нарушавшие характерную для сюрреализма атмосферу черного юмора.
В сказке о розах (сб. «Сумерки» — Ténèbres, 1927) симптоматична фраза: розы «всегда будут расцветать, но сегодня их лепестками усыпан ковер»; в поэме «Сирена анемон» (1929) после каскада ужасов — кровавых луж, победных криков воронья, беззубой улыбки проститутки, равнодушных глаз прокаженных — характерная остановка: «Каждый раз, когда рушится последняя ступенька, робкое дитя появляется у окна мансарды». И, наконец, финальная строка: «В вихре бурь родится анемон».
Образ обрушивающейся лестницы (символ катастрофы) и образ ребенка (символ надежды) не просто сближены, они слиты во времени:
Раньше, чем образ катастрофы воспринят целостно, он уже перетекает в образ робкой надежды:
...un timide enfant paraît.
Та же зависимость провозглашена в поэме «Сирамур» (сокращение от Сирена-Любовь): «Само несчастье породило нашу роковую ненасытную удивительную любовь».
«Слеп я был и думал, что вокруг темно» (сб. «Из кремня и огня», 1929). Только тот, кто слеп, может думать, будто ночь вечна; зрячий знает: заря займется, ночные чудища отступят, злые духи погибнут под каблучками детей, анемон расцветет после грозового ливня.
Письмо жене с порога смерти: «Наша мука сейчас была бы невыносимой, если бы мы не нашли в себе силы смотреть на нее, как на временную болезнь чувств. Мы встретимся — и от этой встречи жизнь наша станет еще прекраснее».
Это восприятие реальности с ее глубокими тенями и вспышками яркого света помогало Десносу даже в первое десятилетие творчества. Его ранние стихи подчинялись многим законам сюрреалистской поэзии и все-таки отступали от нее в чем-то очень существенном, хотя может быть неправомерно говорить об «антисюрреалистическом применении» образа у раннего Десноса или считать, что у него нет «ни одного собственно сюрреалистического образа, где произвол обычно максимален».
Интересно проследить, как Деснос все дальше уходил от сюрреалистической поэзии. Его образ почти везде ошеломляющ, резок, построен на сближении контрастов. Но неожиданность обретала особый смысл, если заставляла острее увидеть жизненный конфликт, жизненную закономерность. В эпитафии на смерть самоубийцы («Самоубийство ночью» — сб. «Сумерки») трава умеет бледнеть и краснеть — от страха и стыда, настолько трагична тайна, которую она покрыла; в другом стихотворении люди научились поджигать леса и зажигать зарю: причастность глагола incendier сразу к двум планам — прямому и метафорическому — это одновременно причастность человека к подлости и подвигу.
Образ, контрастно сочетавший в себе высоты духа и бездны плоти, скоро становится в стихах Десноса своего рода литературной условностью; его вытесняет другой контраст: есть Он и Она; им не нужны «другие», но без «других» нет счастья и для любящих. Взгляд на любовь как бы с иных горизонтов присутствует уже в «игровом» афоризме — «Promethée-moi-l’amour» — и бесспорно господствует в таких циклах, как «Сирамур» и «Ночь ночей без любви»: история любящих вписана в общую книгу жизни, где есть подвиги и преступления, бездомные бродяги и высокомерные хамы, где согревают влюбленных «маленькие бистро бедняцких кварталов и смех рабочих, когда они веселы», где добродушно болтает с ними водопроводчик в пивной «Встреча шоферов».
Эти страницы напоминают «Зону» Аполлинера и эпические зарисовки Блэза Сандрара. Поэту как бы подвластны все голоса земного шара — очень земного и у Аполлинера, и у Десноса, и у Сандрара. Разрозненные блики, мгновенные снимки увиденного, калейдоскоп деталей — в результате причудливая фреска бытия, где обретает закономерность случайное, обнаруживается родство в «чужом», где проявлена неизбежность человеческих взаимосвязей.
Деснос не сразу порвал с группой сюрреалистов. Но в начале 30-х годов он почувствовал себя достаточно самостоятельным, чтобы бросить сюрреализму открытый вызов. Вызов его художественной и политической программе. С искренностью человека, не привыкшего дипломатничать, Деснос заявил: у Бретона «не сходит с языка слово Революция... потому что этот кусок слишком велик для его слабого горла и вызывает тошноту. Бретон относится к персонажам, которые паразитируют на идее революции, страшась революционного действия».
В этой формуле «антиреволюционной революционности» — предвидение демагогической тактики многих нынешних неоавангардных групп. «При первых волнениях он отправится в Кобленц», — пророчески предсказал Деснос политическую судьбу Бретона.
На поле литературной истории Деснос наметил разделяющую межу. По одну сторону — интуитивность автоматических видений, по другую — «эстетика понимания»; ведь само слово «понимать» считалось изгнанным из сюрреалистского словаря.
Раньше, чем теоретические размышления Десноса вылились в эссе-послесловия (см. «Достояния», 1942 и «Накануне», 1943), он выразил свое отношение к художественному творчеству в строках поэтических манифестов («Появление» и «Как» из сб. «Безголовые», 1934).
Поэзия исторгнута небом и грязью грешной земли, подарена радостью и сном, возникла из кофе, выпитого ночью, из угля, из чернил, из вдовьего траура, из горя сотен миллионов негров и поцелуя чернокожих в тени деревьев — таков ряд образов, сопровождающих рождение поэзии в «Появлении». Но раз поэзия — дитя реальности, в ее самых свободных ассоциациях есть и логика, и закономерность. Поэт подтрунивает над привычкой, что угодно рифмовать, что угодно соединять в поэтической строке.
Я говорю «как», и все меняется:
мрамор превращается в воду, небо — в апельсин, вино — в равнину, нить — в лодку,
сердце — в горе, страх — в невод.
«Как»
Можно сделать «облако тверже мрамора», «мрамор тверже сердца», «стихи воздушнее сна или тверже неба...» Можно играть словами, пока они «плавают, как обломки». Но ... — останавливает себя поэт... Ведь поэзия должна брать начало от человеческих мук, а не от танца слов. Характернейшее свойство сюрреалистской поэтики — безграничный произвол ассоциаций «обсуждается» в самом стихотворении, и вывод симптоматичен: поэт не противник вольных ассоциаций; но ему теперь ясно, что глубина ассоциаций зависит от концентрации чувства и мысли. Деснос требует, чтобы фантазия, воображение помогали найти кратчайшее расстояние к обнаженной реальности. Характерно суждение поэта о фильме «Броненосец „Потемкин"»: «Экран не является больше стеной. Его прорезают красные шары воображения. Фильм открывает прекрасный мир... на миг кажется, что слышишь биение сердец, одухотворенных верой». Напомнив о цензуре, сковавшей движение «Броненосца» во Франции, Деснос заключает: «Но „Потемкин" не из тех кораблей, что подрываются на минах. Он навсегда снялся с якоря и бежит по волнам. След его опоясал землю, вещи, границы, люди — бессильны перед ним. Совсем нематериальная сила его форштевня сносит самые опасные рифы».
Можно ли утверждать, что громкий разрыв с сюрреализмом направил поэзию Десноса в другое русло? Существенно как раз то, что крутого поворота не было. Не было потому, что Деснос, распрощавшийся с сюрреализмом, сохранил острый вкус к неожиданному слову, подчиняя новым задачам и ритмику, и рифму, и метафору. «Деснос не отверг прежнюю стилевую манеру, он ее перерос» — этот справедливый вывод Жана Тортеля объясняет, почему торжество «эстетики понимания» не стало торжеством а-поэтичности, как полагают иные критики. Ален Боске считает, будто «столкновение образов» это новшество сюрреализма. Но если взглянуть объективно, то мы увидим: «школа» их чаще формализовала, превращала в техническую догму.
Да, Деснос продолжал сталкивать образы, изобретать неологизмы, менять внешность и свойства предметов. Но чем резче была неожиданность, тем острее теперь ее оправданность.
В стихотворении «Беглец», которое сам Деснос отнес к своим удачам 30-х годов, камни наделены нежностью пух а, потому что каменная стена не делит больше мир на безвинно-виновных и правых, потому что хлопают радостно «крылья птиц и двери тюрем».
В циклах 30-х годов — «Безголовые» (1934) и «Распахнутые двери» (1936), — книгах эпохи Народного фронта, Деснос приводит к читателю изгоев общества, которым он пророчит свободу и власть.
Место для отверженных находилось и среди фантастически причудливых картин, созданных воображением раннего Десноса. Они появлялись естественно и просто в самый «неподходящий» момент «волшебной сказки» то в образе «славного парня», — «сердце в ладонях, ум на луне», «не сдержит язык в кармане, не сунет руку в чужой карман», — то в образе каменщика, который строит дом для «влюбленных, для самоубийств», то в образе усталого чистильщика сапог, находящего на полу следы копыт влюбленного Дьявола. Среди роз, рисуемых Десносом, уже появлялась «роза угля», добытая из глубоких шахт; по сказочным лесам бродили дровосеки, в поте лица добывая хлеб насущный.
Но 30-е годы — годы широкого антифашистского движения — повели поэта дальше. Для Десноса это время общественной активности: он готовит грандиозное театрализованное представление, завершившее заседание Второго Конгресса писателей в защиту культуры (1937), сотрудничает в «Эроп», «Коммюн», «Се суар» вплоть до закрытия их правительственной цензурой, участвует во всех начинаниях Народного фронта — массовых антифашистских демонстрациях, организации Домов культуры и вечеров для народного зрителя. Пуританам, предупреждавшим его, что ремесло журналиста грязно, Деснос отвечал серьезно: «Я сделаю его чистым». Еще в
Люди, родившиеся слишком рано, всегда слишком рано,
Люди, которых закалили бы революции завтра,
Если бы Вас не бросила судьба в те революции,
От которых умирают,
Люди, жаждущие справедливости,
Люди из братской могилы у стены коммунаров.
Синтез прозаических и лирических интонаций осуществлен, например, очень смело в стихотворении «Люди» (сб. «Безголовые» — Les sans cou, 1934). Кажется, нарочно подобраны строки, далекие от всякой поэзии:
Человек, который щупает утром носки, затвердевшие от вчерашнего пота, и затем их с трудом надевает, и надевает рубашку, затвердевшую от вчерашнего пота.
И думает утром, что умоется вечером,
А вечером думает, что умоется утром.
Потому что он слишком устал...
И тот, кто, проснувшись, с трудом продирает глаза,
И тот, кто мечтает о лихорадке,
Чтоб наконец отдохнуть на чистой постели...
Перевод М. Кудинова
Прозаичны здесь и сами детали, и стиль рассказа — протокольно сухой, без единой метафоры, без «привнесенной» мысли, и движение строки, уничтожившей всякое подобие стихотворного размера.
Но обрамлен этот прозаический поток дважды повторенным поэтичнейшим трехстишием:
Hommes de sale caractère Люди тяжелого нрава,
Hommes de mes deux mains Люди работы трудной,
Hommes du petit matin. Люди раннего утра.
Перевод М. Кудинова
Здесь точен размер, подчеркнута рифма, метафорична форма; как равноправные приметы даны: необходимость вставать чуть свет, нарастающее раздражение и привязанность автора к этим людям, которых он хотел бы обнять — Hommes de mes deux mains.
Новые для поэта идеалы пробиваются иногда сквозь метафорическую вязь стиха с усилием, подобно усилию анализирующей мысли. Характерный пример — стихотворение «О себе» (сб. «Распахнутые двери»).
Fer anémone drap
Fer de lance l’anémone qui saigne sur le drap.
Fer teinté du sang des anémones blancheur des draps.
Un fer au coeur une anémone à la blessure un drap pour linceul.
Fer anémone drap
Et le drap rougi d’un sang d’anémone flotte à la hampe du fer.
Et le drap essuie le fer qui trancha l’anémone.
Jette l’anemone flétrie!
Restent le fer et le drap.
Jette le fer rouillé!
Reste le drap.
Reste le drap qui pourrira plus longtems que le cadavre
qu’ii envelpppe.
Reste le drap qui ne laissera pas de squelette.
Jette le drap!
Reprends le fer!
Cueille l’anémone!
La chair autour du fer de ton squelette:
Ton corps
Drapeau rouge replié.
Железо Анемон Белая ткань.
Железо копья пронзает анемон и кровь сочится на ткань.
Железо в крови анемона на белизне ткани.
Железо — в сердце, анемон ранен, ткань — саван.
Железо Анемон Белая ткань.
Ткань, окрашенная кровью анемона — на острие копья.
Ткань обтирает копье, пронзившее анемон.
Брось увядший анемон!
Останутся копье и ткань.
Брось ржавое копье!
Останется ткань.
Ткань, которая не поддается тлению
дольше, чем мертвое тело.
Останется ткань вокруг скелета
Брось ее!
Подними копье!
Найди анемон!
Твоя живая плоть вокруг железа скелета.
Ты — сам
Развернутый красный стяг.
Три элемента жизни: анемон любви, сталь насилия, саван смерти. Кровь анемона на острие копья, кровь анемона на белизне савана. Кажется исход известен: мертв цветок (брось его!); вечен только саван смерти. Но человек может решить иначе — отшвырнуть саван, снова взять в руки оружие, отыскать анемон.
Усложненный рисунок стиха передает движение мысли: отсюда метафорические группы (Fer//anémone/drap/ /Un fer au coeur/une anémone à la blessure/un drap pour linceul), сначала замкнутые и словно несущие в себе извечный смысл: оружие всегда убивает, цветок всегда умирает, саван всегда наготове. Но затем группы сдвигаются: саван красный от крови на острие кинжала (6 строка) — это уже подобие знамени, предвестие финальных строк, где соотношение метафорических групп полностью изменено: сталь не убивает, а защищает; она нужна, чтобы мог жить анемон.
Хронологический параллелизм написания таких разных вещей, как «Люди» и «О себе», опровергает вывод, будто в определенный момент Деснос отказался от ассоциаций, будто у него «нет больше ни редкостных изысканных слов, ни взрывчатых образов — только обыкновенные слова, смысл которых прям, груб, однолинеен». Такая закономерность была бы удобна тем, для кого «эстетика понимания» — всегда смерть поэзии. Эволюция Десноса опрокидывает подобную «закономерность».
Поразительна, например, внешняя несхожесть творческих интересов, провозглашенных им почти одновременно в двух предисловиях — к альбому рисунков венгерского художника Тихани и альбому репродукций Пикассо. Словно писали два разных человека: один — прославляя очарование правдоподобия, когда картины всем понятны, когда на них можно смотреть «веря своим глазам», не страшась «обычного... того, в чем люди похожи, т. е. главного»; второй — возмущаясь призывами к правдоподобию и поспешным желанием все сразу понять: «Вы говорите, что не понимаете? Ищите причину только в самих себе. Как вы бедны, если не умеете соединить чувство с разумом!» Деснос утверждает необходимость пробовать разные художественные пути и радоваться их многочисленности.
«При беглом знакомстве, — пишет С. Великовский, — подобную чересполосицу нетрудно принять за хаотическую разбросанность. Присмотревшись пристальней, обнаруживаешь и неслучайность отдельных резких переходов, и подспудную, хотя достаточно отчетливую логику всех их, вместе взятых».
Исследователи иногда спорят, к чему обращен десносовский образ в первую очередь — к зрению или слуху? Высказывалось мнение, что образ Десноса удивительно живописен для поэзии XX в. и легко ложится на полотно. Есть суждения как будто иные: Деснос пишет для голоса, его поэзию надо слушать.
Противоположности здесь нет. Пластический образ Десноса одновременно очень музыкален.
«И самый трепетный лиризм, и самый сдержанный классицизм», — пишет о Десносе бельгийская исследовательница.
Особенно чуток был Деснос к народным напевам. Так, в полно зарифмованных строфах стихотворения «Четверо безголовых» явственно слышится мотив шуточной народной песни.
Фольклорная традиция — та нить, за которую Деснос охотно держался и в моменты самозабвенной игры ассоциациями. «Новое» и «народное» никогда не были для Десноса противоположными полюсами. Читая даже очень сложные стихи поэта, мы обязательно встретим то сказочный зачин, то песенный рефрен, то историю-легенду. Даже в «автоматических» сборниках («Обжигающая речь», например) специалисты обнаруживают «строки анонимных песен, поговорки, родившиеся еще в средние века, каламбуры в стиле Рютбефа и Вийона... все это составляло часть кипучей работы — сотворения языка...». В лирический монолог героя цикла «Из кремня и огня» изящно вправлена страшная сказка; многие «темные» стихотворения в прозе начинаются: «Однажды жил был...», благодаря чему таинственность происходящего как бы оправдана волшебной ситуацией, где все возможно. Деснос словно корректировал обычную для сюрреализма затемненность текста обращением к ситуациям легенд и преданий. Ирреальность обретала совсем иное качество.
В стиле народной сказки написано и одно из лучших лирических стихотворений Р. Десноса «Сказка о фее», где зачинами выбраны типично сказочные обороты: il était une fois, il était un grand nombre de fois:
Множество раз на земле Он страстно всем сердцем любил,
Множество раз на земле И она всем сердцем любила.
Множество раз на земле И тот, кто любил,
И та, что любила,
На любовь не встречали ответа.
Один только раз на земле,
Быть может, всего только раз Он и она
Полюбили друг друга.
Перевод М. Кудинова
Народная традиция помогла Десносу и в последние годы творчества, когда Францию оккупировала армия вермахта и французская поэзия ушла в подполье. Десносу удалось подготовить для легальных изданий сборники «Достояния» (Fortunes, 1942), объединивший довоенные циклы, «Накануне» (Etat de veille, 1943) и «Страна» (Contrée, 1944), где разговорные «стихи-сообщения» соседствуют порой с фантасмагорическими зарисовками, которые были пропущены цензурой из-за бьющей в глаза абсурдности. Вместе с тем в них значим аллегорический подтекст. Так, например, «Куплет мясника» можно по внешнему рисунку соотнести с сюрреалистической картиной, где детали конкретны, а целое — неправдоподобно. Мясник произносит «любовный» монолог, а действия его страшны и странны: уложить невесту в брюхо только что освежеванной телки, развесив по стенам ножи вместо зеркал... Что это значит? В «Куплете» сквозит, конечно, совсем иная реальность: с такими же обещаниями (омолодить!) — кощунственными и заманчивыми — обращались к Франции идеологи фашизма, притворяясь поклонниками прекрасной Марианны и «сторожа невесту, как палач эшафот» («Куплет мясника»).
Время оккупации Деснос провел в Париже, в квартирке на улице Мазарин, часто встречаясь с П. Элюаром и Пикассо, помогая работе «Полночного издательства». Деснос был членом подпольной группы «Действовать» и сотрудником легальной газеты «Ожурдюи» («Сегодня»).
Самые резкие антифашистские тексты, естественно, были оставлены Десносом для подпольных изданий, печатались под псевдонимами. Среди них — «Портрет» маршала Дюконо-Петэна (соп — ругательство), сатирические куплеты в стиле озорной и беспощадной «Карманьолы», сочно зарифмованные, щедро вводящие игру слов. В одном из куплетов есть вполне сюрреалистская по внешности строка:
Если галстук его будет белым, сделаем из него веревку.
Но здесь такая «предпосылка» читается с обратным знаком: какого бы цвета ни был галстук, он сгодится на веревку. «Абсурдное» условие пророчит врагу капитуляцию без всяких условий.
Деснос сформулировал в канун смерти задачу, которую интуитивно пытался осуществить и раньше, — слить народный, самый общедоступный язык с атмосферой невыразимого, с ослепительной «образностью». Так сплеталась не только в практике, но в поэтической теории Робера Десноса древняя, фольклорная традиция с мечтой о дерзком новаторстве. Ему кажется «слишком окультуренной» почва современной поэзии: ее надо оживить просторечьем, захватывая области, до сей поры не тронутые «благородным языком».
Поиск фольклорного начала поэтом, который уже легко оперировал новейшими приемами стиховой инструментовки, сам по себе знаменателен. Во французской поэзии XX в. так болезненно ощущалась тенденция экспериментаторства, рвущего со всякой традицией и убивающего вообще художественное слово, что истинные новаторы в определенный момент неизбежно вставали перед внутренней необходимостью защитить первоосновы искусства, право на образное познание мира. В этих условиях обращение к фольклорной традиции — т. е. самой давней и самой забытой — иногда было более естественным, чем, например, к поэтической традиции XIX в. Фольклорный образ сам мог стать неожиданным, «ошеломляющим» в структуре новейших ассоциаций. Сближению новой поэзии с фольклором помогала также эволюция ритмики. Теоретики верлибра установили: чем более раскован и свободен стих, тем чаще поэт прибегает к риторическим фигурам повторов, к системе ассонансов и т. п., оберегая ряды стихотворных строк от превращения в прозаический текст. Но ассонанс и повтор — характерные приметы народной песни. Поэтому сквозь ткань вполне современного верлибра начинает проглядывать канва народного напевного сказа — закономерность, которую еще предстоит осмыслить и обобщить исследователям поэзии XX в.
Советуя вернуться к родникам народной речи, Деснос начинает анализировать некоторые болезни поэзии, до сих пор кажущиеся иным критикам ее бесспорным достоинством. Насмешка над поэтической «архитектурой, тяготеющей к грандиозности», над «словесным туманом» ведет поэта к спору вообще с принципами «темного» письма; он отчетливо выражает желание творить «не поэзию, а стихи». В этом полемически резком противопоставлении — неприятие аморфного текста без целостной авторской мысли, неких «случайных фрагментов». Он призывает обратиться к «общим местам и как будто избитым темам», не страшась «духа морализаторства». Мысль Десноса кажется слишком прямолинейной. Термин «общее место» встречается в его статьях много раз, — очевидно, шокируя утонченных ценителей поэзии. Поэзия и «общее место»? В предисловии к альбому рисунков венгерского художника Тихани Деснос пояснял свое упорство: «общее — то, в чем люди похожи, значит, главное». Деснос и здесь заставляет слово звучать свежо, необычно, требуя внимания к вкусам тех, кто пока далек от искусства. Поэт даже запальчиво призывает «освободиться от Малларме, Рембо, Лотреамона», поясняя, что эти имена стали своеобразным эталоном новаторства, в то время как новаторство разнолико и гораздо естественнее проявляет себя в «разговорном лирическом языке», нежели в «темных» фрагментах, рожденных подсознанием.
Требуя простоты и общедоступности поэтической речи, Деснос одновременно подтверждал свой вкус к поискам «многослойного» поэтического смысла: рядом с именами Вийона и Нерваля появляется имя Гонгоры. Все эти поэты, говорил Деснос, умели прорезать «общие места и как будто избитые темы» лучами метафор, проясняющих чувство, обнажающих боль, «превращающих «общее место» в общую судьбу». Хотя в «Размышлениях о поэзии», опубликованных в посмертном сборнике «Всеобщее достояние» (Domaine public, 1953), мы не встретим имени Гюго, отношение Десноса к этой традиции существенно. Уже будучи известным поэтом, Деснос сказал: «Никогда позднее мне не довелось испытать такого поэтического волнения, как при чтении „Легенд веков...“». В подпольной книге «Честь поэтов» появилось под псевдонимом Люсьен Галуа стихотворение Десноса «Завещание». «Папаша Гюго, твое имя снова на стенах...», — написал Деснос, запечатлев момент возрождения интереса к тираноборческим ораторским стихам своего великого предшественника.
Да, человек ушел. Но через нотариуса передал волю свою, свое завещание:
Тот нотариус — Франция. А завещана нам — Свобода.
Язык дерзких ассоциаций не был забыт Десносом, заклеймившим «словесный туман». Напротив, условия полулегальных публикаций требовали подтекста. Вполне вероятно, что опыт сюрреализма тут Десносу пригодился. Он легко «темнил», «зашифровывал» образы, чтобы облегчить им путь в подцензурную печать. В классически ясной поэме «Каллисто», воссоздавшей, казалось бы, только легенду о юной нимфе, родившей Зевсу сына, встречаем «треножник судьбы», под которым пляшет огонь, и «молот на наковальне, что ждет кузнеца». Кто-то неведомый выткал для Каллисто «платье вседозволенности», «холодное, как север», «раскаленное, как смерть», «звенящее, как кандалы» — платье, которое должен снять с нее влюбленный рыцарь. Аллегория была очень точной, а необычное сочетание «robe de permission» — «платье вседозволенности» — родилось из совмещения двух планов — реального и аллегорического. На страницах другого легального сборника — «Страна» — умирает поверженный гигант, «вздумавший диктовать свою волю эпохам, ветрам, ночам и дням» («Дорога»); собирается ударить ввысь таинственный «фонтан на площади Парижа — такой светлый, что по сравнению с ним мутны и горные ручьи, и кровь пречистой девы», — от этого фонтана возьмет начало «самый прекрасный приток Сены» («Пророчество»). Даже в прямом обращении к читателю лирического героя «Куплетов улицы Сен-Мартен» скрыта строчка, хранящая дерзкий намек: перечисляя улицы и имена мучеников христианского календаря (Сен-Мартен, Сен-Мерри, Сен-Жак, Сен-Жервэ), Деснос вспоминает и святого Валерьена. «Валерьен, скрывшийся на холме». Форт на холме Валерьен... В декабре
Как аллегория читается и стихотворение «Пейзаж». Многие исследователи видят здесь лишь симптом тоски, охватившей стареющего человека, и тогда некоторые словосочетания предстают по-сюрреалистически странноватыми.
Но в «Пейзаже» есть смысловые опоры, позволяющие открыть и второй план картины. Увядший букет из сирени и роз (прямая отсылка к знаменитому стихотворению Арагона «Сирень и розы», где увядающая сирень — знак горестной капитуляции), «бульвары без имени», т. е. переименованные оккупантом, насильственно изуродованный городской пейзаж и порождают то состояние духа, которое здесь обозначено трагедийно — «стареть».
A vieillir tout devient rigide et lumineux,
Des boulevards sans noms et des cordes sans noeuds.
Je me sens me roidir avec le paysage.
Когда стареешь, все застывает, но становится ясным.
Бульвары без имени, веревки без узлов,
Я застываю вместе с пейзажем.
Многими исследователями справедливо замечено, что поэтика Десноса, подчиняясь движению французского стиха военных лет, обнаруживает тяготение к классической строгости и простоте. Примером обычно служат «Куплеты улицы Сен-Мартен», напрямик сообщавшие о горе, постигшем поэта:
Улица Сен-Мартен у меня была,
Улица Сен-Мартен мне теперь не мила,
Улица Сен-Мартен даже днем темна,
Не хочу от нее и глотка вина.
У меня был друг Платар Андре,
Платара Андре увезли на заре.
Крышу и хлеб мы делили года.
Увезли на заре, кто знает куда.
Улица Сен-Мартен, много крыш и стен.
Но Платар Андре не на Сен-Мартен...
Перевод И. Эренбурга
Черты «классической простоты» здесь — и нарочитая антиметафоричность, и настойчивая рифмовка (из 18 строк 15 зарифмованы на е, две оканчиваются словом quittée, и только colline, т. е. как раз та строка, которая вызывает ассоциацию с тюрьмой на горе Валерьен, не имеет созвучия), и строгая силлабика (при чередовании 7-8-сложных и 10-12-сложных строк), и частотность ударений, организованная подбором коротких (в основном, односложных) лексических единиц. Но констатировать только отказ от усложненности — значило бы выпрямить эволюцию Робера Десноса. Если вычерчивать линию «от сложного к простому», будет абсолютно непонятно, почему, например, после сурово описанных буден «Людей» поэт создал стихотворение «О себе», утверждая идею борьбы языком сложной символики. Будет непонятно соседство в поэмах военных лет стихотворных «сообщений» с миниатюрами- аллегориями. По законам «эстетики понимания» особую содержательную емкость приобрели и отказ от метафоры, и плотная метафорическая ткань стиха.
Такая же закономерность просматривается в движении десносовской ритмики. Выше говорилось, что Деснос вообще охотно менял звуковые модели, свободно переходя от александрийского стиха к песенному рефрену, от классической силлабики к верлибру. Не изменил он этой свободе и в годы Сопротивления. Но обусловленность выбора той или иной формы теперь гораздо заметнее, ярче. Звучание поистине содержательно. Гармонично певучий стих появляется, как правило, по мере подъема оптимистических интонаций.
В этой перспективе интересно обратить внимание на «Город», «Купание Андромеды», «Голос».
Тесно связан с содержанием образного строя ритмический рисунок и такого стихотворения, как «Жатва». Здесь благодаря причудливому сцеплению звуков (в восьми строчках четыре раза повторено слово incroyable, столько же слово croire при сочетании их с mémoire, hors, corps, encore) все лексические единицы как бы взаимопроникают.
От первого слова к последнему разматывается единая нить мысли, которую невозможно остановить:
Incroyable est de se croire Vivant réel, existant,
Incroyable est de se croire Mort, feu, défunt, hors de temps,
Incroyable est de se croire Et plus incroyable encore De se croire pour mémoire Un rêve, une âme sans corps.
Невозможно представить себя Полным сил, реальным, живым.
Невозможно представить себя Вдруг исчезнувшим, словно дым.
Невозможно поверить, что ты Не сумеешь смерть побороть,
Станешь прахом, тенью мечты И душой, покинувшей плоть.
Перевод М. Кудинова
Возникает как бы ирреальная атмосфера, в которой живет подпольщик: каждый миг его подстерегает смерть; ему открыты три равные вероятности — выжить вопреки опасности; умереть и исчезнуть; умереть и войти в легенду. Для этого философского размышления, переданного через психологическое состояние «невозможности поверить», Десносом избрана, кажется, единственно соответствующая ему форма. Такая степень адекватности поэтической мысли звуковому движению стиха и сделала это стихотворение Десноса антологически завершенным.
К наиболее известным произведениям Десноса военной поры принадлежит «Страж на Понт-о-Шанж», опубликованный под псевдонимом Валентин Гийуа во втором выпуске «Честь поэтов» — книге «Европа».
Это свободный монолог человека, окидывающего взглядом земной шар в сражении с фашизмом.
В наследии Десноса есть соответствие «Стражу», это — «Голос Робера Десноса» (1926) из цикла «Сумерки». Поэт звал к себе тогда:
дым вулканов и дымок сигарет, кольца дыма роскошных сигар, зову любовь и влюбленных, зову живых и мертвых, зову убийц, зову палачей, зову землекопов, пилотов, каменщиков и архитекторов. Все послушно откликались на его призыв и только та, которую люблю, не слушает, та, которую люблю, не слышит, та, которую люблю, не отвечает.
Затем, во время войны, для легального сборника «Страна» было написано стихотворение «Голос» — призыв прислушаться к голосу истории, предвещающему победу.
Одновременно для подпольной публикации Деснос предназначал стихотворение «Страж на Понт-о-Шанж». Пророческий голос истории здесь — голоса антифашистов, несущих вахту жизни на берегах Сены и Темзы, под Сталинградом и под Белградом, в Норвегии и Дании, Греции и Бельгии...
Голос летит к братьям по оружию в этой темной нацистской ночи, где даже «поезда мчат по рельсам песен протеста» (roulent vers l’est avec un sillage de chant de révolte) . Каждая строка звучит гулко, замедленно — как эхо в ночной тишине:
Я сторож ночной, охраняющий улицу Фландр.
Когда Париж погружается в сон, я не сплю.
Я сторож ночной, охраняющий Понт-о-Шанж.
На пороге грядущего дня я приветствую вас.
Перевод М. Кудинова
Замедленному течению торжественного стиха соответствует суровый лексический рисунок. Грамматические конструкции состоят преимущественно из глаголов и существительных, заключенных в перечислительные ряды.
Одна из тем «Стража» — важная для Десноса и вообще для поэзии Сопротивления — была развита в стихотворении «Сердце, ненавидящее войну».
В «Страже» воинственный клич «разрывает губы, истосковавшиеся по поцелуям». Этот контраст стал предметом особой поэтической миниатюры, написанной в ритмах «Стража».
Сердце, ненавидящее войну, вот оно бьется ради битвы и сражения.
Сердце, бившееся только в ритме приливов,
Времен года, часов дня и ночи,
Вот оно наполняется и посылает в вены
кровь, обжигающую порохом и ненавистью.
Поэт слышит биение сердец — «миллионов сердец стучащих, как мое, по всей Франции». Другие сердца, ненавидящие войну, тоже рвутся к сражению; сердца макизаров,
сердца, ненавидящие войну,
бились за свободу именно в ритме времен года и приливов дня и ночи.
Роберу Десносу не суждено было увидеть, как сбылись его оптимистические пророчества, как взвился над Парижем трехцветный стяг, как вернулись к любимым пленники концентрационных лагерей. Он был схвачен гестаповцами. «Мы все вместе с ним вошли в тюремную камеру», — выразил боль утраты Витезслав Незвал. Истерзанный голодом и тифом Деснос умер 8 июня
Я сторож, ночной, охраняющий Понт-о-Шанж,
Но я грозовой этой ночью не только Париж охраняю.
[…]
Произведения
Критика
Л-ра: Балашова Т. В. Французская поэзия ХХ века. – Москва, 1982. – С. 97-120.