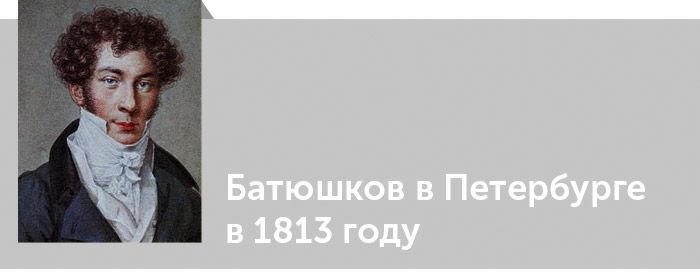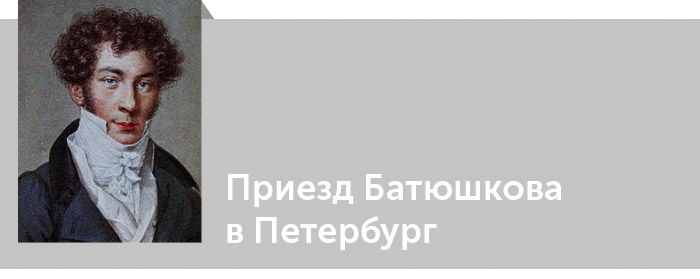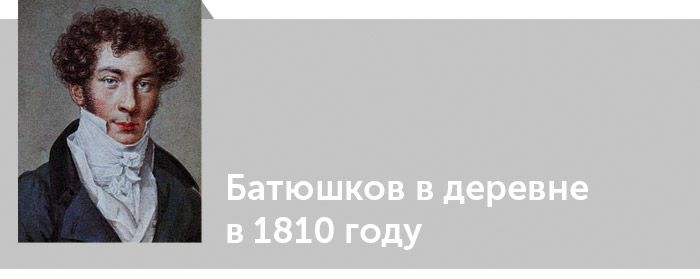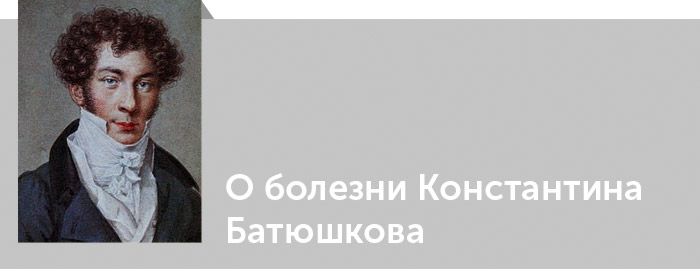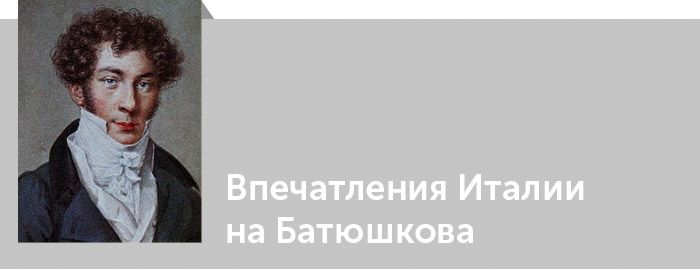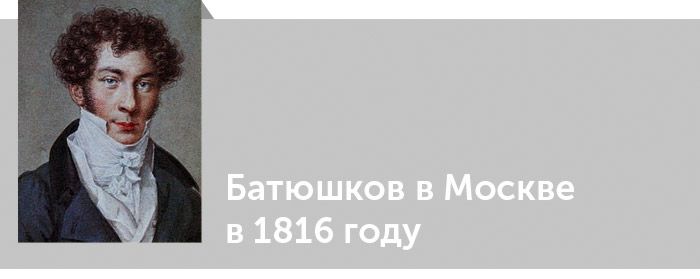Батюшков, его жизнь и сочинения. Батюшков в Петербурге осенью 1817 года
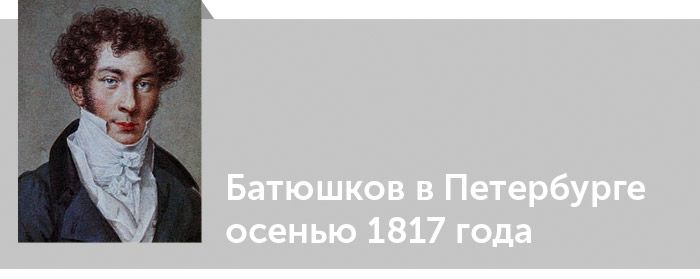
Глава XI
Батюшков в Петербурге осенью 1817 года. - Арзамас. - Появление "Опытов". - Отношения Батюшкова к А.С. Пушкину. - Смерть отца. - Хлопоты о поступлении на дипломатическую службу. - Поездка Батюшкова на юг России. Впечатления Одессы и Ольвии. - Назначение в Неаполь. - Настроение поэта. - Батюшков в Москве. - Возвращение его в Петербург. - Отъезд Батюшкова за границу
"Опыты в стихах и прозе", то есть предпринятое Гнедичем издание Сочинений Батюшкова, должны были окончиться печатанием к осени 1817 года. К этому времени и сам автор положил приехать в северную столицу. Петербург стал неприятен Константину Николаевичу с тех пор, как он испытал там целый ряд самых едких огорчений; он мог затушить в себе страсть по самому лучшему побуждению, но в Петербурге могли быть люди, которые иначе смотрели на его поступок; в особенности тревожило Батюшкова охлаждение со стороны Олениных, пред которыми он не признавал себя виноватым, и потому он с недоумением спрашивал Гнедича: за что они на него в гневе? {Соч, т. III, с. 393, 417.} Летом 1817 года Константин Николаевич задумал было совершить поездку на юг России, чтобы полечиться; он уже приехал с этою целью из деревни в Москву, но здесь его задержали хлопоты по закладу именья, и давно желанное путешествие было отложено. Зато в Москве получил он наконец любезное письмо от старика Оленина, который звал его в Петербург {Там же, с. 444, 445.}. Обрадованный и успокоенный этою вестью, Константин Николаевич решился воспользоваться приглашением при первой возможности: она представилась в ближайшем августе.
Батюшков нашел в Петербурге большую часть близких ему людей: Е.Ф. Муравьева пожелала, чтоб он поселился у нее {Там же, с. 464.}; Карамзины, переехавшие за год перед тем в Петербург и жившие в ее доме, и Оленины встретили Константина Николаевича с прежнею лаской и вниманием; Алексей Николаевич даже зачислил его снова на службу при Библиотеке, с званием почетного библиотекаря {Архив Императорской Публичной Библиотеки дело о службе в ней Батюшкова; назначение его почетным библиотекарем состоялось в ноябре 1817 года.}. Более молодые приятели - Жуковский, Тургеневы, Блудов, Уваров, Дашков - с радостью ввели его в свой кружок, который еще в 1815 году организовался под именем Арзамаса. Еще при самом основании этого дружеского литературного общества Батюшков был включен в его состав под именем Ахилла, но только 27 августа 1817 года он в первый раз присутствовал в заседании Арзамаса, происходившем у А.И. Тургенева {Соч., т. III, с. 465.}.
Арзамас пользуется почетною известностью в преданиях нашего общества и литературы; было даже высказано мнение, что под его влиянием писались в то время стихи лучших наших поэтов, что его влияние отразилось, может быть, на иных страницах "Истории" Карамзина {Литературные воспоминания А. В. (гр. С.С. Уваров). - Современник, 1851, т. XXVII, с. 38; ср. характеристику Арзамаса в сочинении Е.П. Ковалевского "Граф Блудов и его время", 2-е изд., с. 110-116.}. Но чем более накопляется сведений об этом приятельском литературном кружке, тем очевиднее выясняется слабое действие его на умственное движение своего времени. Не подлежит, конечно, сомнению, что члены Арзамаса, и в особенности главные его деятели, были люди очень умные, очень даровитые, прекрасно образованные, с развитым вкусом, с искреннею любовью к словесности и просвещению, с желанием общей пользы; но случайное происхождение этого литературного братства и отсутствие всякой определенной цели при его основании, а затем еще более случайное и бесцельное расширение его состава были коренными причинами незначительной деятельности кружка и его скорого распадения. Говорят, что направление Арзамаса было преимущественно критическое, что "лица, составлявшие его, занимались строгим разбором литературных произведений, применением к языку и словесности отечественной всех источников древней и иностранных литератур, изысканием начал, служащих основанием твердой, самостоятельной теории языка и проч.". Быть может, - но, к сожалению, в нашей литературе не осталось следов совокупной деятельности арзамасцев в этом направлении; они собирались что-то делать, но ничего не сделали сообща; а что сделано некоторыми из них порознь, того нельзя ставить в общую заслугу всему кружку. Попытка предпринять периодическое издание от имени Арзамаса не состоялась, и совещания об этом предприятии всего яснее обнаружили, что во взглядах членов кружка далеко не было единства.
Отношения Батюшкова к Арзамасу очень характерны для нашего поэта. Еще в конце 1815 года, в бытность свою в Каменце, он узнал об основании Арзамасского общества и тогда же выразил готовность прислать "свои маранья в прозе" для издания в сборнике, который, как надеялся Батюшков, будет предпринят арзамасцами. Он вполне сочувствовал литературному направлению их, как последователей Карамзина, и ожидал от них деятельного участия в литературном движении: когда в начале 1816 года Вяземский поехал в Петербург, Батюшков поручил ему уговаривать Жуковского взяться за издание журнала, а несколько месяцев спустя сам писал о том же Василию Андреевичу и предлагал свое сотрудничество {Соч., т. III, с. 358, 359, 382, 404.}. Еще позже, уже в средине 1817 года, после того, как Вяземский сообщил ему свои впечатления из вторичной поездки в северную столицу, Константин Николаевич отвечал ему следующими строками, из которых видно, как ценил он людей, принадлежащих к составу Арзамаса: "Благодарю за известия твои о Петербурге и радуюсь, что ты украл у Фортуны несколько приятных минут и отдохнул с людьми, ибо это, право, - люди: Блудов, столь острый и образованный; Тургенев, у которого доброты достанет на двух, и какого-то аттицизма, весьма приятного и оригинального, человек на десять; Северин, деятельный и дельный в такие нежные лета; Орлов, у которого - редкий случай! - ум забрался в тело, достойное Фидиаса, и Жуковский, исполненный счастливейших качеств ума и сердца, ходячий талант" {Соч., т. III, с. 451; о поездке кн. П.А. Вяземского в Петербург в мае 1817 г. см. в Письмах Карамзина к Дмитриеву, с. 214.}. Но время шло, а арзамасцы все только собирались приняться за дело. Сборник, задуманный ими в начале 1816 года под заглавием "Отрывки, найденные в Арзамасе", не состоялся {В бумагах Жуковского, хранящихся в Имп. Публ. Библиотеке, находится написанный Д.Н. Блудовым перечень произведений в стихах и прозе, предназначенных для помещения в этом сборнике; под перечнем находятся подписи следующих членов Арзамаса: Громобоя (С.П. Жихарева), Армянина (Д.В. Давыдова), Вот я вас! Опять! (В.Л. Пушкина), Светланы (В.А. Жуковского), Статного Лебедя(?), Асмодея (кн. П.А. Вяземского) и Кассандры (Д.Н. Блудова). Присутствие В.Л. Пушкина и кн. Вяземского в заседании Арзамаса, где составлен этот перечень, указывает на время его составления: оба они приезжали в Петербург в начале 1816 года (Соч. Батюшкова, т. II, с. 518).}. Печатание "Опытов" Батюшкова уже было начато в Петербурге, когда он, живя в деревне, получил наконец от Жуковского приглашение принять участие в издании, затеянном им и другими арзамасцами. Не имея у себя в запасе ничего готового, Константин Николаевич принужден был отвечать, что в настоящую минуту "ничего не может уделить из своего сокровища", но, разумеется, обещал прислать стихов, если "что впредь будет" {Соч., т. III, с. 427.}. В первой половине 1817 года Жуковский вновь составил план арзамасского сборника или альманаха; он должен был выйти в виде двух книжек: в одной предполагалось поместить оригинальные статьи в прозе и стихи, написанные некоторыми из арзамасцев; другая должна была заключать в себе переводы из немецких писателей. В числе сотрудников имелся в виду и Константин Николаевич {Соч. Жуковского, 7-е изд., т. VI, с. 439-443.}. План этого издания, о котором он узнал из письма Вяземского, не понравился ему, как не полюбился и его корреспонденту. Увлеченный в то время итальянскими поэтами и их красотами "истинно классическими", Батюшков остался недоволен тем предпочтением, которое в предполагаемом сборнике было дано германской литературе. "Я согласен с тобою насчет Жуковского, - писал он Вяземскому. - К чему переводы немецкие? Добро - философов. Но их-то у нас читать и не будут. Что касается до литературы их, собственно литературы, то я начинаю презирать ее. (Не сказывай этого!) У них все каряченье и судороги! Право, хорошего не много!" {Соч., т. III, с. 427.} О немецких симпатиях Жуковского и об его исключительных почитателях между арзамасцами еще резче высказывался Батюшков в письме к Гнедичу по поводу выраженного последним в печати строгого осуждения балладам: "Твое замечание справедливо: баллады (Жуковского) прелестны, но балладами не должен себя ограничивать талант редкий в Европе. Хвалы и друзья неумеренные заводят в лес, во тьму. Каждого арзамасца порознь люблю, но все они вкупе, как и все общества, бредят, корячатся и вредят" {Там же, с. 416; относительно мнения Гнедича о балладах см. в примечаниях к т. III Соч. Батюшкова, с. 728, 729.}. Таким образом, сохраняя самое дружеское расположение и уважение к членам Арзамасского кружка, Батюшков не поступался перед ними независимостью своих литературных мнений и не скрывал, что ожидает от них более широкой и серьезной деятельности, чем сколько они обнаружили до сих пор. Осуждая план альманаха, задуманного Жуковским, он говорил Вяземскому еще следующее: "Не лучше ли посвятить лучшие годы жизни чему-нибудь полезному, то есть таланту, чудесному таланту, или, как ты говоришь, писать журнал полезный, приятный, философский? Правда, для этого надобно ему (Жуковскому) переродиться. У него голова вовсе не деятельная. Он все в воображении. А для журнала такого, как ты предполагаешь, нужен спокойный дух Адиссона, его взор, его опытность и, скажу более, нужна вся Англия, то есть земля философии практической, а в нашей благословенной России можно только упиваться вином и воображением: по крайней мере, до сих пор так" {Соч., т. III, с. 428.}.
Таковы были отношения Батюшкова к Арзамасу до его приезда в Петербург в августе 1817 года. Хотя и не все в жизни этого кружка вполне удовлетворяло нашего поэта, тем не менее встреча с арзамасцами доставила ему большое удовольствие. Особенно рад он был видеть Жуковского, старого друга, который стал ему еще дороже с тех пор, как проявил свое горячее и бескорыстное участие в дни упадка духа в нашем поэте. Еще из деревни, летом 1817 года, Константин Николаевич писал ему: "Мы с тобою так давно не видались. С тех пор мы так состарились, что наше свидание - в сторону радость! - право, интересно. И на автора Жуковского хотелось бы взглянуть, и на этого доброго приятеля, которому я обязан лучшими вечерами в жизни моей! Автора я тотчас в сторону, а выложи мне Василья, которого я всегда любил. Я - все тот же: меня ничто не баловало. Посмотрю на тебя! Во всех отношениях свидание с тобою - для меня урок и радость" {Там же, с. 448.}. И эту радость Батюшков испытал тотчас по приезде; письма его к Вяземскому из Петербурга заключают несколько сочувственных отзывов об общем друге: "Он очень мил... Он пишет и, кажется, писать будет: я его электризую как можно более и разъярю на поэму. Он мне читал много нового - для меня, по крайней мере. Я услаждаюсь им. Крайне сожалею, что тебя нет с нами".
Самые собрания Арзамаса произвели на Батюшкова очень приятное впечатление. Он не мог не видеть, что при всей несерьезности этих сходок они содействовали скреплению дружеских и литературных связей между людьми, несомненно даровитыми и истинно просвещенными. "В Арзамасе весело", - писал он Вяземскому. Но в то же время Константина Николаевича не покидала мысль, что арзамасцам грешно ограничиваться одним веселым препровождением времени, а следует непременно приняться за общеполезное дело; оттого-то он и жаловался в письме к своему московскому корреспонденту: "Говорят: станем трудиться, и никто ничего не делает" {Соч., т. III, с. 466.}. В числе арзамасских документов, сохранившихся в бумагах Жуковского {В Имп. Публ. Библиотеке.}, есть один, указывающий, что Батюшков внес на обсуждение Арзамаса какое-то свое "предложение"; содержание этого предложения остается неизвестным; но, судя по тому, что в исходе 1817 года в Арзамасском кружке пошли усиленные толки об основании журнала, можно догадываться, что предложение Батюшкова относилось к этому предприятию или по крайней мере стояло в связи с ним. Из тех же документов можно заключить, что журнал предполагался с широкою программой: имелось в виду помещать в нем не только произведения чисто литературные, но и статьи касательно современной политики; сотрудничать по этому отделу вызывались Н.И. Тургенев и М.Ф. Орлов, особенно сильно убеждавший других арзамасцев "оставить свои ребяческие забавы и обратиться к предметам серьезным и высоким"1. Мы уже видели, что такого журнала требовал от Арзамаса и князь Вяземский и что Батюшков сочувствовал этой мысли. Наш поэт обещал, со своей стороны, доставить для арзамасского журнала очерки из области итальянской литературы, которою много занимался в последнее время, именно этюды о Данте и Альфиери. Для того же журнала была предназначена статья "О греческой Антологии", написанная одним из самых образованных арзамасцев, С.С. Уваровым, и украшенная превосходными переводами Батюшкова. Но периодическое издание от лица Арзамаса не состоялось, и только статья об Антологии была напечатана отдельною брошюрой, и то три года спустя.
В октябре 1817 года наконец вышли в свет "Опыты в стихах и прозе" Батюшкова. Печатание "Опытов" продолжалось почти год, и если среди приготовления их к изданию поэт переживал счастливые часы творческого вдохновения, то вместе с тем испытывал тревожные сомнения в успехе. "Чувствую, вижу, но не смею сказать, как страшно печатать! - писал Батюшков Гнедичу в марте 1817 года. - Это или воскресит меня, или убьет вовсе мою охоту писать. Я не боюсь критики, но боюсь несправедливости, признаюсь тебе, даже боюсь холодного презрения. Ты знаешь меня, бегал ли я за похвалами? Но знаешь меня: люблю славу. И теперь, полуразрушенный, дал бы всю жизнь мою с тем, чтобы написать что-нибудь путное! Впрочем, неужели мне суждено быть неудачливым во всем?" {Соч., т. III, с. 424, 425.} Мучительная пытка для самолюбия Батюшкова росла все сильнее по мере того, как печатание "Опытов" близилось к концу. В июне 1817 года Константин Николаевич с непритворным смущением писал Жуковскому: "Что скажешь о моей прозе? С ужасом делаю этот вопрос. Зачем я вздумал это печатать? Чувствую, знаю, что много дряни: самые стихи, которые мне стоили столько, меня мучат. Но могло ли быть лучше? Какую жизнь я вел для стихов? Три войны, все на коне, и в мире на большой дороге. Спрашиваю себя: в такой бурной, непостоянной жизни можно ли написать что-нибудь совершенное? Совесть отвечает: нет! Так зачем же печатать? Беда, конечно, невелика: побранят и забудут. Но эта мысль для меня убийственна, убийственна, ибо я люблю славу и желал бы заслужить ее, вырвать из рук Фортуны не великую славу, нет, а ту маленькую, которую доставляют нам и безделки, когда они совершенны. Если Бог позволит предпринять другое издание, то я все переправлю; может быть, напишу что-нибудь новое..." {Соч., т. III, с. 447, 448.} Эти сомнения и колебания, эти мучительные переходы от гордого сознания своих творческих сил к самобичеванию и к наивному оправданию своих ошибок свойственны вообще художническим натурам; но тягость их для Батюшкова особенно усиливалась тем, с одной стороны, что он вообще не обладал спокойною энергией характера, а с другой - трудностью самой задачи, которую он преследовал в искусстве: не должно забывать, что он был одним из начинателей в области русской художественной поэзии, что для интимной лирики он почти не имел русских образцов и что вкус русских читателей еще не был воспитан для понимания созданий свободного творчества. Опасения Батюшкова пройти незамеченным и неоцененным, очевидно, имели свои основания и до некоторой степени оправдывались тем приемом, который встречали до сих пор его произведения, по крайней мере среди литераторов старой школы. Перед самым выходом "Опытов" в некоторых петербургских журналах появились о них хвалебные извещения; эти "необычайные" и действительно бессодержательные похвалы также в свою очередь смутили Батюшкова {Там же, с. 459. Статья, вызвавшая смущение Батюшкова, была написана В.И. Козловым и помещена в "Русском Инвалиде" 1817 г., No 156.}.
Но когда сочинения его уже поступили в общее обращение, в издававшейся в Петербурге французской газете "Le Conservateur impartial" {1817 г., No 83.} была напечатана статья об "опытах", котороя могла более удволетворить нашего поэта. Она действительно довольно метко определяет характер и направление его творчества и, проводя параллель между ним и Жуковским, ставит их наравне, хотя указывает на полное различие их дарований. Батюшков, конечно, знал, что автор этой неподписанной статьи - Уваров, и тем более должен был придавать цены его суждению, что еще в начале 1817 года, посылая Гнедичу рукопись своего "Умирающего Тасса", просил его прочесть эту элегию именно Уварову и желал знать впечатление этой пьесы "на ум столь образованный" {Соч., т. III, с. 439.}. Уваров нашел, что это лучшее произведение нашего поэта. Как бы в предчувствии этих заслуженных похвал Батюшков украсил экземпляр "Опытов", подаренный им Сергею Семеновичу, своим известным посланием к нему. {Там же, т. I, с. 277, 278.} Со своей стороны Уваров, вызывая потом Батюшкова на переводы из греческой антологии, тем самым подтвердил еще раз, что верно понял его творческую способность постигать и художественно воспроизводить черты античного миросозерцания. Статья Уварова была, однако, единственным печатным отзывом о сочинениях Константина Николаевича, где критик оказался на высоте понимания своего предмета. Предчувствие Батюшкова как бы оправдывалось: его произведения нашли себе отдельных ценителей, но не произвели сильного впечатления на большинство читателей; они имели успех почетный, но не увлекли толпы {Общественное внимание к Бютюшкову как писателю выразилось только избранием его в апреле 1818 года в почетные члены Вольного Общества любителей российской словесности (см. "Соревнователь просвещения и благотворения" 1819 г., No 7, с. 120 и 1823 г., No 12, с. 306). С весны 1817 года он уже состоял членом Казанского Общества любителей словесности (Соч., т. II, с. 367 и т. III, с. 461). Небольшие отзывы об "Опытах" Батюшкова, хвалебные, но бессодержательные, появились в "Сыне Отечества" 1817 г., ч. 39, No 27 и ч. 41, No 41 (статьи А.Е. Измайлова) и 1818 г., ч. 43, No 1, с. 11-12 (статья Н.И. Греча); в "Русском Вестнике" 1817 г., No 15 и 16, с. 97-100 (статья С.Н. Глинки). В "Вестнике Европы" 1817 г., ч. 96, No 23 и 24, с. 204 - 208 представлен был сокращенный перевод статьи Уварова из Conservateur Impartial. В доказательство тому, что произведения Бютюшкова были оценены по достоинству далеко не всеми даже в литературных кругах его времени, можно указать на суждения А.А. Бестужева и А.Ф. Воейкова. О мнении первого, высказанном в частном письме, мы знаем, впрочем, только по возражениям на него А.С. Пушкина (Соч., 8-е изд., т. VII, с. 169). Что же касается А.Ф. Воейкова, то в печати, в отрывках из дидактической поэмы "Искусства и науки" ("Сын Отечества" 1820 г., ч. 61, No 37, с. 191), он превозносил Батюшкова напыщенными восхвалениями, а в частных отзывах значительно умерял эти панегирики; вот, например, как он проводит параллель между нашим поэтом и Жуковским в письмах к Н.А. Маркевичу: "Неужели вы не для шутки сравниваете Жуковского с Батюшковым? Последний - очень приятный писатель, исправнее в слоге, осторожнее, ровнее, но далеко от Жуковского - сильного, смелого, огненного, которого стихи сладки как музыка и исполнены чувств небесных" ("Москвитянин", 1853 г., No 12, с. 13). Мысль, что поэзия Батюшкова гораздо беднее содержанием, чем поэзия Жуковского, была впоследствии высказываема не только Н.А. Полевым, но и Белинским (Соч., т. VI, с. 49). Мы уже привели выше верные замечания П.А. Плетнева о заслугах Батюшкова в обработке русского стиха.}.
В числе многих горячих поклонников Батюшкова оказался, однако, тот гениальный юноша, чье имя вскоре должно было стать дорогим всякому грамотному русскому человеку. Еще с 1814 года на страницах сперва московских, а потом и петербургских журналов стали появляться, под сокращенную или цифровою подписью, первые юношеские опыты лицеиста Александра Пушкина. В этих стихотворениях Батюшков мог нередко узнавать подражение себе; одна же из пьес Пушкина, напечатанная в "Российском Музеуме" 1815 года, а написанная, несомненно, в предшествующем {Послание это появилось в январской книжке "Российского Музеума" за 1815 г., под заглавием: "К Б-ву" и с подписью: 1... 14-16.}, когда ее автору было всего пятнадцать лет, представляла собой послание к Константину Николаевичу. Автор послания обращался к нашему поэту с вопросом, почему умолк "философ резвый", "радости певец", и вызывает его обратиться к прежним предметам его вдохновения - веселой любви и наслаждению, или воспевать вместе с Жуковским "кровавую брань", или, наконец, вооружиться "сатиры жалом" против бессмысленных поэтов". Весьма возможно, что это стихотворение послужило поводом к личному знакомству Батюшкова с молодым автором, сыном и племянником лиц ему давно известных. Во всяком случае, несомненно, что встреча эта состоялась не позже, как в начале 1815 года {27 марта 1816 года А.С. Пушкин писал князю Вяземскому: "Обнимите Батюшкова за того больного, у которого, год тому назад, завоевал он Бову-королевича" (Соч. А.С. Пушкина, 8-е ИЗД., т. VII, с. 3). Год тому назад - значит в начале 1815 года, Батюшков оставил Петербург в феврале этого года (Соч., т. III, с. 309, 310).}. Батюшков, который в это время уже решил изменить эпикурейское направление своей поэзии и настаивал на том, чтобы Жуковский занялся поэмой о Владимире Святом, подал и юноше Пушкину совет посвятить свой талант важной эпопее. Свидетельство о том сохранил нам сам Пушкин во втором своем послании к Батюшкову, относящемся к 1815 году:
А ты, певец забавы
И друг пермесских дев,
Ты хочешь, чтобы славы
Стезею полетев,
Простясь с Анакреоном,
Спешил я за Мароном
И пел при звуках лир
Войны кровавый пир.
Но молодой поэт с тою искренностью, которая всегда отличала его чудное дарование, отклонил данный совет и отвечал:
Дано мне мало Фебом:
Охота - скудный дар;
Пою под чуждым небом,
Вдали домашних лар,
И с дерзостным Икаром
Страшась летать, недаром
Бреду своим путем:
"Будь всякий при своем"1
1 Соч. Пушкина, 8-е изд., т. I, с. 81, 85.
Последним стихом этого
послания, взятым у Жуковского2
{2 Из послания его к Батюшкову, 1872 г. (Соч. Жуковского, т. I, 2-е изд., с. 229):
Будь каждый при своем!
Слова Зевса в рассказе, который поэт вводит в свое послание о разделе земли между людьми, причем в удел поэту досталась только область фантазии.}
По приезде в Петербург в 1817 году Константин Николаевич увидел Пушкина уже восемнадцатилетним молодым человеком, окончившим курс лицея и принятым в состав Арзамаса наряду со своим дядей, арзамасским старостой1. "Маленький Пушкин" становился уже заметною величиной среди наиболее просвещенных деятелей словесности и ценителей искусства. В лице его новое литературное поколение, возросшее под впечатлениями великой борьбы с Наполеоном, среди могучего пробуждения народного духа, блестящим образом выступало на общественное поприще, и выступало прежде, чем его ближайшие предшественники успели занять бесспорно первенствующее положение в современной литературе. Самолюбивый Батюшков должен был почувствовать, что на его глазах нарождаются новые художественные силы, призванные сменить без труда или увлечь в свое течение те дарования, которые считали себя непосредственными учениками Карамзина и продолжателями его трудного дела в создании русского литературного языка и художественной словесности. Понятно поэтому, что некоторый оттенок соревнования обнаружился в отношениях нашего поэта к тому светлому гению, который появился на горизонте русской словесности и, в сознании своих творческих сил, бодро пролагал себе новый путь, хотя и признавал еще себя учеником Батюшкова. На такой характер отношений последнего к Пушкину намекают некоторые уцелевшие о них предания. Таков, например, следующий случай, сохраненный воспоминаниями Н.А. Полевого: "Пушкин рассказывал о себе, что он раз как-то, в начале своего поэтического поприща, представил Батюшкову стихи одного молодого человека, который, по его тогдашнему мнению, оказывал удивительное дарование. Батюшков прочитал пьесу и, равнодушно возвращая ее Пушкину, сказал, что не находит в ней ничего особенного. Это изумило Пушкина: он старался защитить своего молодого приятеля и стал превозносить необычайную гладкость стиха его. "Да кто теперь не пишет гладких стихов!" - возразил Батюшков {Библиотека для чтения, 1838, т XXIII, с 93 (статья Н.А Полевого "О духовной поэзии").}. Еще характернее другое предание: "Рассказывают, что Батюшков судорожно сжал в руках листок бумаги, на котором читал (пушкинское) "Послание к Юрьеву" (1818 года) {"Поклонник ветреных Лаис" и пр.}, и проговорил: "О, как стал писать этот злодей!" Как справедливо замечает П.В. Анненков, сообщая этот рассказ, "во многих стихотворениях этой эпохи врожденная сила таланта проявлялась у Пушкина сама собою, заменяя при случае гениальною отгадкой то, чего не мог еще дать жизненный опыт начинающему поэту" {Материалы для биографии А.С. Пушкина. СПб., 1873, с. 10.}. Со своей стороны прибавим, что эта отгадка, открывавшая Пушкину путь к совершенству, была немало облегчена ему упорным трудом его ближайших предшественников, и особенно Батюшкова, в выработке поэтического языка и стиха. Соревнуя молодому поэту, Константин Николаевич, однако,тем самым признал один из первых его великое дарование; он уже тогда ссылался на "чуткое ухо" Пушкина, не одобряя, подобно ему, белого пятистопного стиха, выбранного Жуковским для перевода "Орлеанской девы" {Соч., т. III, с. 531, 580; ср. с. 532. П.В. Анненков (Материалы, с. 12) приводит отрывок из пародии лицеиста Пушкина на пьесу Жуковского "Тленность", также написанную белыми стихами.}. Батюшков боялся только, чтоб это богатое дарование не было растрачено в рассеянной жизни, и восклицал: "Да спасут его музы и молитвы наши!" {Соч., т. III, с. 531.} Вскоре Константину Николаевичу пришлось познакомиться с отрывками из "Руслана и Людмилы"; молодой Пушкин "пишет прелестную поэму и зреет", отозвался он по этому случаю Вяземскому {Там же, с. 191.}.
{1 Батюшков и А. Пушкин встретились спустя несколько дней по прибытии первого в столицу и день 1 сентября провели вместе в сообществе с Жуковским и А.А. Плещеевым в Царском Селе.
Во время этой загородной прогулки все четверо, между прочим, сочинили два экспромта, в том числе один, посвященный князю Вяземскому, который в то время собирался из Москвы в Варшаву на службу Вот эти стихотворения, сохраненные на одном листке, уцелевшем в бумагах Жуковского в Имп Публ Библиотеке
Пл. Писать я не умею
(Я много уписал)
П. Я дружбой пламенею,
Я дружбе верен стал
Б. Мне дружба заменяет
Умершую любовь!
Ж. Пусть жизнь нам изменяет,
Что было - будет вновь
Вяземскому
Пл. Зачем, забывши славу,
Пускаешься в Варшаву?
П. Уже ль ты изменил
Любви и дружбе нежной
И резвости небрежной?
Б. Но ты все так же мил,
Ж. Все мил - и несомненно
В душе твоей живет
Все то, что в цвете лет
Столь было нам бесценно.}
А между тем поэма Пушкина упраздняла собою все давно лелеянные Батюшковым замыслы о подобном же произведении с содержанием, взятым из народных преданий русской старины.
Отправляясь в Петербург, Батюшков имел в виду разные цели: он желал не только возобновить свои связи с петербургскими друзьями, но и несколько устроить свое материальное положение; намеревался продать свою долю в материнском наследстве и уехать либо за границу, либо в Крым, чтобы предпринять там серьезный курс лечения; поездка за границу, именно в Италию, обусловливалась поступлением в дипломатическую службу, о чем он снова стал теперь мечтать. Как ни странно, но в одном из писем к сестре он говорит даже о возможности женитьбы, только не на той особе, которою он был увлечен четыре года тому назад. Вероятно, дело шло о каком-нибудь браке по рассудку; но такое предположение вскоре было оставлено, как совершенно несвойственное натуре нашего поэта {Соч., т. III, с. 474. Особа, на возможность брака с которою намекает тут Батюшков, есть Олимпиада Петровна Шишкина, родственница графа Д. Н. Блудова. По сведениям, сообщенным Е.П. Ковалевским (Граф Блудов и его время. 2-е изд., с. 135, 136). О.П. Шишкина, "воспитывавшаяся в Смольном монастыре, вышла первою с шифром, и потому назначена была фрейлиной к великой княгине Екатерине Павловне и жила до смерти принца Ольденбургского в Твери с ее двором. Екатерина Павловна в то время, сдружившись с Карамзиным, стала заниматься русской литературой, с которою была мало знакома; две фрейлины ее, Шилова и Шишкина, помогали ей в занятиях. После смерти принца Ольденбургского и отъезда Екатерины Павловны из России, Шишкина перешла к большому двору и проводила все время у своего троюродного брата Дмитрия Николаевича Блудова, где в кругу литераторов развилась в ней еще более страсть к литературе. Батюшков был к ней неравнодушен, хотя она была нехороша собою. Она напечатала два романа: "Скопин-Шуйский" (СПб., 1835) и "Прокопий Ляпунов" (СПб., 1845) и путешествие из Петербурга в Крым (Заметки и воспоминания русской путешественницы по России в 1825 году. СПб., 1848), которые в свое время читались. Олимпиада Петровна Шишкина умерла от холеры в 1854 году, оставив по себе добрую память. Блудовы любили ее как родную сестру. Это была пламенная, чистая, исполненная добра и привязанности к друзьям душа". Несколько известий об Ол. П. Шишкиной находится также в воспоминаниях И.П. Сахарова (Русский Архив, 1874, кн. I, с. 964).}. Дело о продаже имения сперва пошло было в Петербурге на лад, но и оно вскоре расстроилось, и в ноябре Константин Николаевич уже просил своих родных приискать ему покупщиков в Вологде {Соч., т. III, с. 478.}. Сам он не предполагал пока покидать столицу, но в конце ноября получил печальное известие о кончине отца и поспешил отправиться на родину. Все его пребывание там было занято хозяйственными хлопотами и сопряженными с ними разъездами; требовалось спасти имение отца от продажи с публичного торга: сверх чаяния это удалось Константину Николаевичу, и Даниловское осталось за его малолетним братом.
В январе 1818 года Батюшков возвратился в Петербург и принялся усиленно хлопотать о поступлении в дипломатический корпус. Еще в сентябре 1817 года, вероятно при содействии Северина, как человека близкого к графу И.А. Капо д'Истриа, управлявшему в то время министерством иностранных дел, была составлена и подана графу докладная записка о Батюшкове. Кроме того, Константин Николаевич уже имел случай лично познакомиться с Капо д'Истриа: этот замечательный человек, с именем которого связаны лучшие страницы нашей дипломатической истории Александрова времени, был близок с Карамзиным; в доме Николая Михайловича и встречался с ним Батюшков. Ходатайство за нашего поэта перед графом Капо д'Истриа мог поддержать и один из доверенных людей последнего, молодой даровитый румын А.С. Стурдза: Батюшков около этого времени познакомился с ним чрез посредство Северина, женившегося на сестре Стурдзы; поводом к знакомству послужила статья Александра Скарлатовича "О любви к отечеству", напечатанная в Журнале Человеколюбивого общества (1818 г., ч. IV) и понравившаяся Константину Николаевичу. "Кроткая, миловидная наружность Батюшкова, - говорит Стурдза в своих воспоминаниях о том времени, - согласовалась с неподражаемым благозвучием его стихов, с приятностью его плавной и умной прозы. Он был моложав, часто застенчив, сладкоречив; в мягком голосе и в живой, но кроткой беседе его слышался как бы тихий отголосок внутреннего пения. Однако под приятною оболочкою таилась ретивая, пылкая душа, снедаемая честолюбием" {Беседа любителей русского слова и Арзамас в царствование Александра I, воспоминания А.С. Стурдзы в "Москвитянине", 1851, No 21, кн. 1, с. 15.}. Действительно, возможность поступить в дипломатическую службу пробудила в Константине Николаевиче честолюбивые мечты, которые всегда были ему не чужды, хотя он и не любил в том сознаваться. Дело, однако, тянулось и не приходило к концу. В январе 1818 года Батюшков писал Жуковскому, находившемуся в Москве с Царским двором, и просил друга добиться от Северина хотя бы отказа {Соч. т. III, с. 487, 488.}. В ожидании замедлившегося решения Батюшков положил осуществить наконец поездку на юг России, давно задуманную. В половине мая он двинулся в путь, с тем чтоб остановиться на некоторое время в Москве, где имел намерение поместить брата в пансион {Там же, с. 495, 497.}. Задержанный здесь этими заботами, Константин Николаевич получил письмо А.И. Тургенева с советом подать прошение прямо на Высочайшее имя об определении его на службу в одно из наших посольств в Италии. Такой совет показался Батюшкову слишком смелым, но настоятельные убеждения Жуковского, внезапно явившегося в Москву из Белева, куда он уезжал для свидания с родными, поддержали решимость Константина Николаевича; прошение, составленное Жуковским, было написано в следующих словах {Прошение это сохранилось в архиве министерства иностранных дел, в деле о службе Батюшкова.}:
Всемилостивейший Государь!
Осмеливаюсь просить Ваше Императорское Величество обратить милостивое внимание на просьбу, которую повергаю к священным стопам Вашим.
Употребив себя с молодых моих лет на службу Вам и Отечеству, желаю посвятить и остаток жизни деятельности, достойной гражданина. В 1805 году я поступил в штатскую службу секретарем при попечителе Московского учебного округа, тайном советнике Муравьеве. В 1806 году, в чине губернского секретаря, перешел я в батальон санкт-петербургских стрелков, под начальством полковника Веревкина находился в двух частных сражениях под Гутштатом и в генеральном под Гейльсбергом, где ранен тяжело в ногу пулею навылет. В том же году всемилостивейше переведен в лейб-гвардии егерский полк и с батальоном оного, в 1808 и 1809 годах, был в Финляндии в двух сражениях при Иденсальми и в Аландской экспедиции. По окончании кампании болезнь заставила меня взять отставку, но в 1812 году я снова вошел в службу и принять в Рыльский пехотный полк, с определением адъютантом к генерал-лейтенанту Бахметеву, который, потеряв ногу при Бородине, откомандировал меня к генералу Раевскому, при котором я находился адъютантом до самого вступления в Париж. За последние дела Всемилостивейше награжден переводом лейб-гвардии в Измайловский полк штабс-капитаном, с оставлением при прежней должности, и 1815 года находился в Каменец-Подольске при военном губернаторе Бахметеве. Между тем болезнь моя усилилась, беспрестанная боль в ноге и груди наконец принудила меня вторично отказаться от военной службы, которой я посвятил лучшие годы жизни, в которой если не талантами, то, по крайней мере, усердием простого воина надеялся со временем заслужить лестное одобрение Монарха, под знаменами которого имел счастье пролить кровь мою. По прошению моему был я переведен чином коллежского асессора к статским делам и теперь, лишенный печальною необходимостью счастья продолжать такую службу, к которой доселе привязывала меня склонность, желаю по крайней мере посвятить себя такому званию, в котором бы я мог с некоторою пользою для Отечества употребить немногие мои сведения и способности, желаю быть причислен к министерству иностранных дел и назначен к одной из миссий в Италии, которой климат необходим для восстановления моего здоровья, расстроенного раною и трудным Финляндским походом. Смело приношу просьбу мою к престолу Монарха, всегда благосклонным участием одобряющего в своих подданных стремление к пользе Отечества.
Всемилостивейший Государь!
Вашего Императорского Величества
верноподданный Константин Батюшков.
Июня " " дня
1818 года
Это прошение было отправлено к Тургеневу, а сам Константин Николаевич поехал в половине июня в Одессу, с тем чтобы возвратиться в Петербург по первому вызову Александра Ивановича {Соч., т. III, с. 500-503.}.
Пребывание Батюшкова на юге России произвело на него самое светлое впечатление. Он поселился в Одессе у своего каменецкого знакомого, графа К. Фр. Сен-При, который занимал теперь должность херсонского губернатора. "Он ко мне ласков по-старому, - писал Константин Николаевич своей тетке, - и все делает, чтобы развеселить меня возит по городу, в италианский театр, который мне очень нравится, к иностранцам, за город на дачи. Одесса - чудесный город, составленный из всех наций в мире, и наводнен италианцами. Италианцы пилят камни и мостят улицы: так их много! Коммерция его создала и питает" {Соч., т. III, с. 512, 513.}. Батюшков восхищался обычаями южной жизни, морем, природой и солнцем юга. "Жара здесь, говорят, несносная от полудня до самого вечера, - писал он. - Я не могу пожаловаться, и часто, как Гораций, гуляю по солнцу; особенно люблю sulla placida marina la fresc'aura respirar, и Сен-При, у которого живу, не может надивиться способности моей гулять во всякое время - и утром, и в зной, и ночью" {Там же, с. 517.}. С обществом одесским Батюшков мог познакомиться только вскользь; однако бывал у известной своим умом, талантами и красотой княгини З. А. Волконской и посещал аббата Николя, который в то время заведовал Ришельевским лицеем. Эффектная обстановка этого заведения, данная ему умным Николем, соблазнила нашего поэта, и в одном из писем своих к Тургеневу он с большою похвалой отозвался о лицее, не задаваясь мыслию о последствиях введенной там иезуитской системы образования {Там же, с. 515, 517, 520, 527-529.}. Из Одессы Батюшков ездил в известное местечко Порутино, где находятся развалины древней Ольвии. Его издавна занимала мысль о тех связях, которые могут непосредственно соединять древние судьбы Русской земли с классическим миром. К решению этого вопроса он, конечно, не пытался подойти с научной стороны; но еще в 1810 году, когда вздумал написать повесть на сюжет из периода древней русской истории "Предслава и Добрыня", он не затруднился отожествить сказочный образ Царь-девицы с скифскими амазонками, о которых повествует Геродот {Там же, т. II, с. 51; ср. с. 398.}. Теперь вид развалин Ольвии пробудил в Константине Николаевиче воспоминания о тех древних временах, когда на берегах Черного моря процветали греческие колонии, и о последующих, когда Святослав ходил на Византию, и он сожалел, что Карамзин и Ермолаев - историк и археолог - не побывали в этих достопамятных местностях. То же повторял он и в письме к Оленину: "Будучи в Ольвии, я сожалел, что вы, милостивый государь, не посетили сего края: берега Черного моря - берега, исполненные воспоминаний, и каждый шаг важен для любителя истории и отечества. Здесь жили греки, здесь бились Суворов и Святослав... Греки умели выбирать места для колоний своих, и роскошные соотечественники Аспазии могли не жалеть здесь о берегах своего Милета" {Соч., т. III, с. 520.}. Встреча в Одессе с И.М. Муравьевым-Апостолом, который, как сам говорил, "страстно" любил этот город и в то время уже подготовлялся чтением классиков и ученых исследований к своему знаменитому путешествию в Тавриду {Муравьев-Апостол. Путешествие к Тавриду. СПб., 1823, с. 2 и предисловие, с. VIII.}, укрепила в Батюшкове интерес к древней истории Новороссийского края; быть может, из бесед с Муравьевым впервые познакомился он с судьбами древней Ольвии, которым Муравьев вскоре посвятил такие занимательные страницы в описании своего путешествия. На юге Геродот и Карамзин не выходили из рук Константина Николаевича; он приобрел кое-какие древности для Оленина, набросал заметки об Ольвии, снял план с урочища и срисовал некоторые виды: "Принялся усердно, - писал он Гнедичу, - и доволен собою: не ожидал в себе такой рыси; всем надоел здесь медалями и вопросами об Ольвии" {Соч., т. III, с. 522; ср. также с. 515, 517, 518.}. В Одессе, между прочим, Батюшков имел случай видеть коллекцию греческих древностей, составленную местным собирателем И.П. Бларамбергом, и заинтересовался ею настолько, что счел нужным сообщить о ней графу Н.П. Румянцеву {См. письмо Батюшкова гр. Румянцеву в "Рус. Старине" 1893 года.}. Все эти занятия не могли не оставить следа в воображении поэта: еще перед отъездом из Одессы он просил Гнедича письмом приготовить ему точный перевод одного из хоров Еврипидовой "Ифигении в Тавриде", который намеревался переложить в русские стихи {Соч., т. III, с. 521, 522.}.
Купанье в море мало поправило здоровье Константина Николаевича; одесские врачи советовали ему отправиться в Евпаторию, без сомнения, для лечения сакскими грязями; но письмо от Тургенева, полученное 29 июля, удержало Батюшкова от поездки в Крым. Письмо извещало о назначении его на службу в Неаполь: надобно было, следовательно, спешить на север, покончить с домашними делами и готовиться к отъезду за границу. Счастье наконец улыбнулось нашему поэту: после многих и долгих усилий он достигал того, что в течение многих лет составляло предмет его горячих стремлений. Но не такова была неустойчивая,, вечно тревожная натура Батюшкова, всегда чего-то! ищущая и ни в чем не находящая себе удовлетворения.! В то самое время, когда удача увенчивала его надежды, чувство разочарования жизнью снова проснулось в его душе; оно уже сквозит между строк того письма, которым он выражал признательность А.И. Тургеневу за радостное известие и за его бескорыстную дружескую помощь: "Итак, судьба моя решена, благодаря вам! Я уверен, что вы счастливее меня, сделав доброе дело. Для вас это праздник, подарок Провидения. Я благодарю его не за Италию, но за дружбу вашу: быть вам обязанным приятно и сладостно. И это подарок Провидения, которое начинает быть ко мне благосклоннее" {Соч., т. III, с. 523.}. Еще резче то же чувство разочарования сказывается в другом письме к Тургеневу, которое Батюшков написал по возвращении в Москву: "Я знаю Италию, не побывав в ней. Там не найду счастья: его нигде нет; уверен даже, что буду грустить о снегах родины и о людях, мне драгоценных. Ни зрелища чудесной природы, ни чудеса искусства, ни величественные воспоминания не заменят для меня вас и тех, кого привык любить" {Там же, с. 531.}. Слова эти не были только любезностью в отношении к человеку, которому Батюшков чувствовал себя обязанным; напротив того, быть может, вопреки воле писавшего они обнаруживали его тайную мысль, его бессилие примириться с простыми условиями обыденной жизни и не требовать от нее того, чего она не могла дать ему. Что не договорено в письме Батюшкова, то яснее услышим мы в следующих жалобах из печальной исповеди малодушного Рене: "Меня обвиняют в том, что влечения мои непостоянны, что я не могу долго наслаждаться одною и тою же химерой, что я - добыча воображения, которое спешит проникнуть в глубь моих наслаждений, словно оно утомлено их продолжительностью; меня обвиняют в том, что я всегда переступаю ту цель, которой могу достигнуть. Увы, я ищу лишь того неведомого блага, чаяние которого меня преследует! Моя ли вина, что я всюду нахожу преграды, что все конечное не имеет для меня никакой цены? Но я чувствую, что люблю однообразие в ощущениях жизни и что если б я еще имел безумие верить в счастье, то стал бы искать его в привычке". Сходство в словах нашего поэта и в жалобах, которые влагает в уста своего героя Шатобриан, не подлежит сомнению: оно бросает яркий свет на свойство того нравственного недуга, которым была неизлечимо больна душа Батюшкова. Константин Николаевич приехал в Москву 25 августа. Он еще полон был впечатлениями своей поездки на юг России и желал продолжать изучение его истории. Но уже в Москве его охватили другие интересы: в "Вестнике Европы" он прочел "вылазку или набег Каченовского" на Карамзина и, несмотря на приязнь к стареющему журналисту, горячо поспорил с ним по этому случаю {Нападение Каченовского на Карамзина ("Вестник Европы", 1818, ч. С, No 13) было сделано по случаю появления в издававшемся в Харькове "Украинском Вестнике" (1818, No 5) "Записки о достопамятностях московских", которую написал Карамзин по желанию императрицы Марии Феодоровны. Харьковский журнал напечатал эту записку без согласия автора.}. "Каченовскому, - писал он Тургеневу из Москвы, - я отпел, что думал: того ли мы ожидали от вас? Критики, благоразумной критики, не пищи для английского клуба и московских кружков. Укажите на ошибки Карамзина, уличите его, укажите на места сомнительные, взвесьте все сочинение на весах рассудка. Хвалите от души все прекрасное, все величественное, без восклицаний, но как человек глубоко тронутый. А вы что делаете? Нет, вы не любите ни его славы, ни своей собственной, ни славы отечества" {Соч., т III, с. 532-533.}. Тем горячее были в устах Батюшкова эти упреки, что чтение "Истории" Карамзина произвело на него сильнейшее впечатление. Некоторое понятие о ней он имел издавна: еще в 1811 году он был в числе тех немногих лиц, которым Карамзин читал отрывки из своего труда, и Константин Николаевич тогда же писал несколько предубежденному Гнедичу, что "такой чистой, плавной, сильной прозы (он) никогда и нигде не слыхал" {Там же, с. 116.}. Впоследствии, как мы уже знаем, он ожидал появления "Истории" в свет с величайшим нетерпением и еще летом 1817 года наводил о ней справки у Жуковского {Соч., т. III, с. 449.}. Конечно, он мог судить о ней только как о произведении литературном и о памятнике национального бытописания; но в этих отношениях труд Карамзина удовлетворял его совершенно. С берегов Черного моря, где Батюшков напитался классическими воспоминаниями, он привез Карамзину прекрасное поэтическое приветствие, в котором сравнивал свое восхищение при изучении его труда с тем восторгом, с каким юноша Фукидид слушал чтение Геродота на Олимпийских играх {Там же, т. I, с. 278, 279.}. В Петербурге, куда Константин Николаевич явился в половине или в исходе сентября, все его время было поглощено сборами к отъезду, которые прерывались только приступами болезни и свиданиями с добрыми приятелями. Чаще всего появлялся он в домах Карамзина и Оленина; кажется, что к этому времени относится, между прочим, поездка его, вместе с Тургеневым, в Приютино, подгородное именье Олениных, воспетое друзьями этой семьи, нашим поэтом и Гнедичем {Там же, с. 288-292; Стихотворения Гнедича. СПб., 1832, с. 91-103.}. У Карамзина видел Батюшков в ту пору К.С. Сербинович: "Он собирался в Италию для поправления здоровья. Я тотчас узнал его по сходству с недавно виденным портретом его. Он был небольшого роста, имел выразительную физиономию и приятный голос. Говорили о Жуковском и жалели, что он не приехал за болезнью" {Рус. Старина, 1871, т. XI, с. 49.}. Это было последнее свидание нашего поэта с Николаем Михайловичем и его семейством. Батюшков оставил этот дом со светлым воспоминанием о том искреннем, горячем чувстве, с которым Карамзин пожелал ему счастливого пути и благословил на добро и благополучие {Соч., т. III, с. 536-538.}.
16 ноября Константин Николаевич написал прощальное письмо с последними распоряжениями к сестре Александре Николаевне, прося ее особенно пещись о малолетнем брате и сестре и не оставить без забот тех людей, которые служили ему {Соч., т. III, с. 536-538.}. Затем написал несколько строк Вяземскому с предупреждением, что надеется встретиться с ним в Варшаве, и наконец тронулся в путь. 22 ноября 1818 года Жуковский писал И.И. Дмитриеву из Петербурга: "Я был болен: три недели вылежал и высидел дома. Теперь поправляюсь, и первый мой выход на свет Божий была поездка в Царское село, где мы простились всем Арзамасом с нашим Ахиллом-Батюшковым, который теперь бежит от зимы не оглядываясь и, вероятно, недели через три опять в каком-нибудь уголку северной Италии увидится с весною" {Соч. Жуковского, 7-е изд., т. VI, с. 429.}. Другое письмо к Дмитриеву, от того же числа, передавало известие об отъезде Батюшкова в следующих выражениях: "На сих днях почтенный наш Константин Николаевич отправился в Неаполь. Он увез с собою любовь и преданность всех его знающих, оставя нам искреннее о себе сожаление. Голубое итальянское небо, классическая земля и доброе его сердце доставят ему утешение и счастье, которого он достоин!" {Рус. Архив, 1867, ст. 1536, где не означено, кому принадлежат вышеприведенные строки.}