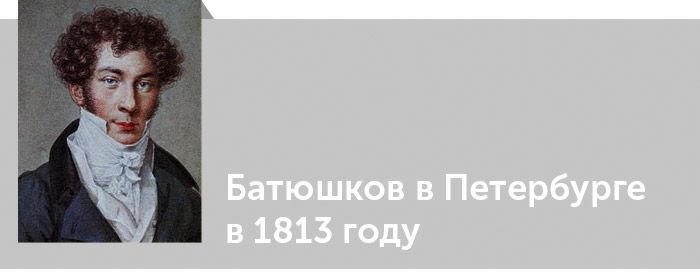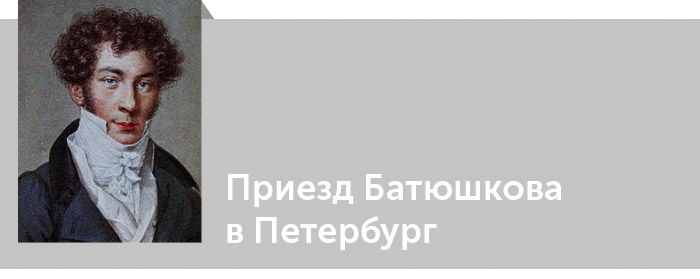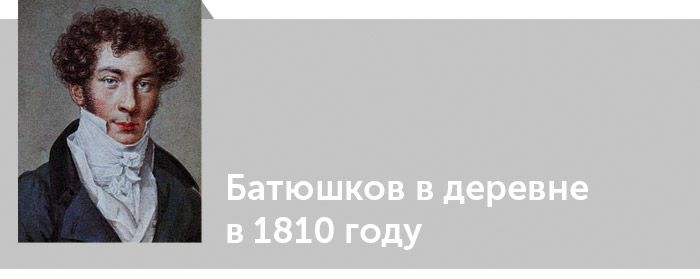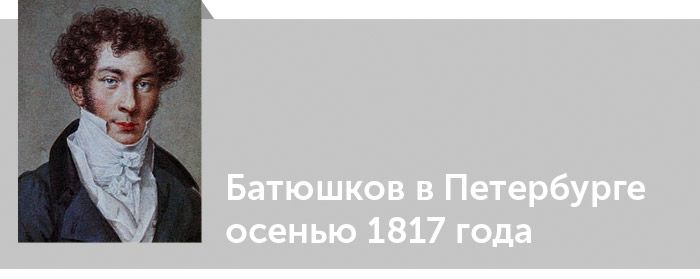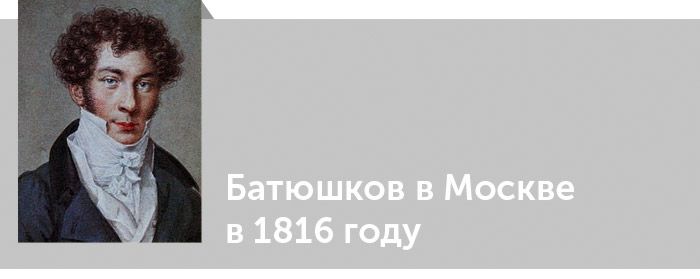Батюшков, его жизнь и сочинения. Впечатления Италии на Батюшкова
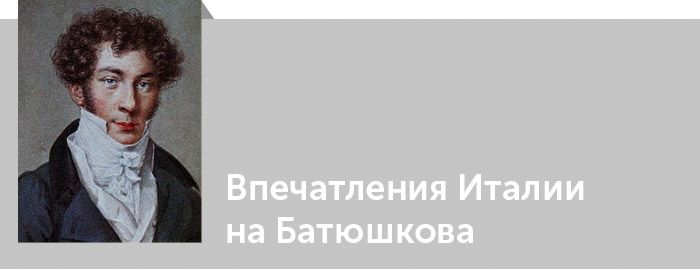
Глава XII
Впечатления Италии на Батюшкова. - Жизнь его в Неаполе и его душевное настроение. - Служебные неприятности. - Развитие ипохондрии. - Отъезд Батюшкова из Италии. - Пребывание в Теплице. - Неприятные новости из Петербурга. - Начало душевной болезни. - Батюшков в Дрездене. - Возвращение в Россию. - Поездка на Кавказ и в Крым. - Развитие болезни. - Пребывание в Петербурге в 1823 и 1824 годах. - Отправление Батюшкова за границу. - Пребывание его в Зонненштейне. - Возвращение из-за границы. - Жизнь в Москве с 1828 по 1833 год. - Воспоминание князя Вяземского о больном друге. - Батюшков в Вологде. - Последние годы жизни и кончина. - Заключение
Путь Батюшкова лежал на Варшаву и Вену: в первом из этих городов он предполагал встретиться с князем Вяземским, а во втором виделся с братьями Княжевичами: он имел поручение передать им вновь написанное послание приятеля их М.В. Милонова {Рус. Старина, 1874, т. IX, с. 584.}. Только в начале 1819 года Константин Николаевич достиг Венеции, а в Риме он приехал лишь к самому карнавалу, впрочем, довольно бодрый, несмотря на утомительность зимнего путешествия. Последний переезд до Рима наш поэт совершил с известным археологом графом С.Ос. Потоцким и молодым архитектором Эльсоном {Соч., т. III, с. 556; Скульптор Самуил Иванович Гальберг в его заграничных письмах и записках. Собрал В.Ф. Эвальд. СПб., 1884, с 60.}.
Впечатления Италии нахлынули на Батюшкова со всею своею силой. Подавленный ими, он долго не мог собраться дать о себе весть друзьям. "Сперва бродил как угорелый, - говорил Батюшков в первом письме, которое решился наконец написать Оленину из Рима, - спешил все увидеть, все проглотить, ибо полагал, что пробуду немного дней. Но лихорадке угодно было остановить меня". Таким образом, он прожил в Риме около месяца, но это первое знакомство свое с вечным городом считал совершенно поверхностным и только намечал места и предметы для дальнейших изучений. "Хвалить древность, - писал он Оленину, - восхищаться Св. Петром, ругать и злословить италианцев так легко, что даже и совестно. Скажу только, что одна прогулка в Риме, один взгляд на Форум, в который я по уши влюбился, заплатят с избытком за все беспокойства долгого пути. Я всегда чувствовал мое невежество, всегда имел внутренне сознание моих малых способностей, дурного воспитания, слабых познаний, но здесь ужаснулся. Один Рим может вылечить навеки от суетности самолюбия. Рим - книга: кто прочитает ее? Рим похож на сии иероглифы, которыми исписаны его обелиски: можно угадать нечто, всего не прочитаешь" {Соч., т. III, с. 539.}. Впечатления, испытанные Батюшковым в Риме, были сильны, но трезвы и светлы: к ним не примешивалось то чувство смутной грусти, которое не покидает, например, любимца нашего поэта, Шатобриана, даже в его римских очерках и воспоминаниях.
Константин Николаевич не имел возможности заняться пристальным изучением Рима, потому что должен был спешить в Неаполь; но он не мог оставить без исполнения поручение, данное ему Олениным. Президент Академии Художеств желал, чтобы Батюшков сблизился с академическими пенсионерами, посланными в Италию для усовершенствования в искусстве, и сообщил ему о ходе их занятий и об их нуждах. "Батюшков привез нам выговор от г. президента, который желает, чтобы мы чаще писали в Академию". Так выразился в письме к родным один из пенсионеров, молодой скульптор С.Ив. Гальберг после первого свидания с Константином Николаевичем {В вышеупомянутом собрании писем Гальберга, с. 60.}; требование Оленина, очевидно, не понравилось молодым людям; но самого Батюшкова они полюбили и относились к нему с уважением. Он же со своей стороны особенно отличал между ними даровитого пейзажиста С.Ф. Щедрина и заказал ему написать один из римских видов. "Если ему удастся что-нибудь сделать хорошее, - рассуждал Батюшков, - то это даст ему некоторую известность в Риме, особенно между русскими, а меня несколько червонцев не разорят" {Соч., т. III, с 540. В Художественном Сборнике, изданном Московским Обществом любителей художеств под редакцией гр. А С. Уварова (М., 1866), помещено несколько писем С.Ф. Щедрина из-за границы, сообщенных Н.А. Рамазановым. Полное собрание заграничных писем Щедрина находится в копии у А.И. Сомова, который сообщал их нам на просмотр. Из этих источников мы имели возможность извлечь некоторые сведения о пребывании Батюшкова в Италии, предлагаемые ниже.}. Алексею Николаевичу
Батюшков дал о русских художниках самый лучший отзыв и откровенно изложил свое мнение о ничтожестве назначенного им казенного пособия. Вместе с тем он подал Оленину мысль основать в Риме особое учреждение для молодых русских художников, наподобие существующей там французской Римской академии на вилле Медичи, или по крайней мере назначить в Рим особое лицо, которому было бы поручено наблюдать за римскими пенсионерами и пещись о их нуждах; как известно, Оленин воспользовался этою последнею мыслью и привел ее в исполнение.
Наконец в исходе февраля месяца Батюшков приехал к месту своего назначения. Неаполь и его окрестности также привели его в восхищение. "Неаполь, - писал он отсюда Гнедичу, - истинно очаровательный по местоположению своему и совершенно отличный от городов верхней Италии. Весь город на улице, шум ужасный, волны народа. Не буду описывать тебе, где я был... Много и не видал, но за то два раза лазил на Везувий и все камни знаю наизусть в Помпеи. Чудесное, неизъяснимое зрелище, красноречивый прах!" {Соч., т. III, с. 553.} Эти слова под пером Батюшкова не были ни самонадеянною похвальбой, ни громкою фразой. Он, конечно, не изучал Помпеи как археолог, как глубокий исследователь; но его живое воображение воссоздало ему среди этих развалин целую картину древней жизни. "Это - живой комментарий на историю и на поэтов римских, - писал он Карамзину. - Каждый шаг открывает, вам что-нибудь новое или поверяет старое: я, как невежда, но полный чувств, наслаждаюсь зрелищем сего кладбища целого города. Помпеи не можно назвать развалинами, как обыкновенно называют остатки древности: здесь не видите следов времени или разрушения; основания домов совершенно целы, недостает кровель. Вы ходите по улицам из одной в другую, мимо рядов колонн, красивых гробниц и стен, на коих живопись не утратила ни красоты, ни свежести. Форум, где множество храмов, два театра, огромный цирк уцелели почти совершенно. Везувий еще дымится над городом и, кажется, грозит новою золою. Кругом виды живописные, море и повсюду воспоминания; здесь можно читать Плиния, Тацита и Виргилия и ощупью поверять музу истории и поэзии" {Соч., т. III, с. 556.}.
В бытность Батюшкова в Риме и затем в первые дни его пребывания в Неаполе, города эти посетил великий князь Михаил Павлович, совершавший путешествие по Италии в сопровождении известного воспитателя императора Александра, Ф.-Ц. Лагарна. Константин Николаевич пользовался милостивым вниманием великого князя и в Риме служил посредником в его сношениях с русскими художниками. Когда великий князь возвратился из Неаполя в папскую столицу, он призвал к себе Щедрина и сказал ему: "Поезжайте в Неаполь и сделайте два вида водяными красками; Батюшкову поручено показать вам места". "Через несколько дней, - сообщает Щедрин, рассказав в письме к отцу об этом обстоятельстве, - объявили мне цену, вполне царскую, то есть 2500 рублей. Без этого неожиданного поручения мне трудно бы было на один пенсион прожить в Тиволи или во Фраскати, а уж тем более ехать в Неаполь. Батюшков же прислал мне сказать, что он у себя приготовит мне комнату и с прислугой, - и мне очень приятно находиться с человеком столь почтенным" {Письмо отцу от 3 марта 1819 г. - Художественный Сборник, с. 178, 179.}. Одновременно с великим князем в Неаполе собралось довольно много русских и иностранцев, бывавших в России. Константин Николаевич очень дорожил их обществом, напоминавшим ему отечество. Потом приезд императора Австрийского и празднества по этому случаю придали новое оживление и без того шумному городу. Но с приближением жаркой погоды путешественники стали разъезжаться, и вскоре Константин Николаевич остался в Неаполе лишь с немногими соотечественниками, в числе которых мы можем назвать князя А.С. Меньшикова, знакомого Батюшкову еще с военной поры 1813-1814 годов. Приехавший из Рима Щедрин поселился с Константином Николаевичем в chambres garnies, которые содержала француженка г-жа Сент-Анж. "Я живу, - писал Щедрин отцу 28 июня, - на морском берегу, в самом прекрасном и многолюдном месте; тут проезд в королевский сад; под моими окнами стоят стулья для гуляющих и зрителей; по берегу множество устричников (ostricatori) с устрицами и разною рыбой; много баб, продающих вонючую минеральную воду, тут же распиваемую проходящими и проезжающими; крик страшный; он продолжается и всю ночь; все кажется, что плачут или дразнятся; надо очень привыкнуть ко всему этому, чтобы спать спокойно". Батюшков со своей стороны был доволен обстановкою своей жизни. "Прелестная земля! - писал он Тургеневу. - Здесь бывают землетрясения. Наводнения, извержение Везувия, с горящей лавой и с пеплом; здесь бывают притом пожары, повальные болезни, горячка. Целые горы скрываются, и горы выходят из моря; другие вдруг превращаются в огнедышащие. Здесь от болот или испарений земли волканической воздух заражается и рождает заразу; люди умирают, как мухи. Но зато здесь солнце вечное, пламенное, луна тихая и кроткая, и самый воздух, в котором таится смерть, благовонен и сладок! Все имеет свою выгодную сторону; Плиний погибает под пеплом, племянник описывает смерть дядюшки. На пепле вырастает славный виноград и сочные овощи" {Соч., т. III, с. 548-550.}.
Неаполитанская жизнь удовлетворяла Батюшкова даже в экономическом отношении. "Жизнь дешева, - писал он сестре, - нельзя жаловаться. Прекрасный обед в трактире, лучшем, мы платим от двух до трех рублей; но издержки непредвидимые и экипаж очень дорого обходятся. Здесь иностранцев каждый долгом поставляет обсчитать, особенно на большой дороге". Тем не менее Константин Николаевич надеялся прожить без долгов и нужды на свое жалованье и те доходы, какие мог получать из деревни {Там же, с. 546.}. Состояние здоровья Батюшкова также было довольно удовлетворительно. По крайней мере в этом успокоительном смысле писал он к сестре, но немного спустя сознавался в письме к Жуковскому, что "здоровье ветшает беспрестанно: ни солнце, ни воды минеральные, ни самая строгая диета, ничто его не может исправить; оно, кажется, для меня погибло невозвратно" {Там же, с. 560.}. В конце июля он счел полезным переселиться на Искию, чтобы пользоваться тамошними теплыми водами. "Я не в Неаполе, - сообщает он оттуда Жуковскому, - а на острове Иския, в виду Неаполя; пью минеральные воды, дышу волканическим воздухом, питаюсь смоквами, пекусь на солнце, прогуливаюсь под виноградными аллеями при веянии африканского ветра и, что всего лучше, наслаждаюсь великолепнейшим зрелищем в мире". Пред ним открывался вид на Везувий, Неаполь, его приморские окрестности, и между ними на Сорренто, "колыбель того человека, которому, - прибавлял наш поэт, - я обязан лучшими наслаждениями в жизни" {Там же, с. 559.}.
С Искии Батюшков возвратился в начале сентября и поселился в Неаполе на новой квартире уже без Щедрина: последнему пришлось жить отдельно, потому что в квартире Батюшкова не оказалось удобной комнаты для его работ. В конце декабря Щедрин писал Гальбергу в Рим: "Иногда здесь такая скука обуревает, что нет сил переносить, на которую даже Константин Николаевич жалуется". Молодой художник, быть может, только в это время услышал впервые жалобы поэта на скуку, но из писем Батюшкова видно, что, не смотря на все прелести окружавшей и восхищавшей его южной природы, он уже давно чувствовал приступы уныния и хандры. Не прошло месяца с приезда его в столицу южной Италии, как в письме к Тургеневу он уже говорил о грустном расположении своего духа: "О Неаполе говорит Тасс в письме к какому-то кардиналу, что Неаполь ничего, кроме любезного и веселого, не производит. Не всегда весело! Не могу привыкнуть к шуму на улице, к уединению в комнате. Днем весело бродить по набережной, осененной померанцами в цвету, но в вечеру не худо посидеть с друзьями у доброго огня и говорить все, что на сердце. В некоторые лета это может быть нуждою для образованного мыслящего существа" {Соч., т. III, с. 550.}. Но в ту пору Батюшков еще только собирался привыкать к уединению и надеялся перенести его с твердостью. С отъездом русских путешественников тягость одиночества стала для него чувствительнее. Письма из России приходили редко и еще реже удовлетворяли Константина Николаевича своим содержанием; он желал следить за литературным движением в отечестве и особенно нетерпеливо желал прочесть поэму молодого Пушкина, "исполненную красот и надежды" и отрывки из которой он слышал еще до своего отъезда из Петербурга; но пересылка литературных новостей была в то время затруднительна, и едва ли хотя бы одна русская книга была доставлена Батюшкову в Неаполь {Соч., т. III, с. 544, 550, 551.}. Чтобы не поддаваться унынию, Константин Николаевич и здесь прибег к тому же средству, которое не раз выручало его прежде: он стал усиленно работать; совершенствовал свои познания в итальянском языке, который хотел изучить настолько, чтобы писать на нем складно; говорить по-итальянски "с некоторою приятностью и правильностью" казалось ему трудностью почти неодолимою. Прошлые судьбы страны, в которой он жил, возбуждали его внимание в высшей степени; он стал составлять записки о древностях Неаполя и занимался этим трудом очень усердно. С характером этих занятий Батюшкова нас знакомят следующие слова его в письме к Жуковскому: "Я ограничил себя, сколько мог, одними древностями и первыми впечатлениями предметов; все, что - критика, изыскание, оставляю, но не без чтения. Иногда для одной строки надобно пробежать книгу, часто скучную и пустую. Впрочем, это все - маранье; когда-нибудь послужит этот труд, ибо труд, я уверен в этом, никогда не потерян" {Там же, с. 561.}. Но этим трудом Батюшков занимался с увлечением только в первое время своего пребывания в Неаполе.
С местным обществом Константин Николаевич сближался мало; он находил, что в Неаполе "общество бесполезно и пусто. Найдете дома такие, как в Париже, у иностранцев, но живости, любезности французской не требуйте. Едва, едва найдешь человека, с которым обменяешься мыслями. От Европы мы отделены морями и стеною Китайскою. M-me Stael сказала справедливо, что в Террачине кончится Европа. В среднем классе есть много умных людей, особенно между адвокатами, ученых, но они без кафедры немы". Реакционное направление тогдашнего неаполитанского правительства стесняло умственное движение в обществе, и тем затруднительнее было сближаться с представителями последнего человеку заезжему, да еще притом принадлежавшему к одной из иностранных дипломатических миссий; туземцы могли относиться к нему с недоверием и подозрительностью. Таким образом, в Батюшкове скоро сложилось убеждение, что "ум, требующий пищи в настоящем, здесь скоро завянет и погибнет; сердце, живущее дружбой, замрет" {Соч., т. III, с. 781.}. Поэтому, едва прожив в Неаполе три-четыре месяца, он стал уже мечтать о возвращении в отечество, в дружеский круг, ибо там скорее надеялся "быть полезным гражданином". "Это, - писал он Жуковскому, - меня поддерживает в часы уныния. Здесь, на чужбине, надобно иметь некоторую силу душевную, чтобы не унывать в совершенном одиночестве. Друзей дает случай, их дает время. Таких, какие у меня на севере, не найду, не наживу здесь" {Там же, с. 561.}. Но бросить службу, едва начатую и не легко приобретенную, службу, которая имела по крайней мере ту выгоду, что доставляла возможность жить в теплом климате, - Батюшков понимал, что это было немыслимо или, по крайней мере, в высшей степени неблагоразумно. И вот он старается найти исход своему унынию в равнодушии, насильно подавляя в себе те сочувствия, которые наполняли его сердце; глубокою горечью отзываются те слова, которыми в письме к Жуковскому заключает он свои жалобы на одиночество: "Какое удовольствие, вставая поутру, сказать в сердце своем: я здесь всех люблю ровно, то есть, ни к кому не привязан и ни за кого не страдаю". И опять в этих безотрадных словах нашего поэта мы слышим старые отголоски шатобриановского разочарования, опять восстает пред нами образ Рене, всегда и везде чуждого той среде, куда заносит его судьба. После того как Рене не нашел удовлетворения своей жажде счастья ни в странствованиях по белу свету, ни среди блестящего общества родной земли, он удаляется в глухое предместье столицы, чтобы жить там в полной неизвестности. "Я почувствовал, - говорит капризный мечтатель, - некоторое удовольствие в этой жизни темной и независимой. Никому неведомый, я смешивался с толпой, с этою пустынею людскою". Но как для гордого Рене эта попытка схорониться среди мелкого простого люда было лишь переходным моментом, лишь тщетным усилием затушить в себе неудержимые порывы слишком прихотливой и требовательной натуры, так точно и Батюшков не мог примириться со своим одиночеством среди толпы чужестранцев. "Ты правду говоришь, что меня надобно немного полелеять", - писал он Вяземскому однажды в 1817 году {Соч., т. III, с. 453.}, и эти слова очень верно выражают всегдашнюю господствующую потребность его нравственного существования. В Неаполе более чем где-нибудь он сознавал себя лишенным этого дружеского сочувствия и поощрения. И потому теперь еще с большим правом мог сказать то, что уже давно говорил о себе в послании к Никите Муравьеву:
Забытый шумною молвой,
Сердец мучительницей милой,
Я сплю, как труженик унылой,
Не оживляемый хвалой.
Хандра, которая с каждым днем овладевала нашим поэтом, отразилась прежде всего на его творческих способностях. Еще в августе 1819 года, описав Жуковскому красоты Неаполитанского залива, он принужден был сказать: "Посреди сих чудес удивись перемене, которая во мне сделалась: я вовсе не могу писать стихов". Конечно, слова эти не следует понимать в безусловном смысле: сохранилось все-таки два-три прекрасных поэтических отрывка, написанных Батюшковым в Неаполе; есть указание, что в Италии же был предпринят им перевод Данта1; но во всяком случае признание поэта остается печальным свидетельством того тяжелого душевного состояния, в каком он находился, оторванный от родной и дорогой ему среды. Мы можем догадываться, что для него опять наступал такой упадок духа, какой он испытал за несколько лет пред тем в Каменце, когда ему казалось, что "под бременем печали" безвозвратно угасло его поэтическое дарование. В ту пору дружеское участие Жуковского послужило Константину Николаевичу ободрением. И теперь петербургские друзья, когда до них дошло грустное письмо Батюшкова с острова Искии, догадались, что ему нужно подать ободряющий отклик. В исходе 1819 года Карамзин написал ему следующие дружеские строки: "Зрейте, укрепляйтесь чувством, которое выше разума, хотя любезного в любезных, оно есть душа души - светит и греет в самую глубокую осень жизни. Пишите, стихами ли, прозою ль, только с чувством: все будет ново и сильно. Надеюсь, что теперь уже замолкли ваши жалобы на здоровье, что оно уже цветет и плодом будет милое дитя с венком лавровым для родителя: поэма, какой не бывало на святой Руси {Стурдза. Беседа любителей русского слова и Арзамас в царствование императора Александра I - "Москвитянин", 1851, No 21, с. 16.}. Так ли, мой добрый поэт? Говорю с улыбкой, но без шутки. Сохрани вас Бог еще хвалить лень, хотя бы и прекрасными стихами! Напишите мне Батюшкова, чтоб я видел его, как в зеркале, со всеми природными красотами души его, в целом, не в отрывках, чтобы потомство узнало вас, как я вас знаю, и полюбило вас, как я вас люблю. В таком случае соглашаюсь долго, долго ждать ответа на это письмо. Спрошу, что делает Батюшков? Зачем не пишет ко мне из Неаполя? И если невидимый гений шепнет мне на ухо: Батюшков трудится над чем-то бессмертным, то скажу: пусть его молчит с друзьями, лишь бы говорил с веками!" {Погодин Николай Михайлович Карамзин. М., 1866, ч. II, с. 243, 244.}
"День, в который получу письмо из России, есть лучший из моих дней", - говорил Батюшков, живя в Неаполе. Дружеское письмо от Карамзина, "необыкновенного человека, который (по выражению нашего поэта) явился к нам из лучшего века, из лучшей земли" {Соч., т. III, с. 451.}, должно было подействовать на него живительно, но это был лишь одинокий луч света в том мрачном унынии, в котором уже находилась его душа: по крайней мере мы не знаем, чтобы горячие убеждения Карамзина пробудили в Батюшкове охоту к деятельному поэтическому труду.
Между тем здоровье Константина Николаевича не улучшалось и в теплом климате. Успокаивая сестру в этом отношении, он должен был, однако, оговориться, что "климат Неаполя не очень благосклонен тем, которые страдают нервами" {Там же, с. 564.}. К болезням, к горькому чувству одиночества присоединились еще и служебные неприятности. Батюшков был причислен к нашей Неаполитанской миссии в качестве сверхштатного секретаря, но в исходе 1819 года обстоятельства так сложились, что он оказался почти единственным чиновником при русском посланнике графе Штакельберге, и канцелярские его обязанности очень увеличились и стали тяготить его {Это видно из письма Щедрина к Гальбергу от 18 октября 1819 года, ср. также известия А. С. Стурдзы. - Москвитянин, 1851, No 21, с. 16.}.
Граф Штакельберг принадлежал к числу людей, которые в положении начальников любят дать подчиненным почувствовать тяжесть своей власти {Записки графа К.В. Нессельроде. - Рус. Вестник, 1865, No 10, с. 531.}. Между ним и Батюшковым произошли неприятные столкновения. Однажды Штакельберг поручил Константину Николаевичу составить бумагу, содержание которой не согласовалось с его убеждениями; на сделанные им возражения ему было сказано, что он не имеет права рассуждать. В другой раз Константин Николаевич заслужил замечание посланника за ошибку, допущенную им в переводе латинской фразы в каком-то дипломатическом документе {Рассказ графа Д.Н. Блудова, записанный и сообщенный нам Я.К. Гротом; Галахов. История русской словесности. 2-е изд., т. II, с. 263.}. Таким образом, отношения Батюшкова к графу Штакельбергу сделались крайне натянутыми, самолюбие его страдало, и он решился оставить Неаполь. Константин Николаевич просил посланника разрешить ему поездку на воды в Германию; но Штакельберг не соглашался, ссылаясь на то, что у него нет другого чиновника, который мог бы заменить Батюшкова в отправлении его служебных обязанностей. Между тем во второй половине 1820 года в королевстве обеих Сицилии вспыхнула революция, и русский посланник решил выехать из Неаполь. В это время состав его миссии уже увеличился новыми лицами, и потому в конце 1820 года граф Штакельберг дозволил Батюшкову отправиться в Рим {Соч., т. III, с. 573, 574.}. Русский посланник при папском дворе, просвещенный и добрый старик А.Я. Италийский, встретил Батюшкова благосклонно и согласился представить в министерство о причислении его к нашей Римской миссии {Там же, с. 565.}. Таким образом, весь 1820 год прошел для Батюшкова в самых неприятных треволнениях, которые должны были действовать разрушительно на его хилое здоровье, увеличивать его раздражительность и усиливать его инохондрию. В таком состоянии духа и тела он почти совершенно прекратил переписку со своими родными и друзьями. Только в исходе 1819 года и в январе 1820-го написал он два письма к Тургеневу, а затем замолк совершенно; первое из упомянутых писем еще отличалось живостью и содержало в себе описание его образа жизни и занятий: Батюшков отвечал приятелю на некоторые вопросы по части наук политических и юридических и излагал свой взгляд на современное состояние литературы в Италии; внимание его останавливалось на том увлечении Байроном, которое обнаруживалось тогда на Аппенинском полуострове, так же как и в других странах; "но, - прибавлял Константин Николаевич, - италианцы имеют более права восхищаться им: Байрон говорит им о их славе языком страсти и поэзии" {Рус. Архив, 1867, с. 652-653; ср.: Соч. Батюшкова, т. III, с. 771.}. В письме от 10 января 1820 года Батюшков пенял Тургеневу за молчание, расспрашивал о рассеянных по миру приятелях и прибавлял: "Одни письма друзей могут оживлять мое существование в Неаполе: с приезда я почти беспрестанно был болен и еще недавно просидел в комнате два месяца". Все это письмо было невеселое, и добряк Тургенев, перечитав его даже много лет спустя, упрекал себя, что не умел вовремя удовлетворить "потребность сердца больного друга на чужбине" {Современник, 1841, т. XXV, с. 5, 6; ср.: Соч. Батюшкова, т. III, с. 771.}.
В Риме Батюшков мог отчасти отдохнуть от неприятностей, испытанных им в Неаполе {К этому пребыванию Константина Николаевича в Риме, вероятно, относится известие С.П. Шевырева (Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. М., 1850, т. I, с. 109), что Батюшков жил на piazza del Popolo - место, где сосредоточивалась в Риме русская колония; в бытность там Шевырева в 1829-1832 гг., ему указывали дом, где жил Батюшков, и окна его квартиры.}; он даже собрался написать кое-кому из друзей: одно из писем, полученное в Петербурге в начале марта, было обращено к Карамзину; Батюшков говорил в нем, между прочим, о том, как ему надоели происходившие в Италии революционные движения {Эти слова Батюшкова Карамзин передал Дмитриеву в письме от 10 марта 1821 г. (Письма Карамзина к Дмитриеву, с. 304).}; другое письмо от Константина Николаевича получил Дашков в апреле, будучи в Константинополе; Батюшков предполагал, что Дашков находится в Москве, и поручал приятелю быть его провидением при И.И. Дмитриеве, которого оба они очень уважали {Рус. Архив, 1863, с. 596: письмо Дашкова к Дмитриеву от 16 апреля 1821 года.}. Однако и в Риме ни расположение духа, ни состояние здоровья Константина Николаевича нисколько не улучшились, и вскоре по приезде туда он принужден был обратиться к Италийскому с тою же просьбой, в удовлетворении которой отказывал ему граф Штакельберг. Италийский отнесся к больному поэту с большим участием и написал графу Нессельроде, уже сменившему Капо д'Истриа в управлении министерством иностранных дел, письмо, в котором в самых теплых выражениях говорил о тяжкой болезни Батюшкова и его необыкновенных дарованиях и просил разрешить ему бессрочный отпуск для излечения и увеличить получаемое им содержание. Письмом от 28 апреля 1821 года граф Нессельроде уведомил Италийского, что на его ходатайство о Батюшкове последовало в Лайбахе милостивое согласие государя {Дело архива министерства иностранных дел о службе Батюшкова.}. В мае месяце Батюшков покинул Италию; страна, где он надеялся найти исцеление от своих недугов, не дала ему здоровья; напротив того, огорчения, испытанные им в Неаполе, усилили его болезнь и к физическому расстройству присоединили глубокое нравственное потрясение.
С выездом из Италии Батюшков вздохнул свободнее. Он освобождался от зависимости, которая тяготила его, и приближался к отечеству, где его ожидали дружеские встречи. По-видимому, он еще не совсем отказывался от мысли продолжать свою литературную деятельность. Еще раз возвратилось к нему вдохновение: июнем 1821 года помечено несколько небольших стихотворений, которые он внес тогда же в экземпляр своих "Опытов", находившийся при нем; на этом экземпляре он делал исправления своих прежних стихов на случай нового их издания. В числе упомянутых пьес есть одна, особенно ярко изображающая его тогдашнее настроение:
Взгляни: сей кипарис, как наша степь, бесплоден,
Но свеж и зелен он всегда.
Не можешь, гражданин, как пальма, дать плода?
Так буди с кипарисом сходен:
Как он, уединен, осанист и свободен!1
1 Соч., т. I, с. 296, 297.
Менее чем за два года пред тем, поэт еще выражал надежду, что может быть полезным гражданином в своем отечестве; теперь и эта надежда была для него утрачена; он сторонился от общества и желал лишь одного - охранить себя от посягательств на его нравственную личность.
Батюшков поехал в Теплиц, чтобы лечиться тамошними минеральными водами. Не знаем, был ли сделан этот выбор по указанию врачей или, быть может, больного поэта влекли в те места воспоминания о славных военных событиях, которых он был в 1813 году скромным, но пламенным участником вместе с другом своим Петиным, несомненно, что память об этом рано погибшем товарище молодости должна была живо пробуждаться теперь в душе Батюшкова, как отблеск светлых дней невозвратного прошлого. Константин Николаевич принялся за лечение с каким-то, можно сказать, ожесточением, как будто возврат здоровья сулил обновить все его существование: он брал ежедневно по две ванны в течение семидесяти дней сряду, между тем как некоторые другие больные опасались удара после первой же ванны {Из рассказов графа Д. Н. Блудова, записанных Я. К. Гротом.}. В поступках его уже начинало проявляться упрямство, свойственное людям, которые не вполне владеют своим рассудком. В Теплице Батюшков встретился с несколькими русскими, между прочим с Д.Н. Блудовым. Ему сообщены были разные литературные новости, и в числе их две, имевшие к нему непосредственное отношение. Одна из них состояла в том, что небольшое стихотворение, написанное им в Неаполе на смерть малолетней дочери одной русской дамы, появилось в печати без его ведома, напечатал его Воейков в "Сыне Отечества" {1820 г., ч. 64, No 35, с. 83, ср. Соч., т. I, с. 440.} со слов Блудова и притом некоторые стихи передал в искаженном виде, искажение это повело к неприятной печатной полемике между лицом, которое впервые дало огласку стихотворению Батюшкова, и журналистом. Другая новость, касавшаяся нашего поэта, заключалась в появлении, на страницах того же "Сына Отечества", стихотворения П.А. Плетнева под заглавием "Б......в из Рима (элегия)" {"Сын Отечества", 1821, ч. 68, No 8, с. 35-36, Сочинения и переписка Плетнева, т. III, с. 250, 251.}. Пьеса эта, напечатанная без имени автора, была следующего содержания.
Напрасно - ветреный поэт -
Я вас покинул, други,
Забыв утехи юных лет
И милые заслуги!
Напрасно из страны отцов
Летел мечтой крылатой
В отчизну пламенных певцов
Петрарки и Торквато!
Напрасно по лугам брожу
Авзонии прелестной
И в сердце радости бужу,
Смотря на свод небесный!
Ах, неба чуждого красы
Для странника не милы,
Не веселы забав часы
И радости унылы!
Я слышу нежный звук речей
И милые приветы;
Я вижу голубых очей
Знакомые обеты
Напрасно нега и любовь
Сулят мне упоенья -
Хладеет пламенная кровь,
И вянут наслажденья
Веселья и любви певец,
Я позабыл забавы,
Я снял свой миртовый венец
И дни влачу без славы
Порой, на Тибр склонивши взор
Иль встретив Капитолий,
Я слышу дружеский укор,
Стыжусь забвенной доли
Забьется сердце для войны,
Для прежней славной жизни,
И я из дальней стороны
Лечу в края отчизны!
Когда я возвращуся к вам,
Отечески Пенаты,
И снова жрец ваш, фимиам
Зажгу средь низкой хаты?
Храните меч забвенный мой
С цевницей одинокой!
Я весь дышу еще войной
И жизнию высокой,
А вы, о милые друзья,
Простите ли поэта?
Он видит чуждые поля
И бродит без привета
Как петь ему в стране чужой?
Узрит поля родные -
И тронет в радости немой
Он струны золотые.
И напечатание эпитафии, и еще более появление анонимного стихотворения, в котором от имени Батюшкова делались признания пред публикой, что он скучает за границей, забыл забавы прежних лет и влачит дни без славы, не могли не раздражить больного поэта. Батюшков взглянул на поступок Плетнева (имя автора элегии не осталось ему неизвестным), как на оскорбление своей чести. В двух грозных письмах к Гнедичу он излил свой гнев на издателей "Сына Отечества" и на сочинителя элегии, которого называл не иначе, как Плетневым. Вместе с первым из этих писем он послал Гнедичу протест против издателей журнала и требовал его напечатания; в протесте он объявлял, что оставляет совершенно литературное поприще, а во втором письме высказывал прямо, что в поступке Плетнева видит "злость, недоброжелательство, одно лукавое недоброжелательство", тем более незаслуженное, что Плетнев не знает его лично. "Нет, - говорил Батюшков, - не нахожу выражений для моего негодования: оно умрет в сердце, когда я умру. Но удар нанесен. Вот следствие: я отныне писать ничего не буду и сдержу слово. Может быть, во мне была искра таланта; может быть, я мог бы со временем написать что-нибудь достойное публики, скажу с позволительною гордостью, достойное и меня, ибо мне 33 года и шесть лет молчания меня сделали не бессмысленнее, но зрелее. Сделалось иначе. Буду бесчестным человеком, если когда что-нибудь напечатаю с моим именем. Этого мало: обруганный хвалами, решился не возвращаться в Россию, ибо страшусь людей, которые, невзирая на то, что я проливал мою кровь на поле чести, что и теперь служу мною обожаемому монарху, вредят мне заочно столь недостойным и низким средством" {Соч., т. III, с. 571.}.
В столь горячо выраженном негодовании нашего поэта, без сомнения, сказывалось уже начинавшееся повреждение его умственных способностей; его предположение, что Плетнев служил орудием чьих-то козней, против него направленных, не имело никаких оснований и могло зародиться только в уме человека, которого раздраженное самолюбие уже перерождалось в вид помешательства, называемый "манией величия". Но в то же время эти болезненные строки не могут не пробудить сочувствия к страдальцу-поэту. Творческое дарование давно уже стало в его глазах лучшим богатством его нравственной личности, отличавшим его от прочих людей. Шатобриан устами того из своих героев, который привлекал к себе самые страстные сочувствия Батюшкова, говорит, что поэты обладают единственным неоспоримым сокровищем, которым Небо одарило землю. Это убеждение давно стало родным для Батюшкова и укреплялось в нем все сильнее по мере того, как он разочаровывался в других благах жизни. Правда, и в прошлом его бывали тяжелые периоды упадка духа, когда он терял веру в свое дарование. Но тогда он сам являлся своим судьею, подчас даже не в меру строгим; однако и в эти трудные минуты он не делился своими сомнениями с толпою, приговору которой не давал цены, а предоставлял себя на суд только избранных друзей, от которых мог ожидать сознательной и беспристрастной оценки; их одобрение воспитало его талант и дало ему созреть; он понял слабость своих ранних попыток, но в то же время почувствовал, что позднейшими своими произведениями занял почетное место на скользком, но столь любимом им поприще. И вот после этих одобрений и успехов, заставивших его забыть ранние неудачи, опять раздался чей-то голос, который предрекал конец развитию его таланта: так по крайней мере истолковывал себе Батюшков слова Плетнева. Мог ли бы остаться совершенно равнодушным к этому непрошенному и незаслуженному пророчеству человек даже менее впечатлительный, более спокойный и ровный характером, чем наш больной, раздражительный поэт, действительно вынесший немало горьких разочарований из своего жизненного опыта? Роковая случайность подвела его под удар, который, конечно, был нечаянным... Да, мы не можем строго осуждать того, кто был виновником этого удара. Он, без сомнения, не имел намерения оскорбить больного поэта, дарование которого умел ценить и действовал только по легкомыслию молодости. Стихотворение явилось в печати без подписи Плетнева, против его желания, по уловке Воейкова, который не прочь был ввести читателей в заблуждение и дать им повод думать, что пьеса написана Батюшковым, обещавшим "Сыну Отечества" свое сотрудничество {Тихонов. Николай Иванович Гнедич, с. 92.}. Самое сильное осуждение поступка Плетнева заключается в поэтическом ничтожестве несчастной элегии, очевидном для всякого непредубежденного читателя. Пушкин, прочитав элегию и узнав о негодовании Константина Николаевича, писал своему брату из Кишинева: "Батюшков прав, что сердится на Плетнева; на его месте я бы с ума сошел от злости. "Батюшков в Риме" не имеет никакого смысла, даром, что новость на Олимпе мила. Вообще мнение мое, что Плетневу приличнее проза, нежели стихи - он не имеет человеческого чувства, никакой живости - слог его бледен, как мертвец. Кланяйся ему от меня (то есть Плетневу, а не его слогу) и уверь его, что он наш Гете" {Соч. Пушкина, 8-е изд., т. VII, с. 88, 89. Приведенные слова Пушкина были показаны его братом Плетневу, который отвечал поэту известным посланием: "Я не сержусь на едкий твой упрек..." (Сочинения и переписка Плетнева, т. III, с. 276-279). По получении этого послания Пушкин намеревался отвечать ему письмом, которое известно только в черновом наброске; в нем Пушкин, между прочим, писал: "Признаюсь, это стихотворение (то есть элегия Плетнева) недостойно ни тебя, ни Батюшкова. Многие приняли его за сочинение последнего. Знаю, что с посредственным писателем этого не случится. Но Батюшков, не будучи доволен твоей элегией, рассердился на тебя за ошибку других - я рассердился после Батюшкова. Извини мое чистосердечие, но оно залог моего к тебе уважения" (Рус. Старина, 1884, т. XLI1, с. 338). Двумя критическими статьями о Батюшкове, напечатанными в 1822 и 1823 гг. (Сочинения и переписка Плетнева, т. I, с. 23-28 и 96-112) и стихотворением "К портрету Батюшкова" ("Сын Отечества", 1881, ч. 70, No XXIV, с. 177; в издание сочинений Плетнева не включено) Плетнев снял с себя подозрение в несочувствии таланту Батюшкова.}.
О причинах психической болезни Батюшкова судили розно: одни ее приписывали его неудовлетворенному честолюбию, другие - эпикурейству, расстроившему его организм. И.И. Дмитриев полагал, что, воспитанный в доме М.Н. Муравьева и связанный дружбой с его сыновьями, Константин Николаевич будто бы еще до отъезда в Неаполь знал о заговоре, в котором они были участниками. "Батюшков, с одной стороны, не хотел изменить своем долгу, с другой - боялся обнаружить сыновей своего благодетеля. Эта борьба мучила его совесть, гнела его чистую поэтическую душу. С намерением убежать от этой тайны и от самого места, где готовилось преступное предприятие, убежать от самого себя, с этим намерением отпросился он и в Италию, к тамошней миссии, и везде носил с собою грызущего его червя". Наконец рассудок его не выдержал, и тогда наступило помрачение {М.А. Дмитриев. Мелочи из запаса моей памяти, с. 197; ср. также мнение Греча в его Записках. СПб., 1886, с. 406.}. Догадка Дмитриева опровергается хронологическими соображениями; догадки других лиц также не выдерживают критики; так, в действительности Батюшков вовсе не был таким пылким любителем чувственных наслаждений, каким представляли его себе иные на основании произведений его молодости. Со своей стороны мы думаем, что в вопросе о помешательстве Батюшкова первый голос должен быть предоставлен врачам. Доктор Антон Дитрих, находившийся некоторое время при больном по возвращении его в Россию, видел причины его недуга частью в том, что Константин Николаевич унаследовал от своих родителей и предков некоторые болезни, предрасполагающие к умопомешательству, а частью - в его собственном душевном складе, в котором воображение брало решительный перевес над рассудком. Удачно сравнивая Батюшкова с Тассом, Дитрих применял к первому слова, сказанные о последнем Фридрихом Шлегелем, а именно, что он принадлежал "к числу поэтов, способных изображать только самого себя и свои прекрасные чувства, а не к числу таких, которые в состоянии светлым духом своим обнять целый мир и в этом мире, так сказать, затерять, забыть самих себя" {Friedr. Schlegel. Geschichte der alien und neuen Literatur, 11-tes Kapitel. Подробное изложение мнения д-ра Дитриха см. в записи его о болезни Батюшкова.}. Страстность натуры Батюшкова была хорошим материалом для развития в нем психической болезни, а обстоятельства и случайности жизни, отчасти в самом деле бедственные, отчасти представлявшиеся ему таковыми, содействовали развитию недуга. Болезнь, однако, имела некоторый скрытый период, и таково именно было состояние Батюшкова в 1821 году и еще несколько времени далее: болезнь еще не приняла резких форм, но сказывалось постоянною ипохондрией, удалением от людей, чрезвычайною раздражительностью и иногда сильными порывами страстей.
Из Теплица Константин Николаевич собирался ехать в Швейцарию, а зиму намеревался провести в Париже или в южной Франции. Прощаясь с Д.Н. Блудовым, он поручил ему кланяться петербургским друзьям и родным, но сказал, что писать не будет, потому что Дмитрий Николаевич - живая грамота {Из письма Е.Ф. Муравьевой к А.Н. Батюшковой, от 27 сентября 1821 года; ср. также: Соч., т. III, с. 572.}. В это же время находился за границей и Жуковский и на осень также собирался на Альпы; но Батюшков не поехал в Швейцарию; друзья свиделись только в ноябре месяце в Дрездене, куда Константин Николаевич отправился прямо из Теплица и куда заехал Жуковский на пути в отечество. Свидание друзей было непродолжительно, так как Василий Андреевич не мог остаться в столице Саксонии более четырех дней. Вот что записал он в своем дорожном дневнике, 4 ноября 1821 года, об этой печальной встрече: "С Батюшковым в Плауне. Хочу заниматься. Раздрание писанного. Надобно, чтобы что-нибудь со мною случилось. Тасс; Брут; Вечный Жид; описание Неаполя" {Плаун - красивое местечко в окрестностях Дрездена. Дорожные дневники Жуковского хранятся в Имп. Публ. Библиотеке в двух редакциях, черновой и беловой: выписка приведена из первой, т. к. вторая редакция изложена короче.}. Из этих отрывочных намеков можно, однако, заключить, что Батюшков раскрыл перед другом мрачное состояние своей души и, вероятно, высказал ему то же свое решение, о котором незадолго писал Гнедичу, то есть что намерен совершенно оставить литературное поприще. Последние слова краткой заметки Жуковского, вероятно, содержат в себе перечень произведений Батюшкова, уничтоженных им в порыве отчаяния; как мы уже знаем, в бытность свою в Неаполе он действительно составлял записки об его окрестностях. Можно себе представить, какое тяжелое впечатление должны были произвести на Жуковского признания друга; но его увещания, прежде столь живительные для Батюшкова, оказывались теперь бессильными пред недугом, который овладел Константином Николаевичем. Точно так же мало подействовало на него дружеское письмо Гнедича, посланное в Дрезден и содержавшее в себе объяснение и оправдание поступка Плетнева {Письмо Гнедича напечатано в брошюре П.Н. Тиханова "Николай Иванович Гнедич", с. 90-94.}; мысль о преследовании со стороны каких-то тайных врагов уже вполне господствовала над поврежденным умом несчастного поэта.
Зиму с 1821 на 1822 год Константин Николаевич провел в Дрездене. Расположение его духа было чрезвычайно переменчивое: иногда он восхищал своих собеседников живым, одушевленным описанием красок Италии, этого рая, этой страны блаженства земного, а назавтра тот же край превращался в его рассказах в разбойничье гнездо, в кладбище древних великих и героических веков. Мрачное уныние становилось все более и более преобладающим настроением Константина Николаевича; он впал в мистицизм, стал заниматься астрономией и изменил своим прежним любимцам, итальянским поэтам. Говорят, что в это время он перевел отрывок из Шиллеровой трагедии "Мессинская невеста" {Н. Koenig. Literarische Bilder aus Russland. Stuttgart. 1837, c. 125, 126.}. Если такое известие справедливо, то этот труд и небольшое стихотворение "Изречение Мелхиседека" должны быть признаны последними произведениями Батюшкова. Глубоко безотрадным чувством веет от последних поэтических строк его:
Ты помнишь, что изрек,
Прощаясь с жизнию, седой Мелхиседек?
Рабом родится человек,
Рабом в могилу ляжет,
И смерть ему едва ли скажет,
Зачем он шел долиной чудной слез,
Страдал, рыдал, терпел, исчез2.
2 Соч., т. I, с. 298.
Еще осенью 1821 года Батюшков решился совсем оставить службу и писал о том Италийскому, как непосредственному своему начальнику. Италийский, в свою очередь, ходатайствовал перед графом Нессельроде об увольнении Батюшкова, с сохранением ему, в виде пенсии, всего получаемого им содержания. Удовлетворение этой просьбы было отклонено; но граф Нессельроде письмом от 20 февраля 1822 года, лично уведомил Батюшкова о выраженном императором Александром милостивом желании, чтобы поэт, оставаясь на службе, пользовался отпуском и содержанием и посвящал бы себя литературным трудам впредь до того времени, когда восстановленное здоровье дозволит ему снова возвратиться к служебным занятиям {Дело о службе Батюшкова в архиве министерства иностранных дел; ср.: Соч., т. III, с. 572.}. Столь высокое внимание к дарованиям Батюшкова и к его разрушенному здоровью заставляет предполагать, что его петербургские друзья деятельно предстательствовали за несчастного поэта пред графом Нессельроде, который исходатайствовал ему царскую милость. Глубоко тронутый ею, Константин Николаевич по получении письма графа поспешил выразить ему то чувство признательности к государю, которое внушало ему это известие {Соч., т. III, с. 575.}. Затем он оставил Дрезден и отправился в отечество.
Константин Николаевич приехал в Петербург весною 1822 года и вскоре по прибытии обратился к графу Нессельроде с просьбой разрешить ему поездку в Крым и на Кавказ {Там же, с. 576.}; как и прежде, он еще питал убеждение, что климат юга необходим, чтобы сохранить его все более и более слабеющие силы. Просимое разрешение было немедленно дано, и Батюшков уехал на Кавказские минеральные воды. О пребывании его там не сохранилось никаких известий; но в течение всего 1822 года он не возвращался на север. Между тем стали распространяться слухи о том, что его ипохондрия превращается в совершенное расстройство ума. Пушкин с ужасом узнал о том в Кишиневе в июле 1822 года и не хотел верить полученному известию {Соч. Пушкина, 8-е изд., т. VII, с. 84.}. В августе 1822 года Константин Николаевич переселился в Крым и на всю следующую зиму остался в Симферополе. М.Ф. Орлов, часто видавший здесь нашего поэта, убедился в свойстве его недуга еще в конце 1822 года и подтвердил Пушкину печальное известие {Там же, с. 91.}. В начале следующего года обнаружились такие проявления душевной болезни Батюшкова, после которых потребовался усиленный надзор за страдальцем. Вот что рассказывает о пребывании Батюшкова в Симферополе находившийся там на службе и давно знавший его Н.В. Сушков: "Константин Николаевич несколько месяцев гостил в Крыму. Вначале не видно было в нем большой перемены. Только пуще, нежели прежде, он дичился незнакомых людей и убегал всякого общества. Мы видались почти каждый день. Он охотно беседовал о былом, любил говорить о Жуковском, о А.И. Тургеневе, о Карамзине, Муравьевых, Крылове, вспоминал разные своего времени стихотворения, всего чаще читал нараспев:
О, ветер, ветер, что ты вьешься?
Ты не от милого ль несешься?
"Однажды застаю я его играющим с кошкой. "Знаете ли, какова эта кошка, - сказал он мне, - препо-нятливая! Я учу ее писать стихи - декламирует уже преизрядно". Ласковая кошка между тем мурлычит свою песню, то зорко взглядывая и поталкиваясь головою, то скрывая и выпуская когти, то извиваясь с боку на бок и помахивая пушистым хвостом. Несколько дней позже стал он жаловаться на хозяина единственной тогда в городе гостиницы, что будто бы тот наполняет горницу и постель его тарантулами, сороконожками и сколопандрами. Недели через полторы вздумалось ему сжечь дорожную библиотеку - полный колясочный сундук прекраснейших изданий на французском и итальянском языках. Оставил из них только две книги, вероятно - по каким-нибудь воспоминаниям, и какие же? "Павел и Виргиния" да "Атала" и "Рене". Он подарил их мне. Вскоре после этого болезнь его развилась, и в припадках уныния он три раза посягал на свою жизнь: в первый пытался перерезать себе горло бритвою, но рана была не глубока и ее скоро заживили; во второй пробовал застрелиться, зарядил ружье, взвел курок, подвязал к замку платок и стоя потянул петлю коленкой, - заряд ударился в стену; наконец, он отказался от пищи: недели две, если не больше, оставался тверд в своей печальной решимости. Природа, однако же, взяла свое: голод победил упорство" {"Обоз к потомству с книгами и рукописями", статья Н.В. Сушкова в 3-й книге изданного им сборника "Раут". М., 1854, с. 278, 279.}.
В Петербург, где в то время А.Н. Батюшкова гостила у Е.Ф. Муравьевой, сперва достигали только смутные вести о Константине Николаевиче. Родным и друзьям Батюшкова было известно, что он живет в Крыму и что его здоровье не поправилось, но отсутствие более обстоятельных сведений повергало всех близких в тревогу. Первым встрепенулся князь Вяземский: самому Константину Николаевичу он отправил из Москвы письмо самого невинного содержания, в тоне их прежней приятельской переписки, а Жуковскому предложил ехать на юг за их общим другом. "Если есть еще прежняя дружба, - говорил князь Василию Андреевичу, - то поедем за ним. Ты можешь отпроситься легко в отпуск, а я отпрошусь у обстоятельств, и совершим доброе дело" {См. письмо Вяземского к Жуковскому, от 4 января 1823 г.}. Прежняя дружба была, конечно, свежа в сердце Жуковского, но, удрученный своими семейными делами, он не мог последовать призыву Вяземского. Вместо двух приятелей поехал в Крым шурин Батюшкова, П.А. Шипилов, женатый на его сестре Елизавете Николаевне. Кроме того, отправлявшийся туда же старый приятель Жуковского Д.А. Кавелин взялся наведаться к Батюшкову в Симферополь. Письма их подтвердили те прискорбные известия, которые прежде доходили в Петербург; умом Батюшкова неотступно владела мысль, что он окружен врагами, которые ищут его гибели, и заставляла его избегать всякого общества; на предложение Шипилова ехать с ним вместе в Петербург он отвечал решительным отказом {Письма Д.А. Кавелина и П.А. Шипилова.}. Точно так же мало оказало действия письмо к Константину Николаевичу от графа Нессельроде с вызовом в столицу. После того, как в припадках душевного расстройства больной стал покушаться на свою жизнь, таврический губернатор Н.И. Перовский известил графа Нессельроде об отчаянном состоянии Константина Николаевича и вслед затем, при помощи пользовавшего его врача, почтенного Ф.К. Мюльгаузена, решился отправить Батюшкова в Петербург. Только после больших усилий удалось посадить его в дорожный экипаж. Для сопровождения больного назначен был инспектор Таврической врачебной управы доктор П.И. Ланг {Подробности об отправлении Батюшкова в Петербург см. в письмах Н.И. Перовского к гр. Нессельроде.}.
В Петербурге больной был сдан на руки Е.О. Муравьевой. На лето она переселилась на дачу на Карповке, а так как Константин Николаевич дичился людей и избегал встречаться с кем-либо, то ему наняли особое помещение на другом берегу речки, в доме г-жи Аллер. У него был там небольшой садик, в котором он любил гулять, но всегда один. Он не желал видеть ни Екатерины Федоровны, ни сестры, и Александра Николаевна решалась посмотреть на брата только с балкона в квартире самой хозяйки {Из письма О.Ф. Бородиной к П.Н. Батюшкову. Г-жа Бородина жила в то время у Е Ф. Муравьевой.}. Иногда он занимался рисованием, а на стенах и окнах чертил надписи, и в числе их две были следующие: "Ombra adorata!" и "Есть жизнь и за могилой!" {Рус. Архив, 1879, кн. II, с. 478.} Изредка друзья - Жуковский, Блудов, Гнедич - пытались навещать больного. Первого из них Константин Николаевич даже сам выражал желание видеть {Соч. Жуковского, 7-е изд , т. VI, с. 448; ср. письмо Блудова к Жуковскому.}. Князь Вяземский, приезжавший в Петербург в июне 1823 года, также посетил Батюшкова в его уединении. Он ему обрадовался и оказал ласковый и нежный прием. Но вскоре болезненное и мрачное настроение пересилило минутное светлое впечатление. Желая отвлечь его и пробудить, приятель обратил разговор на поэзию и спросил его: не написал ли он чего нового? "Что писать мне и что говорить о стихах моих! - отвечал он. - Я похож на человека, который не дошел до цели своей, а нес он на голове красивый сосуд, чем-то наполненный. Сосуд сорвался с головы, упал и разбился в дребезги. Поди, узнай теперь, что в нем было!" {Полн. собр. соч. кн. Вяземского, т. VIII, с. 481.}
По свидетельству друзей, Батюшков и в состоянии душевного расстройства поражал иногда умными замечаниями и разговорами, и, быть может, это обстоятельство было причиной, что родные долго не решались подвергнуть его систематическому лечению. В Петербурге его пользовал доктор Мюллер; наконец, в первой половине 1824 года по совету этого врача положено было отправить Константина Николаевича в заведение для душевнобольных, находящееся в Зонненштейне, близ города Пирны в Саксонии. Государь Александр Павлович пожаловал пятьсот червонцев на препровождение больного, которому притом было сохранено прежнее его содержание. Батюшков выразил около этого времени желание постричься в монашество; этим обстоятельством воспользовались, чтобы сообщить ему волю государя о том, что прежде пострижения он должен ехать лечиться в Дерпт, а может быть, и далее. Жуковский проводил Батюшкова до Дерпта, вместе с доктором Бауманом, которого Жуковский рекомендовал известному врачу И.-Фр. Эрдману, сперва бывшему профессором в Казани и в Дерпте, а потом перешедшему в саксонскую службу. Но пристроить больного в Дерпте не удалось, и он был отправлен за границу. Александра Николаевна Батюшкова поехала туда же вслед за братом.
В Зонненштейне Константин Николаевич был помещен не в казенной больнице, а в частном психиатрическом заведении доктора Пирница, директора зонненштейнского дома умалишенных. Лечение Батюшкова в этом заведении продолжалось четыре года. Он пользовался внимательным уходом врачей. Порою проявлялось в нем сильное возбуждение, порою упадок сил; любимое его занятие в спокойные минуты составляли рисование и лепка из воска; книг он не читал и рвал их в клочья; иногда, однако, вспоминал он о своем поэтическом таланте, который признавал теперь утраченным, и говорил о Тассе, Шатобриане и Байроне. Александра Николаевна почти все время пребывания брата у доктора Пирница не покидала Пирны и часто ездила в Зонненштейн, но редко была допускаема к брату. Кроме того, почти все время пребывания Батюшкова в Саксонии жила в Дрездене Е.Г. Пушкина, и теперь сохранившая к больному поэту дружбу, которая некогда связывала их; она иногда навещала его и своим мирным влиянием умела успокаивать его болезненные порывы. Наконец, в течение тех же четырех лет были в Дрездене проездом А.И. и С.И. Тургеневы и Жуковский. Последний также ездил в Зонненштейн и навещал там Батюшкова. Маленькое письмо больного, написанное им к Жуковскому из больницы доктора Пирница, доказывает, что и в состоянии полного душевного расстройства, когда он высказывал ненависть ко всем окружающим и к большей части прежде близких ему людей, он сохранял доброе чувство к старому другу; однако впоследствии и к Василию Андреевичу он стал относиться враждебно; те же чувства выражал он теперь к графу Капо д'Истриа и к Карамзину, о смерти которого не знал {Со своей стороны Карамзин сохранил до самой смерти теплое воспоминание о Батюшкове. Вот что рассказывает К.С Сербинович "Однажды Николай Михайлович взял стихотворения Батюшкова после известия о безвозвратной потере его для литературы и общества. Он раскрыл книгу и читал вслух, что первое попалось на глаза, читал тихим и ровным голосом; лицо не менялось, но глаза постепенно делались влажны, и наконец слеза, скатившаяся по лицу, остановила чтение. Живо и глубоко чувствовал он несчастие своих друзей" (Погодин. Ник. М. Карамзин, ч. II, с. 327).}. В отношении к Александре Николаевне Жуковский и Е.Г. Пушкина были лучшими утешителями и своим искренним участием облегчали ее безысходное горе.
Четырехлетнее пребывание Батюшкова на попечении доктора Пирница не принесло облегчения больному. Напротив того, выяснилось, что недуг его неизлечим. Поэтому в половине 1828 года решено было перевезти его обратно в Россию. Он был поручен попечениям доктора Дитриха, который еще с марта 1828 года наблюдал за ним в Зонненштейне, затем доставил его в Россию и прожил при нем в Москве более полутора года. Возвращение в отечество было приятно больному, но не подействовало на него успокоительно. В это время Е.Ф. Муравьева жила в Москве, и у нее в доме опять поселилась А.Н. Батюшкова. Константину Николаевичу наняли особый домик в Грузинах, в переулке Тишине, где жил при нем для надзора доктор Дитрих. На излечение больного была утрачена всякая надежда, и главною задачей врачебного надзора стало успокоение его бурных порывов. Благодаря попечениям умного, внимательного и обходительного Дитриха цель была достигнута, но и то в очень малой степени: больного по-прежнему приходилось держать в отлучении от всего живого мира. Появление Е.Ф. Муравьевой приводило его большею частью в раздражение, но иногда он узнавал ее и обходился с нею ласково. Попытка князя Вяземского завести с ним переписку также была встречена им недружелюбно. Однажды Вяземский привез в дом, где жил Батюшков, А.Н. Верстовского, который, оставаясь в комнате доктора Дитриха, стал играть на фортепиано; это также не понравилось Константину Николаевичу. Но другой подобный опыт оказался удачнее: в одной из комнат был помещен небольшой хор, исполнивший несколько песен; Батюшков выслушал его не без удовольствия. Всенощная, отслуженная в его доме по желанию Е.Ф. Муравьевой, произвела на него сильное впечатление; но когда после службы присутствовавший при ней А.С. Пушкин вошел в комнату больного, последний не узнал его, как, впрочем, не узнавал обыкновенно и других лиц, хорошо ему знакомых в прежнее время {Все эти подробности извлечены из дневника, веденного доктором Дитрихом во время путешествия его с Батюшковым из-за границы и в бытность его в Москве при больном. Копия с этого дневника хранится в Императорской Публичной Библиотеке.}. А.Н. Батюшкова уже не могла видеть брата: в 1829 году ее постиг тот же недуг, которым он страдал.
Весною 1829 года доктор Дитрих уехал из России, оставив для сведения других врачей замечательную записку о болезни Константина Николаевича; она служит доказательством не только его попечений о больном, но и того, что он вдумался в характер его личности и оценил его преждевременно погибшее дарование. Дитрих сам был немножко поэтом; он научился по-русски, и в числе его литературных трудов есть переводы русских стихотворений; из произведений Батюшкова он перевел "Послание к Пенатам".
Константин Николаевич, несмотря на свою неизлечимую болезнь, числился на службе по министерству иностранных дел до самого 1833 года и получал свое прежнее жалованье. В 1883 году он был совершенно уволен от службы и волею императора Николая Павловича ему была назначена пенсия в две тысячи рублей. Жуковский принимал немалое участие в исходатайствовании этой царской милости своему старому другу. В том же году Константин Николаевич был перевезен в Вологду и помещен в семье своего племянника Гр. А. Гревенса. С тех пор старые друзья Батюшкова совсем потеряли его из виду. А между тем мало-помалу редел и их круг: в 1833 году умерли Н.И. Гнедич и Е.Г. Пушкина, в 1839 - Д.В. Дашков, в 1845 - А.И. Тургенев, в 1848 - Е.Ф. Муравьева, в 1851 - Е.А. Карамзина. Жуковский с 1841 года поселился за границей и не возвращался в отечество. Еще в 1834 году издано было Собрание сочинений Батюшкова, которое осталось неизвестно их еще живому автору; сам он стал уже совершенно чуждым действующему литературному поколению. Всех живее хранил память о Батюшкове тот из его друзей, с которым, по сознанию самого поэта, он был всех чистосердечнее {Соч., т. III, с. 414.}: в 1850 году князь Вяземский во время своей поездки к Святым Местам помолился о больном друге в иерусалимском греческом монастыре Св. Георгия, а в следующем напечатал воспоминание о нем по случаю издания, в "Москвитянине", двух автобиографических отрывков Батюшкова {Полн. собр. соч. кн. Вяземского, т. IX, с. 273; т. II, с. 413-417.}; в 1853 году князь Вяземский посетил Зонненштейн, и эта поездка внушила ему следующие грустные строки:
Прекрасен здесь вид Эльбы величавой,
Роскошной жизнью берега цветут;
По ребрам гор дубрава за дубравой,
За виллой вилла, летних нег приют.
Везде кругом из каменистых рамок
Картины блещут свежей красотой;
Вот на утес перешагнувший замок
К главе его прирос своей пятой.
Волшебный край, то светлый, то угрюмый,
Живой кипсек всех прелестей земли!
Но облаком в душе засевшей думы
Развлечь, согнать с души вы не могли.
Я предан был другому впечатленью:
Любезный образ в душу налетал,
Страдальца образ - и печальной тенью
Он красоту природы омрачал.
Здесь он страдал, томился здесь когда-то,
Жуковского и мой душевный брат,
Он, песнями и скорбью наш Торквато,
Он, заживо познавший свой закат.
Не для его очей цвела природа,
Святой глагол ее пред ним немел;
Здесь для него с лазоревого свода
Веселый день не радостью горел.
Он в мире внутреннем ночных видений
Жил взаперти, как узник средь тюрьмы,
И был он мертв для внешних впечатлений,
И Божий мир ему был царством тьмы.
Но видел он, но ум его тревожил -
Что созидал ума его недуг, -
Так бедный здесь лета страданья прожил,
Так и теперь живет несчастный друг3.
3 В дороге и дома. Собрание стихотворений кн. П. А. Вяземского. М., 1862, с. 116, 117.
О годах жизни Батюшкова в Вологде предоставим рассказать очевидцу, одному из внуков покойного, П. Гр. Гревенсу {Статья П.Гр. Гревенса напечатана в Вологодских губернских ведомостях 1855 г , NoNo 42 и 43; часть этой статьи перепечатана в Рус Старине, 1883, т XXXIX, с. 544-550}:
"В последние двадцать два года жизни нравственное состояние Константина Николаевича значительно изменилось к лучшему: бывали дни, в которые, казалось, воскресал прежний Батюшков; но как скоро рождались эти надежды, так же скоро они и улетали, оставляя по себе одно сладостное, неизгладимое воспоминание во всех окружавших. По приезде его в 1833 году Константин Николаевич был почти неукротим и сильно страдал нервным раздражением; малейшая безделица приводила его в исступление; но постоянное кроткое, предупредительное обхождение постепенно смягчали старца. Душевное его расстройство было так велико, что он боялся зеркал, света свечи, а о том, чтобы увидеть кого-нибудь, не хотел и думать, и в эти печальные дни бывали с незабвенным Константином Николаевичем ужасные пароксизмы: он рвал на себе платье, не принимал никакой пищи, и только спасительный сон укрощал его возмущенный организм. Но лет десять тому назад начала в нем обнаруживаться значительная перемена к лучшему: он стал гораздо кротче, общительнее, начал заниматься чтением, и страсть его к чтению постоянно усиливалась до самой кончины. Любимыми авторами его были М.Н. Муравьев, Карамзин, Измайлов, Крылов, Капнист и Кантемир. Очень часто случалось, что он цитировал целые страницы Державина на память, которая ему не изменяла до последних дней. Говоря о своих походах, он всегда вспоминал о Денисе Васильевиче Давыдове, превозносил похвалами его историческую отвагу, с грустью говорил о бывших своих начальниках, генералах Бахметеве и Раевском, в особенности о последнем. Из друзей своих чаще всего упоминал о Жуковском, Тургеневе и князе Вяземском и всегда с особенною любовью отзывался о Карамзине и обо всем его семействе, которое называл родным себе. Неизменный в любви своей к природе, он не переставал жить ею: собирание цветов и рисование их с натуры составляло любимейшее его занятие. Иногда выходили из-под его кисти и пейзажи; но что-то печальное отражалось на его рисунке и характеризовало его моральное состояние. Луна, крест и лошадь - вот непременные принадлежности его ландшафтов. Глубокое знание языков французского и итальянского не оставляло его никогда, и весьма часто, сидя один, цитировал он целые тирады из Тасса.
День его обыкновенно начинался очень рано. Вставал он часов в пять летом, зимою же часов в семь, затем кушал чай и садился читать или рисовать; в 10 часов подавали ему кофе, а в 12-ть он ложился отдыхать и спал до обеда, то есть часов до 4-х, опять рисовал или приказывал приводить к себе маленьких своих внуков, из которых одного чрезвычайно любил, и когда тот умер, то горевал очень долго о потере, как он сам говорил, "своего маленького друга". Требовал, чтобы ему поставили памятник со следующею надписью:
Il etait de се monde, ou les plus belles choses
Ont le pire destin, Et rose, il a vecu ce que vivent les roses,
L'espace d'un matin
"Малютка этот похоронен в Прилуцком монастыре, куда Константин Николаевич часто ездил гулять и дышать чистым воздухом. Живя летом в деревне, он одну ночь проводил дома, все прочее время постоянно гулял, и это движение много способствовало тому прекрасному состоянию его физического здоровья, которым он пользовался до последних дней своей жизни".
В 1841 году ездил в Вологду М.П. Погодин. Он посетил Батюшкова и в своем дорожном дневнике, под 23 августа, записал о нем следующее: "Отправился к Батюшкову, по вызову священника, в чьем доме он живет. Прекрасные комнаты... Константин Николаевич провел ночь нехорошо. Священник и г. П. советовали мне встретиться с ним на прогулке, в саду над рекою, куда он сейчас должен идти. Получив сведения от них об его состоянии и несколько рисунков его работы, я отправился в сад. Через час я вижу и Батюшкова. Он совершенно здоров физически, но поседел, ходит быстро и беспрестанно делает жесты твердые и решительные; встретился с ним два раза, а более боялся, чтоб не возбудить в нем подозрения" {"Москвитянин", 1842, кн. 8, с. 281, 282.}.
Более счастливо было свидание с Константином Николаевичем С.П. Шевырева, посетившего Вологду в 1847 году. "Директор местной гимназии, А.В. Башинский, - рассказывает Шевырев, - повез меня к начальнику удельной конторы Г.А. Гревенсу, в доме которого живет Константин Николаевич Батюшков, окруженный нежными заботами своих родных. Болезненное состояние его перешло в более спокойное и неопасное ни для кого. Небольшого росту человек сухой комплекции, с головкой совсем седою, с глазами, ни на чем не остановленными, но беспрерывно разбегающимися, со странными движениями, особенно в плечах, с голосом раздраженным и хрипливо-тонким, предстал предо мною. Подвижное лицо его свидетельствовало о нервической его раздражительности. На вид ему лет 50 или более. Так как мне сказали, что он любит италиаянский язык и читает иногда на нем книги, то я начал с ним говорить по-италиански, но проба моя была неудачна. Он ни слова не отвечал мне, рассердился и быстрыми шагами вышел из комнаты. Через полчаса однако успокоился, и мы вместе с ним обедали. Но кажется, все связи его с прошедшим уже разорваны. Друзей своих он не признает. За обедом в разговоре он сослался на свои "Опыты в прозе", но в такой мысли, которой там вовсе нет. Говорят, что попытка читать перед ним стихи из "Умирающего Тасса" была так же неудачна, как и моя проба говорить с ним по-италиански. Я упомянул, что в Риме, на piazza del Popolo, русские помнят дом, в котором он жил, и указывают на его окна. Казалось, это было для него не совсем неприятно. Также прочли ему когда-то статью об нем, напечатанную в "Энциклопедическом Лексиконе" {Т. V, с. 96, 97, ст. В.Т. Плаксина.}: она доставила ему удовольствие. Как будто любовь к славе не совсем чужда его чувствам поэта, при его умственном расстройстве!
"Батюшков очень набожен. В день своих имянин и рожденья он всегда просит отслужить молебен, но никогда не даст попу за то денег, а подарит ему розу или апельсин. Вкус его к прекрасному сохранился в любви к цветам. Нередко смотрит он на них и улыбается. Любит детей, играет с ними, никогда ни в чем не откажет ребенку, и дети его любят. К женщинам питает особенное уважение: не сумеет отказать женской просьбе. Полное внимание имеет на него родственница его Елизавета Петровна Гревенс: для нее нет отказа ни в чем. Нередко гуляет. Охотно слушает чтение и стихи. Дома любимое его занятие - живопись. Он пишет ландшафты. Содержание ландшафта почти всегда одно и то же. Это элегия или баллада в красках; конь, привязанный к колодцу, луна, дерево, более ель, иногда могильный крест, иногда церковь. Ландшафты писаны очень грубо и нескладно. Их дарит Батюшков тем, кого особенно любит, всего более детям. Дурная погода раздражает его. Бывают иногда капризы и внезапные желания. В числе несвязных мыслей, которые выражал Батюшков в разговоре с директором гимназии, была одна, достойная человека вполне разумного, что свобода наша должна быть основана на евангельском законе" {Шевырев. Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. М., 1850, ч. I, с. 109, 110.}.
Одновременно с С.П. Шевыревым посетил Вологду Н.В. Берг и также оставил свои воспоминания о встрече с Батюшковым. При первом своем появлении в доме Гр. А. Гревенса Берг произвел неприятное впечатление на нечаянно увидевшего его Константина Николаевича: больной не любил и сердился, когда приходили на него смотреть. Но потом это впечатление сгладилось, и он пил утренний чай и кофе вместе с гостем. "Тут, - рассказывает Н.В. Берг, - я старался рассмотреть как можно лучше черты его лица. Оно тогда было совершенно спокойно. Темно-серые глаза его, быстрые и выразительные, смотрели тихо и кротко. Густые, черные с проседью брови не опускались и не сдвигались. Лоб разгладился от морщин. В это время он нисколько не походил на сумасшедшего. Как ни вглядывался я, никакого следа безумия не находил на его смирном, благородном лице. Напротив, оно было в ту минуту очень умно. Скажу здесь и обо всей его голове: она не так велика; лоб у него открытый, большой; нос маленький, с горбом; губы тонкие и сухие; все лицо худощаво, несколько морщиновато; особенно замечательно своею необыкновенною подвижностью; это совершенная молния; переходы от спокойствия к беспокойству, от улыбки к суровому выражению чрезвычайно быстры. И весь вообще он очень жив и даже вертляв. Все, что ни делает, делает скоро. Ходит также скоро и широкими шагами. Глядя на него, я вспомнил известный его портрет; но он теперь почти не похож, и тот полный лицом, кудрявый юноша ничуть не напоминает гладенького, худенького старичка... Допив кофе, (он) встал и начал опять ходить по зале; опять останавливался у окна и смотрел на улицу; иногда поднимал плечи вверх; что-то шептал и говорил; его неопределенный, странный шепот был несколько похож на скорую, отрывистую молитву. И может быть, он в самом деле молился, потому что иногда закидывал назад голову и, как мне показалось, смотрел на небо; даже мне однажды послышалось, что он сказал шепотом: "Господи!.." В одну из таких минут, когда он стоял таким образом у окна, мне пришло в голову срисовать его сзади. Я подумал: это будет Батюшков без лица, обращенный к нам спиной, - и я, вынув карандаш и бумагу, принялся как можно скорее чертить его фигуру; но он скоро заметил это и начал меня ловить, кидая из-за плеча беспокойные и сердитые взгляды. Безумие опять заиграло в его глазах, и я должен был бросить работу" {Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь, ч. 1, с. 111-114. Там же помещен набросок Н В. Берга, изображающий Батюшкова, как он им описан перед окном.}.
События Восточной войны 1853-1855 годов чрезвычайно занимали Константина Николаевича. Он следил за ними по русским и иностранным газетам (из последних особенно любил "L'Endependance beige") и по карте военных действий; осуждал политику Наполеона III и бранил турок. Военные события этих годов напоминали ему те войны, в которых он сам участвовал, и это давало ему повод говорить о сражениях под Гейльсбергом, где он был ранен, и под Лейпцигом, где убит был друг его Петин; церковь и могильный крест, которые он любил рисовать, также были воспоминанием о товарище его молодости.
О последних днях Батюшкова передадим словами П.Гр. Гревенса: "Тифозная горячка, которая унесла в могилу Константина Николаевича, началась 27 июня; но никто из окружающих его не мог думать, чтоб она приняла такой печальный исход. В период времени от начала болезни до дня кончины Константин Николаевич чувствовал облегчение, за два дня до смерти даже читал сам газеты, приказал подать себе бриться и был довольно весел; но на другой день страдания его усилились, пульс сделался чрезвычайно слаб, и 7 июля 1855 года он умер в 5 часов пополудни. Конец его был тих и спокоен. В последние часы его жизни племянник Гр. А. Гревениц стал убеждать его прибегнуть к утешениям веры; выслушав его слова, Константин Николаевич крепко пожал ему руку и благоговейно перекрестился три раза. Вскоре после этого Константин Николаевич уснул сном праведника" {Вологодские губ. Ведомости, 1855, No 14.}.
Константин Николаевич погребен в Спасо-Прилуцком монастыре, в 5-ти верстах от Вологды. Погребение происходило 10 июля; гроб поэта провожали до могилы епископ Вологодский и Устюжский Феогност с городским духовенством и многие вологжане. Литургия и отпевание были совершены самим преосвященным, а над могилой протоиерей Прокошев произнес надгробное слово.
Батюшков пережил большую часть своих сверстников на поприще словесности; но, остановленный в своем развитии тяжким недугом, он прекратил литературную деятельность раньше всех тех, с кем вместе начал ее. В тридцатичетырехлетний период его душевной болезни русская литература совершенно преобразилась; первые действительные успехи того славного гения, которому она обязана этим переворотом, совпадают с концом творческой жизни Батюшкова. В этом случайном совпадении есть тесная внутренняя связь: Батюшков был ближайшим предшественником Пушкина в некоторых отношениях. Совершенство Пушкинского стиха было подготовлено мастерским стихом Батюшкова. Скажем более: не равняя дарования обоих поэтов, нельзя не признать некоторых общих черт в характере их творчества. "Пушкин, - говорят нам, - внес в наше образование начало художественное, начало чистой поэзии... Пушкин... впервые в истории нашего умственного образования коснулся того, что составляет основу жизни, коснулся индивидуального, личного существования, русское слово в лице Пушкина нашло путь к жизни и приобрело способность выражать действительность в ее внутренних источниках. До него поэзия была делом школы; после него она стала делом жизни, ее общественным сознанием" {М.Н. Катков. Пушкин. - "Русский Вестник", 1856, т. II, с. 284.}. Но еще до Пушкина Жуковский и Батюшков выходили уже на тот путь, по которому так победоносно прошел он. Оба они также стремились освободить нашу поэзию от влияния школы, и оба не без успеха. Вспомним, что некоторые мотивы поэзии Жуковского, его романтический идеализм воспитывали по-своему и увлекали читателей довольно долго даже и в Пушкинский период. Но Жуковский в своем творчестве был менее самостоятелен, чем Батюшков: миросозерцание Жуковского, очень рано сложившееся, очень определенное в своем содержании, слишком отзывалось своим происхождением с чужой почвы. У Батюшкова нет такой цельности миросозерцания; в нем в известную пору виден крутой поворот поэтической мысли; но самое это развитие свидетельствует о большей самобытности и большей силе его таланта. Батюшков, как позже Пушкин, стремился найти основу для своего творчества в действительности, в непосредственном круге своих впечатлений. Свойство его таланта было исключительно лирическое, и в этом заключается и слабость его, и сила: слабость - потому, что лирическим отношением к действительности не исчерпывается воссоздание жизни в поэзии; сила - потому что в сфере лирики он сумел коснуться самых глубоких, самых чувствительных струн сердца; сила его таланта сказалась и в его объективности: поэт, раскрывший нам тайну своего разочарования в элегиях 1815 года и в "Умирающем Тассе", мог в то же время проникнуться светлым миросозерцанием древности и написать "Вакханку" и подражания греческой Антологии.
Говорят, что поэзия Батюшкова "почти лишена содержания" {Соч., т. VI, с. 49.}, и что она "безлична в смысле народности" {Речь И. С. Аксакова на юбилейном Пушкинском празднике в Москве 7 июня 1880 года. - Рус. Архив, 1880, кн. II, с. 471.}. Правда, поэт наш не задавался намерением развивать в своих стихах философские тезисы; но отрицать присутствие живой мысли в его произведениях несправедливо: если в пьесах молодой поры он не идет далее выражения ходячих в его время понятий горацианского эпикуреизма, то в стихотворениях своего зрелого периода изображает страдания своей надломленной жизнью души: обманувшие его мечты о счастье вызвали его горькое разочарование, и это тяжелое душевное состояние, это сознание разлада между идеалом и действительностью впервые сказалось в русской лирике - в стихах Батюшкова. В молодости он обнаруживал некоторую наклонность к сатире; но он отказался от нее, когда талант его освободился от подражательности, и, конечно, был прав: сознательно ограничив пределы своего творчества, он создал свои лучшие произведения. Горе художнику, который ищет мотивов для своих произведений вне своей души и своего внутреннего настроения!
Упрек в недостатке народности может быть обращен к Батюшкову не в большей мере, чем к другим современным ему поэтам: попытки Жуковского затронуть народные мотивы имеют чисто внешний характер, и, может быть, Батюшков сознательно воздерживался от соблазна ступить на этот скользкий путь; русские бытовые черты чрезвычайно редки в его поэзии; напомним, однако, очень удачный - и смелый для своего времени - образ "калеки-воина" в "Послании к Пенатам". Зато непосредственное хранилище народности русский язык является в его руках послушным уже орудием: искусство владеть им никому из современников, кроме Крылова, не было доступно в такой мере, как Батюшкову, и только после него доведено было до высшей степени совершенства Пушкиным и Грибоедовым. Упоминаем имя автора "Горя от ума" потому, что до него только сказка Батюшкова "Странствователь и домосед" вместе с баснями Крылова может быть приведена в образец простой поэтической речи. Другого характера поэтический слог и язык - в элегиях, посланиях и антологических пьесах Батюшкова - подготовил способ выражения в подобных стихотворениях Пушкина.
Как в действительной жизни Батюшков обнаружил способность только к поэтическому творчеству, так и в искусстве он был чистым художником. Он не хотел знать за собою никакого другого призвания, а за искусством не признавал узкопрактических целей. Но ясно понимал его высокое, облагораживающее и потому полезное значение. Сознательность поэтического творчества составляет его отличительную черту. И в этом отношении Батюшков стоял впереди большинства литературных деятелей своего времени и был ближе, чем к ним, к следующему поколению писателей.
Таким образом, и в разработке внешней поэтической формы, и в деле внутреннего развития поэтического творчества, наконец, и в отношениях поэзии к обществу художественная деятельность Батюшкова представляет счастливые начатки того, что получило полное осуществление в деятельности гениального Пушкина; потому-то Пушкин и признавал так открыто свое духовное родство с Батюшковым. Великий преемник заслонил собою даровитого предшественника; но Батюшков не может быть забыт в истории русской художественной словесности. При блеске солнца меркнет бледная луна; но в Божьем мире всему есть свой час и свое место.
1896.