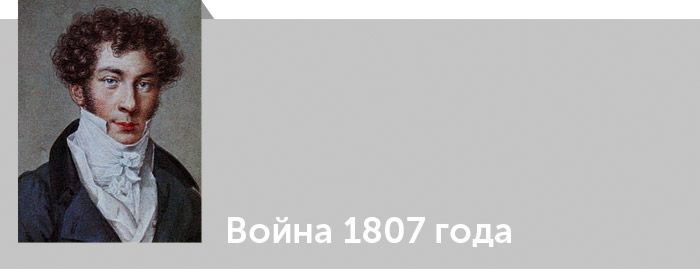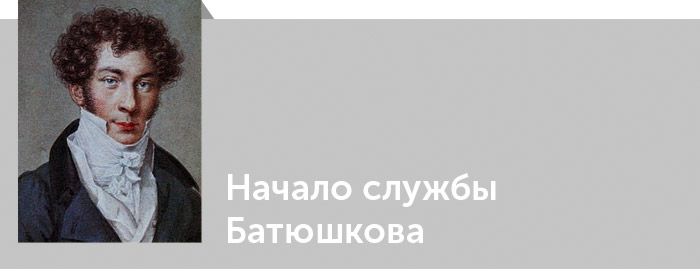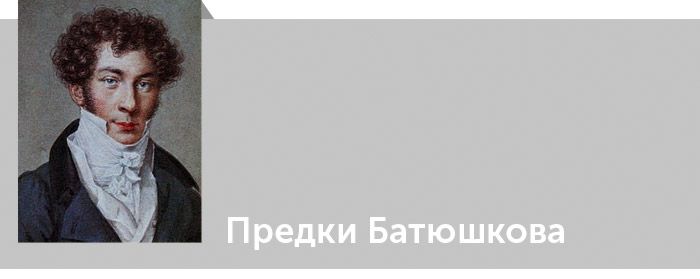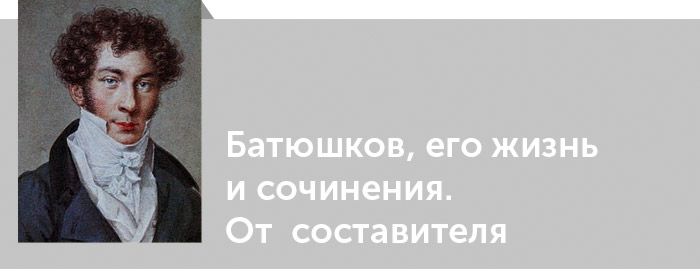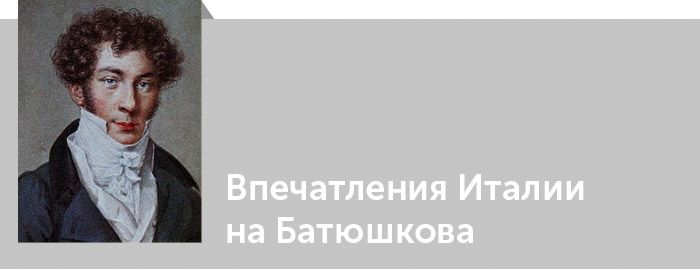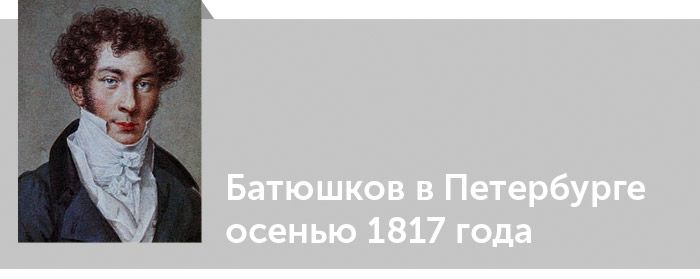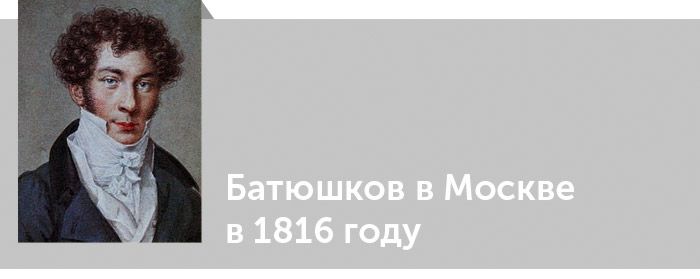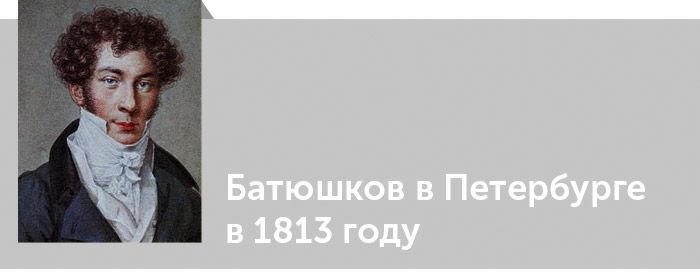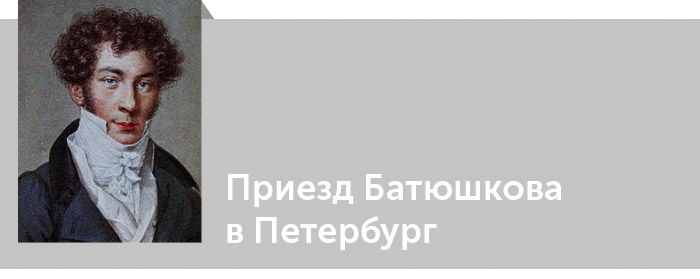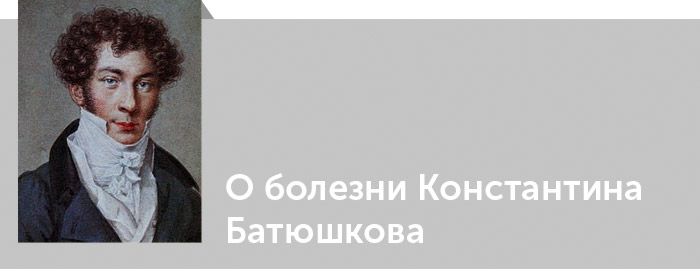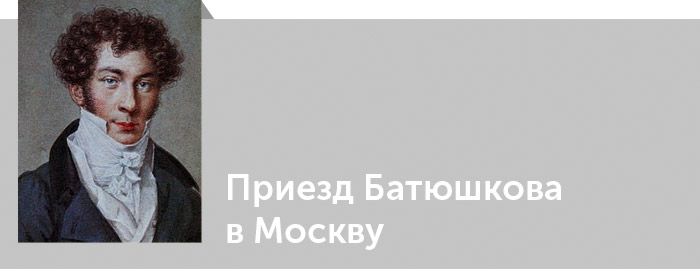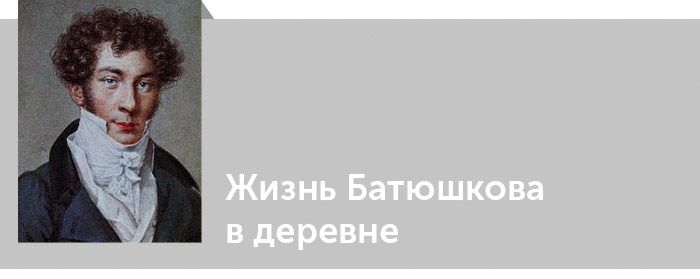Батюшков, его жизнь и сочинения. Батюшков в деревне в 1810 году
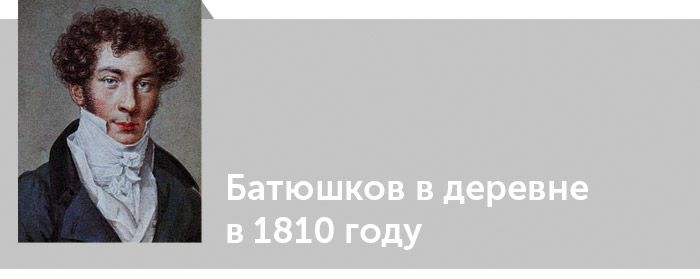
Глава VI
Пребывание Батюшкова в деревне во второй половине 1810 года. - Чтение Монтаня. - Литературные занятия. - Поездка в Москву в 1811 году. - Свидание с московскими приятелями. - Знакомство с Ю.А. Нелединским-Мелецким и Е.Г. Пушкиной. - Жизнь в Хантонове во второй половине 1811 года
С возвращением Батюшкова в свою деревню возобновились столь тягостные для него дни одиночества. Если он мог теперь развлекаться перебором своих московских впечатлений, то воспоминания эти составляли слишком резкую противоположность со скучною обстановкой его жизни в деревенской глуши. Деятельной переписки с московскими друзьями у него пока не завязывалось. Оленин оставлял его письма без ответа {Соч., т. III, с. 63, 67.}, как будто охладел к нему, и только Гнедич по-прежнему поддерживал с ним корреспонденцию; но и в его письмах Батюшков уже не находил той отрады, как прежде: Гнедич журил его за бездействие и никак не мог помириться с тем, что Константин Николаевич сблизился с московскими карамзинистами.
Упрек в бездействии основывался на том, что Батюшков вышел в отставку. Его прошение о том было отправлено еще из Москвы, и в мае месяце он уже был уволен из полка {Соч., т. III, с. 89; формулярный список в архиве Имп. Публ. Библиотеки.}. Планам его о поступлении на дипломатическое поприще Гнедич, по-видимому, не придавал серьезного значения, да и в самом деле планы эти оставались в области весьма смутных надежд; в другую же службу по гражданской части Батюшков по-прежнему ни за что не желал определиться и не раз высказывал это Гнедичу. Все это давало последнему повод для упреков, которые тем больнее были нашему поэту, что он чувствовал в них долю справедливости и сам ясно сознавал неопределенность своего положения; ему приходилось оправдываться пред петербургским другом, и оправдания эти оказывались не совсем убедительными {Там же, с. 101-103.}. У него мелькнула было мысль ехать в Петербург, чтобы лично хлопотать об устройстве своих дел, но домашние обстоятельства задержали его в Хантонове {Там же, с. 103,105.}. Все это волновало и огорчало Константина Николаевича, и для него снова наступили дни уныния и хандры. "Поверишь ли? - писал он в таком настроении Гнедичу. - Я живу здесь четыре месяца и в эти четыре месяца почти никуда не выезжал. Отчего? Я вздумал, что мне надобно писать в прозе, если я хочу быть полезен по службе, и давай писать - и написал груды и еще бы написал, несчастный! И я мог думать, что у нас дарование без интриг, без ползания, без какой-то расчетливости может быть полезно! И я мог еще делать на воздухе замки и ловить дым! Ныне, бросив все, я читаю Монтаня, который иных учит жить, а других ждать смерти" {Соч., т. III, с. 63.}. Словом, и на этот раз Батюшков переживал то же недовольство собою и другими, какое мы уже видели в его прошлогодних жалобах.
Но как ни было уныло его душевное настроение, умственная деятельность его не ослабевала: поэт не покидал ни чтения, ни литературных занятий. Из Москвы он, по-видимому, привез новый запас книг, которые служили обильною пищей для его неслабеющей любознательности. Между прочим, он продолжал изучение итальянских поэтов, но теперь, оставив Тасса, он принялся за Петрарку и познакомился с произведениями Касти; весьма возможно, что на последнего внимание Батюшкова был обращено И.М. Муравьевым-Апостолом, который лично познакомился с Касти во время своих странствований за границей {"Сын Отечества", 1813, ч. IX, No 39, с. 6.}. Из Петрарки и Касти Батюшков перевел в это время несколько пьес, выбирая притом большею частью такие стихотворения, которые по своему содержанию соответствовали его собственному душевному настроению. Так, у Петрарки он взял одну из канцон, посвященных итальянским поэтом памяти Лауры; в переводе Батюшкова она заключается такими стихами:
О песнопений мать, в вертепах
отдаленных,
В изгнаньи горестном утеха дней моих,
О лира, возбуди бряцаньем струн златых
И холмы спящие, и кипарисны рощи,
Где я, печали сын, среди глубокой нощи,
Объятый трепетом, склонился на гранит...
И надо мною тень Лауры пролетит!1
1 Соч., т. I, с. 119.
Это обращение к поэзии Батюшков мог бы высказать и прямо от своего имени, так как творчество было для него в деревенской глуши лучшею отрадой.
Вышеприведенное упоминание о Монтане также служит свидетельством тому, что ход занятий Батюшкова в деревне находился в тесной связи с тогдашним расположением его духа. Константин Николаевич, без сомнения, с ранних лет был знаком со знаменитыми "Опытами" Монтаня; но до 1810 года в деревенской библиотеке нашего поэта не было этой книги {Соч., т. III, с. 45.}; теперь же он с увлечением зачитывался ею и даже собирался переводить отрывки из нее для "Вестника Европы" {Там же, с. 99.}. Причины этого увлечения вполне понятны: в Монтаневых "Опытах" Батюшков находил, изложенное в легкой и привлекательной форме, то самое миросозерцание, которое выработалось у него самого под другими литературными влияниями. Сент-Бев называет Монтаня французским Горацием; и действительно, в образе мыслей этого блестящего представителя французского Ренессанса, упитанного древними и как бы чуждого христианству, мы видим соединение скептицизма с чисто горацианским эпикурейством. Монтань убежден, что человеку не дано знать истину во всей ее полноте: в ограниченности своего познания он может только наблюдать самого себя. Так Монтань и делает: его "Опыты" не содержат в себе цельного философского учения, а представляют лишь ряд заметок по вопросам нравственной философии, основанных на самонаблюдении. Изучая самого себя, Монтан пришел к заключению, что цель человеческой жизни есть наслаждение: человек находит его, подчиняясь естественным влечениям своей природы и свободно удовлетворяя потребностям своей души и тела. Тому же учила и сенсуалистическая философия XVIII века. Поэтому Вольтер высказывает такое же сочувствие Монтаню, какое питал к эпикурейцу Горацию. Это, без сомнения, послужило руководящим указанием для нашего поэта: все три названные писателя были его наставниками в житейской мудрости в его молодые годы.
Батюшков любил ссылаться на свой ранний жизненный опыт; но вопреки тому, чему, казалось бы, должны были научить его неудачи и огорчения, он еще твердо верил в возможность создать свое счастье, посвятив жизнь наслаждению. Гнедич укорял своего друга в лени и побуждал его к труду, который усовершенствовал бы его дарование. "Я гривны не дам, - отвечал ему Батюшков, - за то, чтобы быть славным писателем... а хочу быть счастлив. Это желание внушила мне природа в пеленах" {Соч., т. III, с. 68.}. Между тем действительность слишком часто напоминала ему о себе и болезнями, и хозяйственными неудачами, и безденежьем, и только в области творчества Константин Николаевич мог свободно предаваться своим любимым грезам; зато в этой сфере он всего настойчивее охранял свою независимость и, верно понимая свойство своего таланта, упорно отказывался принимать советы Гнедича, когда тот предлагал ему продолжать перевод Тасса или взяться за Расина, но не переводить Парни {Там же, с. 64, 68, 117.}. Вопреки этим советам Батюшков не покидал французского лирика и, кроме того, с особенным увлечением занимался теперь переделкой любимого произведения своей ранней юности, элегии "Мечта"; особенно разработал он в этом стихотворении характеристику Горация, как представителя эпикурейства, и тем выразил свое сочувствие философии наслаждения.
Счастливая мечта, живи еще со мной! -
восклицает поэт, как бы сознавая сам, что несбыточные надежды на счастье ускользают от него, гонимые печальною действительностью {В первоначальной редакции "Мечты" приведенный стих читался так: Счастливая мечта, живи, живи со мной!}. Батюшкову во что бы то ни стало хотелось продлить еще хотя немного свою вольную жизнь. В то время как Гнедич убеждал его приняться за дело и ехать для того в Петербург, приводя в числе своих доводов даже такое соображение, что в Москве он стал бы писать хуже {Соч., т. III, с. 68.}, Константин Николаевич решился снова отправиться в Москву, где у него не предвиделось никаких удобств для устройства своей карьеры, но где жили милые ему люди, среди которых он мог провести несколько месяцев приятно и весело; в дальнейшем будущем он задумывал совершить поездку на кавказские минеральные воды, чтобы найти в них облегчение от своих болезней {Там же, с. 67, 106.}.
Для начала Константин Николаевич в декабре 1810 года отправился в Вологду, но здесь его постигла новая серьезная болезнь, замедлившая дальнейший путь его; таким образом, до Москвы он добрался только к началу февраля 1811 года и по прежнему примеру остановился у Е. Ф. Муравьевой.
Здесь нескольких приятных впечатлений было достаточно, чтобы восстановить душевную бодрость нашего мечтателя. Встреча с Жуковским и Вяземским убедила его, что московские приятели любят его по-прежнему; из Петербурга также пришли приятные вести: Оленин написал Батюшкову "дружественное" письмо, свидетельствовавшее, что Константин Николаевич может рассчитывать на его содействие в случае приискания должности. Все это побудило Батюшкова известить Гнедича радостным посланием о своем приезде в Москву и о том, что он вскоре собирается в Петербург {Соч., т. III, с. 110-111.}. На самом деле, однако, он не спешил уезжать из древней столицы; он даже закинул Гнедичу слово, что будет отвечать Оленину только месяца через три, "чтобы не уронить своего достоинства и не избаловать его". Попросту сказать, московская жизнь была слишком соблазнительна для нашего поэта и, снова попав в ее круговорот, Батюшков не желал расстаться с нею слишком скоро.
Опять возобновились сходки у Ф.Ф. Иванова и особенно у князя Вяземского, с тем же характером изящного веселья, который так нравился Батюшкову в прошлом году. На дружеские собрания у Вяземского Константин Николаевич намекнул в обращении к нему в своих "Пенатах":
О, Аристиппов внук,
Ты любишь песни нежны
И рюмок звон и стук!
В час неги и прохлады
На ужинах твоих
Ты любишь томны взгляды
Прелестниц записных
И все заботы славы,
Сует и шум, и блажь
За быстрый миг забавы -
С поклонами отдашь!2
2 Там же, т. I, с. 139-140.
Впоследствии Вяземский, вспоминая о своих ранних сношениях с Батюшковым, выразился про себя, что он "жил тогда на ветер" {Полн. собр. соч. кн. Вяземского, т. IX, с. 122.}; но и эта пора веселой молодости имела свое значение в жизни как его собственной, так и тех молодых писателей, которые собирались вокруг него. К сожалению, предание сохранило слишком мало подробностей об этих приятельских сходках. Вместе с Батюшковым постоянными гостями Вяземского по-прежнему были, конечно, Жуковский и В.Л. Пушкин; к ним присоединились теперь и новые лица: A.M. Пушкин, циник и вольтерианец, едкий на язык, но очень ценимый хозяином за свой оригинальный и бойкий ум; Левушка (Л.В.) Давыдов, брат знаменитого Дениса, вероятно сродный ему по уму и дарованиям, так как слыл между приятелями под именем Анакреона {Соч., т. III, с. 155,168.}; Д.П. Северин, питомец И.И. Дмитриева и товарищ Вяземского по учению; С.Н. Марин, петербургский стихотворец и острослов, с поклонением Шишкову соединявший любовь к легким стихам и сочинявший пародии на торжественные оды Ломоносова и Державина {Там же, с. 133; Полн. собр. соч. кн. Вяземского, т. VIII, с 115.}; наконец, гр. Мих. Ю. Виельгорский, талантливый певец и композитор, сочинявший музыку для куплетов, которые пелись на ужинах Вяземского {Там же, с. 155; Полн. собр. соч. кн. Вяземского, т. VIII, с. 343.}; Батюшков был знаком с ним еще со времени своего пребывания в Риге в 1807 году.
Литература составляла господствующий интерес на этих дружеских собраниях. В то время поэтический талант Жуковского уже достаточно окреп и в значительной степени определилось направление его творчества. В ранней юности горячий поклонник Руссо, он был теперь ревностным почитателем германской литературы, в особенности шиллеровского идеализма; воображение его питалось фантастическими образами средневекового мира, душа требовала живой веры; на жизнь он смотрел с возвышенной, всепринимающей точки зрения, в силу которой всякое душевное страдание настоящей минуты находит себе разрешение в твердой надежде на будущее, в вере в жизнь за гробом. Это миросозерцание, равно как влечение Жуковского к германской поэзии, должно было вызывать сильные возражения со стороны его друзей, воспитанных на французской словесности, на рационализме и сенсуализме XVIII века и более склонных искать наслаждения в земных благах. В то время как Жуковский твердил свой любимый оптимистический афоризм: "добра несравненно более, нежели зла" {Загарип. В.А. Жуковский и его произведения, с. 53.}, Батюшков говорил как раз противоположное {Соч., т. III, с. 51.}. Восхищаясь прелестью стихов Жуковского, он осуждал выбор сюжетов в его балладах и посмеивался над его любовью к наивной народной фантастике {Там же, с. 111, 187.}. Он не подозревал, что уже самая форма баллады открывала доступ в поэзию народному элементу. Как видно из прозаического опыта самого Батюшкова, повести "Предслава и Добрыня", русская народность неизбежно облекалась в его представлении в героические образы и величественные картины классического стиля. Мрачные мотивы баллад Жуковского, привидения, мертвецы и тому подобные образы, между прочим, подали однажды повод друзьям к следующей шутке: Вяземский и Батюшков заехали в квартиру Василия Андреевича и, не найдя там ни хозяина, ни слуги, оставили маленький детский гробик, нарочно купленный в ближней гробовой лавке. Слуга Жуковского, возвратившись домой раньше барина, испугался при виде этого неожиданного гостинца, побежал разыскивать Василия Андреевича по всем его знакомым и, наконец отыскав, сказал: "У нас в доме случилось большое несчастие". Разумеется, когда Жуковский узнал, в чем дело, он расхохотался и после журил своих приятелей за их шутку {Сообщено Н.П. Барсуковым со слов кн. П.А. Вяземского (Рус. Архив", 1874, кн. II, с. 1089). В одном из писем 1814 г. Батюшков напоминает Жуковскому то счастливое время, когда автор "Людмилы" "жил у Девичьего монастыря в сладкой беседе с музами". "Всегда, - говорит он, - с удовольствием живейшим вспоминаю и тебя, и Вяземского, и вечера наши, и споры, и шалости, и проказы" (Соч., т. III, с. 303). Это воспоминание нельзя не сблизить с вступлением в "Прогулке в академию художеств", которое будучи написано в форме письма к "старому московскому приятелю" также содержит в себе указания на споры и беседы автора с его приятелем о предметах искусства и литературы.}.
Расходясь с Жуковским во взгляде на предметы творчества, Батюшков, однако, как мы уже знаем, чрезвычайно высоко ценил его поэтическое дарование и художественное чувство: свои собственные произведения он охотно отдавал на его суд и исправление {Соч., т. III, с. 99.}. Вообще это были, так сказать, домашние разногласия кружка, не имевшие влияния ни на дружеские связи его членов, ни на солидарность их мнений относительно общего состояния тогдашней русской литературы. Напротив того, в ту пору, когда в Петербурге окончательно сформировалась Беседа любителей русского слова, этот главный штаб литературного староверства, а в Москве, при университете, подготовлялось образование Общества любителей словесности, когда таким образом противники Карамзина смыкались, чтоб окончательно захватить в свои руки литературное движение, - и среди московских карамзинистов особенно сильно почувствовалась потребность общения и там стали собираться с силами для полемики. Это-то настроение и оживляло тот кружок, центром которого был юноша Вяземский. На его ужинах уже возглашался такой куплет:
Пускай Сперанский образует,
Пускай на вкус Беседа плюет
И хлещет ум в бока хлыстом:
Я не собьюся с панталыка!
Нет, мое дело только пить
И, на них глядя, говорить:
"Comme la брусника!"3
3 Полн. собр. соч. кн. Вяземского, т. VIII, с. 434; припев объясняется подслушанною на дворе шуткой господского кучера.
Вяземский уже осмеивал плохих писателей бесчисленными эпиграммами, а В.Л. Пушкин тем временем сочинял "Опасного соседа", в котором в забавной роли выведены старик Шишков и его молодой любимец, благочестивый поэт князь Шихматов, и готовил послания к Жуковскому и Д.В. Дашкову с горячею исповедью своей карамзинской веры. Так весело и бойко сторонники нового слога выступали на борьбу со старыми словесниками. На вечерах князя Вяземского уже господствовало то настроение, которое несколько лет спустя послужило живительным началом для Арзамаса, и амфитрион этих дружеских собраний уже носил свое арзамасское прозвище Асмодея {Соч., т. III, с. 193.}. Вспоминая впоследствии это светлое время юности, Вяземский сам говорил: "Мы уже были арзамасцами между собою, когда Арзамаса еще и не было" {Полн. собр. соч. кн. Вяземского, т. VII, с. 411.}.
Батюшкова очень занимала эта все сильнее разгоравшаяся борьба литературных партий. С тех пор как его "Видение на берегах Леты" пошло по рукам, на него стали смотреть в обществе как на одного из горячих ратоборцев новой школы. До него доходили слухи, что в Петербурге на него написана сатира, в которой он осмеян вместе с В. Пушкиным и Карамзиным. Батюшков желал поскорее прочесть ее, чтобы, как писал он Гнедичу, сделать над собою моральный опыт, то есть проверить, может ли он быть равнодушен к насмешке {Соч., т. III, с. 112.}. Между тем "Видение" продолжало восхищать собою московских карамзинистов: Вяземский ставил его очень высоко. Константин Николаевич в свою очередь наслаждался эпиграммами князя и с восторгом писал о них Гнедичу {Там же, с. 121; ср. с. 138.}. "Опасный сосед" В. Пушкина также привел его в восхищение, которое на этот раз сообщилось и его петербургскому приятелю, столь часто с ним несогласному {Там же, с. 118, 128, 132.}.
Личные столкновения своих литературных друзей со старыми словесниками Батюшков горячо принимал к сердцу: так было при ссоре Гнедича с Державиным из-за членства первого в Беседе, и в то время, когда старый лирик написал грубое письмо к Жуковскому за помещение его пьес в "Собрании русских стихотворений" {Там же, с. 112, 113, 121.}. В этом последнем столкновении особенно возмутила Константина Николаевича нравственная сторона поступка Державина; он вообще не мирился с тем высокомерием, с одной стороны, и угодничеством - с другой, которые господствовали в тогдашних литературных нравах, особливо петербургских. "Вот истинный бес и никого, видно, не боится", - писал он Гнедичу, прослышав, что князь Б.В. Голицын написал книгу о русской словесности, в которой "разбранил Карамзина и Шишкова" {Там же, с. 121.}, то есть отнесся самостоятельно к обоим преобладавшим в литературе течениям. Негодование Батюшкова всего чаще возбуждалось отсутствием вкуса, грубостью слога и бедностью мысли, которыми отличались писания словесников старой школы, и в этом случае он не щадил их своими насмешками в письмах к Гнедичу и, конечно, в беседах с московскими друзьями. "Вялый слог, бесчисленные ошибки против правил языка, совершенная пустота в мыслях, вот что можно сказать о большей части оригинальных книг. Тот же вялый, а часто и грубый слог, те же ошибки, исковеркание мыслей - вот главные признаки ежедневно выходящих переводов". Так еще в 1810 году судил о большинстве явлений тогдашней литературы Вяземский в письме к Батюшкову по поводу одной Кребильоновой трагедии С.И. Висковатовым {Полн. собр. соч. кн. Вяземского, т. I, с. 3.}, в том же смысле высказывался и Жуковский в своих критических статьях, печатавшихся в "Вестнике Европы", и Дашков в разборе книги Шишкова "Перевод двух статей из Лагарпа" {Разбор Дашкова напечатан в "Цветнике", 1810, ч. IV.}. Мнения Батюшкова вполне сходились с этими отзывами; на разбор Дашкова он обратил внимание прежде, чем узнал, кто его автор, в то время незнакомый ему лично {Соч., т. III, с. 123.}; по поводу речи, произнесенной Шишковым при открытии Беседы, Константин Николаевич высказался очень резко: "Иные смеялись, читая его слово, - писал он Гнедичу, - а я плакал. Вот образец нашего жалкого просвещения. Ни мыслей, ни ума, ни соли, ни языка, ни гармонии в периодах: une sterile abondance de mots, и все тут, а о ходе и плане не скажу ни слова. Это - академическая речь? Где мы?.. И этот человек, и эти люди бранят Карамзина за мелкие ошибки и строки, написанные в молодости, но в которых дышит дарование! И эти люди хотят сделать революцию в словесности не образцовыми произведениями, нет, а системою новою, глупою!" {Там же, с. 127.} Из этих слов ясно, что Батюшков видел в распре между старою и новою школой не случайный спор, а серьезную борьбу просвещенных идей против упорного коснения в застарелых предрассудках; произведения Карамзина уже получали в его глазах классическое значение и становились основой дальнейшего литературного развития. Таким образом, в той группе писателей, с которою наш поэт сблизился в Москве, он нашел не только наклонность позабавиться насчет литературных нелепостей старой школы, но и более глубокие идеи о задачах литературы и услышал голос дельной критики, основанной если не на философском принципе, то, по крайней мере, на требованиях здравого и просвещенного вкуса.
Кроме кружка молодых литераторов, Батюшков, во второй свой приезд в Москву посещал довольно много общество, и на этот раз, кажется, с большим удовольствием, чем в прошлом году. Он не жаловался теперь на скуку, а напротив, писал Гнедичу, что рассеянность и суета московской жизни испортили его, что он обленился, не писал ничего все это время и даже читал мало {Соч., т. III, с. 126.}.
Но, конечно, эти самообвинения нужно принимать только с известными ограничениями: Константин Николаевич вращался по преимуществу среди людей, которые жили деятельною умственною жизнью. По-прежнему он видался с умным и образованным И.М. Муравьевым-Апостолом и посещал Карамзина, причем слышал отрывки из его "Истории" в чтении самого автора {Там же, с. 116.}; вновь познакомился он с Ю.А. Нелединским и нашел, что это - "истинный Анакреон, самый острый и умный человек, добродушный в разговорах и любезный в своем быту - вопреки и звезде, и сенаторскому званию, которое он заставляет забывать" {Там же, с. 113; ср. с. 128.}. Не чуждался наш поэт и шумных светских удовольствий и бывал даже на блестящем каруселе, которым забавлялись тогда богатые москвичи {Соч., т. III, с. 123, 133.}. Но самым интересным из новых знакомств, сделанных теперь Константином Николаевичем, было знакомство с Еленой Григорьевной Пушкиной, супругой уже известного нам Алексея Михайловича. Мы уже говорили, как высоко ценил Батюшков общество образованных женщин, какое придавал ему облагораживающее и смягчающее значение. В ранней юности он любил проводить время у П.М. Ниловой и А.П. Квашниной-Самариной; теперь в Москве он находил удовольствие в обществе Е.Г. Пушкиной. Это, конечно, была одна из лучших русских женщин своего времени. Большой ум в ней признавали даже те, кто не хотел или не умел видеть в ней других качеств. Злые языки находили, что она любила блистать своим умом и вместе с тем выставлять напоказ свою чувствительность; говорили, что в ней много претензий {Вигель. Воспоминания, ч. VI, с. 14; Переписка Ф. Кристина, с. 144-339.}; но такие люди, как Жуковский, Вяземский и Ал. Тургенев, как Муравьев-Апостол и Батюшков, питали к ней неподдельное и глубокое уважение; обладая замечательным образованием, хорошо знакомая с современною литературой, любезная в своем обращении, эта молодая женщина стояла совершенно на уровне умственного и нравственного развития лучших своих современников. "В вашем прелестном для меня обществе, - писал ей однажды Батюшков, - я находил сладостные, неизъяснимые минуты и горжусь мыслью, что женщина, как вы, с добрым сердцем, с просвещенным умом и, может быть, с твердым, постоянным характером, любила угадывать все движения моего сердца и часто была мною довольна" {Соч., т. III, с. 231.}. Со своей стороны Елена Григорьевна прекрасно поняла живую, мягкую, увлекающуюся натуру и счастливое дарование поэта, и их соединила самая благородная дружба. Елена Григорьевна сама описала начало их знакомства, и этот небольшой отрывок, приведенный в начале нашей книги, содержит в себе самую теплую и самую верную характеристику Константина Николаевича.
Так среди приятных впечатлений промелькнули для Батюшкова четыре месяца, и у него не хватило решимости покинуть Москву и променять ее на Петербург. По временам он с беспокойством вспоминал о приглашении Оленина и в письмах к Гнедичу повторял, что скоро явится к нему, а между тем все-таки не ехал. Наконец в начале лета Константин Николаевич заметил, что средства, припасенные им на поездку, приходят к концу; ехать в Петербург без денег становилось невозможным, и потому в конце июня или в начале июля он, во избежание дальнейших затруднений, положил отправиться снова в свою деревню, быть может не совсем недовольный тем, что таким образом избег еще на некоторое время печальной необходимости искать службы в Петербурге.
Но Батюшков знал, что это его решение вызовет новое неудовольствие со стороны его петербургского друга, и потому, едва приехав в Хантоново, поспешил изложить Гнедичу свое оправдание. Гнедич, однако, рассердился, по-видимому, не на шутку; у него было мелкое самолюбие тех людей, которые обижаются, когда даваемые ими советы не приводятся в исполнение {Эту черту заметил в Гнедиче Н.И. Греч, бывший его приятелем. Вот слова Греча: "Многие молодые писатели советовались с Гнедичем и пользовались его уроками, которые он давал им охотно и откровенно... Беда, бывало, друзьям его не прочитать ему своих статей или стихов предварительно: напечатанные бранил он тогда беспощадно и в глаза автору, а за одобренные или, по крайней мере, выслушанные им вступался с усердием и жаром (Газетные заметки в "Северной Пчеле", 1857, No 159).}.
Он целые два месяца не отвечал Батюшкову, и когда наконец решился писать ему, то опять повел речь в прежнем тоне, снова стал корить своего приятеля ленью, недостатком житейской опытности, погоней за несбыточною независимостью и т. п. Все эти бесконечные упреки Батюшков принимал теперь очень добродушно и не падал духом, как то, вероятно, случилось бы прежде: он в свою очередь продолжал твердить, что не хочет поступать в какую-нибудь канцелярию, не гонится за жалованьем, и снова стал заговаривать о дипломатической карьере или о поездке за границу. "Я говорю о путешествии, - объяснял он Гнедичу, - ты пожимаешь плечами. Но я тебя в свою очередь спрошу: Батюшков был в Пруссии, потом в Швеции; он был там сам, по своей охоте, тогда, когда все ему препятствовало; почему же Батюшкову не быть в Италии?.. Если фортуну можно умилостивить, если в сильном желании тлеется искра исполнения, если я буду здоров и жив, то я могу быть при миссии, где могу быть полезен. И еще скажу тебе, что когда бы обстоятельства позволяли и курс денежный унизился, то Батюшков был бы на свои деньги в чужих краях, куда он хочет ехать затем, чтоб наслаждаться жизнью, учиться зевать; но это все одни если, и то, правда, если сбыточные" {Соч., т. III, с. 159.}. Такая настойчивость в преследовании своей мечты, такая вера в возможность достигнуть того, что сильно желается, была у Константина Николаевича прямым результатом той душевной бодрости, которую дало ему вторичное пребывание в Москве; еще более, чем после первой поездки туда, он вынес теперь из общения с московскими приятелями уверенности в свои силы и дарование. Под этими впечатлениями он написал в деревне свое известное послание к Жуковскому и Вяземскому, озаглавленное "Мои Пенаты". Еще раз возвращается в нем поэт к своей любимой мечте, что жизнь дана для наслаждения:
Пока бежит за нами
Бог времени седой
И губит луг с цветами
Безжалостной косой,
Мой друг, скорей за счастьем
В путь жизни полетим,
Упьемся сладострастьем
И смерть опередим;
Сорвем цветы украдкой
Под лезвием косы
И ленью жизни краткой
Продлим, продлим часы!
Но теперь наслаждение жизнью представляется поэту уже не в шумном веселии пиров, как прежде; он готов примириться с своею скромною долей под охраною "отеческих пенатов", лишь бы его не покидали друзья и вдохновение -
сердца тихий жар
и сладки песнопенья,
Богинь пермесских дар.
Как бы в пояснение этих поэтических желаний читаем мы слова Батюшкова в одном из тогдашних писем его к Гнедичу: "Поэзия, сие вдохновение, сие нечто изнимающее душу из ее обыкновенного состояния, делает любимцев своих несчастными счастливцами" {Соч., т. III, с. 140.}.
И действительно, несмотря на свое одиночество, Батюшков сохранял и в Хантонове покойное расположение духа и меньше испытывал припадков хандры, обыкновенной спутницы его деревенской жизни. Он занимался хозяйственными делами, много читал, между прочим философские книги, и изучал итальянских поэтов {Соч., т. III, с. 136, 137,165, 170, 171 и др.}; усердно следил за литературными новостями петербургскими и московскими и судил о них с независимостью человека, выработавшего себе определенный взгляд на вещи; задумывал новые произведения и хотя писал мало, но очевидно, находился в том творческом настроении, когда в душе поэта зреют новые художественные замыслы. Письма его из этой поры отличаются живостью и веселостью; кроме Гнедича, у Константина Николаевича завязалась теперь деятельная переписка с Вяземским, и между тем как в письмах к петербургскому приятелю Батюшкову часто приходилось пускаться в скучные для него рассуждения об устройстве своей дальнейшей судьбы, с князем Петром Андреевичем он мог переписываться только о предметах литературных, одинаково интересных им обоим. Дружба, как заметила Е.Г. Пушкина, была кумиром Батюшкова; но не со всеми своими приятелями он был так задушевно откровенен, как с Вяземским {Там же, с. 414.}: ему одному он свободно поверял и свои мнения, и свое душевное настроение - в твердом убеждении, что встретит сочувственный отклик. Большою неожиданностью было для Константина Николаевича известие, что Вяземский, этот почти юноша, еще не уставший от всевозможных развлечений самой рассеянной жизни, собирается вступить в брак. Батюшков не скрыл своего удивления при этой новости, но вместе с тем радостно приветствовал важную перемену в быту своего друга {Там же, с. 143, 146, 154.}. Так прошли для Батюшкова в "безмолвном уединении" деревенской жизни шесть месяцев - вторая половина 1811 года, прошли без особенных радостей, но и без гнетущего уныния и не отняли у нашего поэта душевных сил, которые он, по своей впечатлительности, умел тратить столь нерасчетливо. Все настоятельнее чувствовал он необходимость принять какое-нибудь решение для того, чтобы обеспечить свое будущее. Утратив надежду проложить себе путь к дипломатической службе, Батюшков стал думать, нельзя ли ему пристроиться к Императорской Публичной Библиотеке, под непосредственное начальство Оленина {Соч., т. III, с. 115, 132.}. Между тем как Гнедич звал Константина Николаевича в Петербург, Вяземский желал видеть его в Москве. Туда же стремился своими помыслами и сам Батюшков; но на сей раз благоразумие должно было взять верх: он согласился последовать настойчивым советам своего петербургского друга и в январе 1812 года, минуя Москву и ее соблазны, отправился на берега Невы.