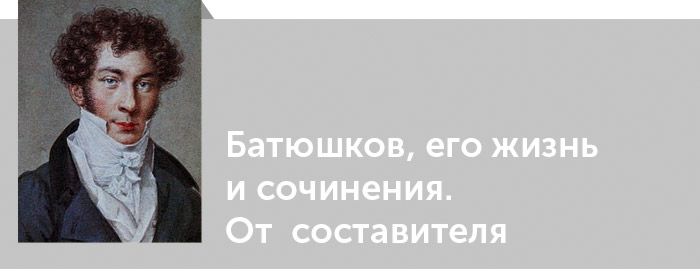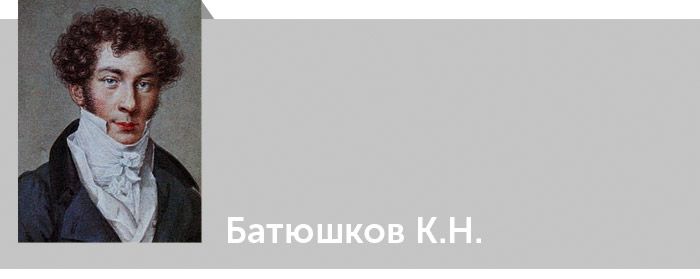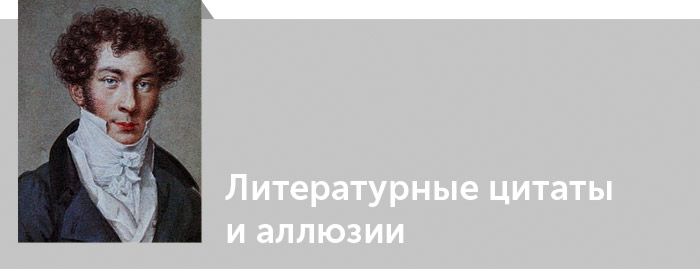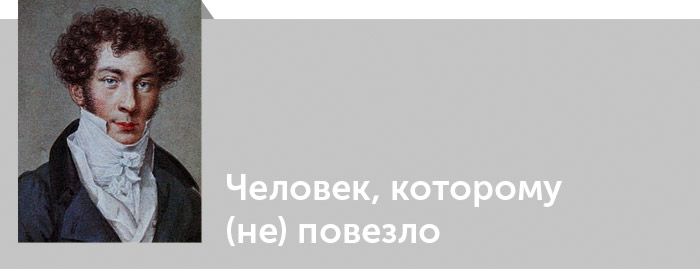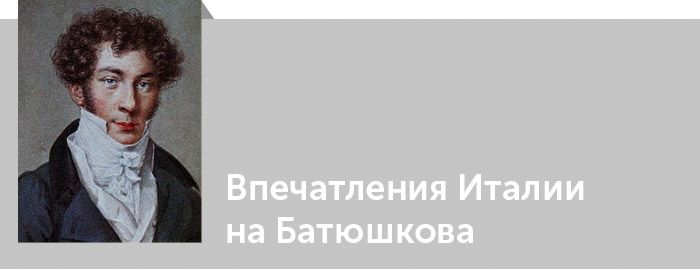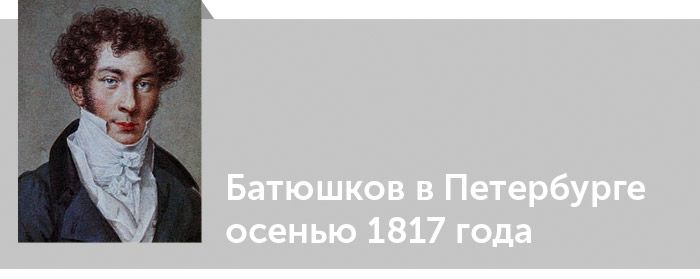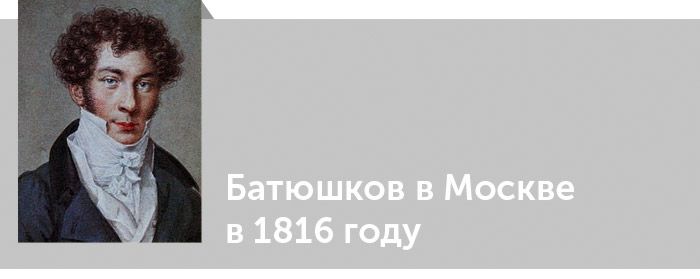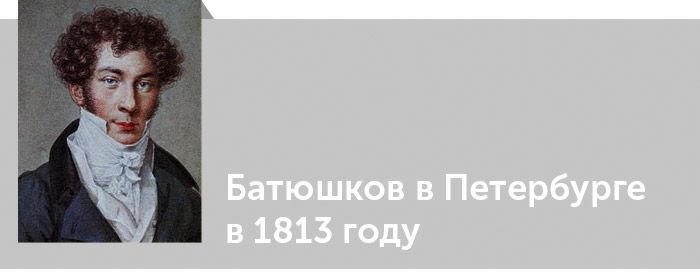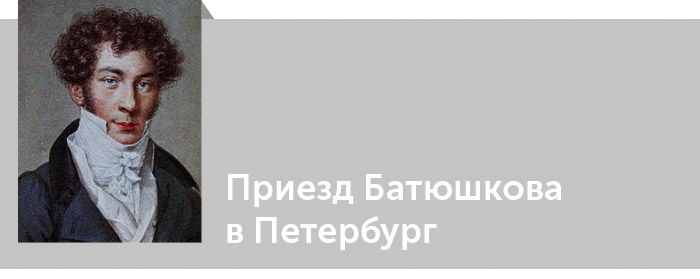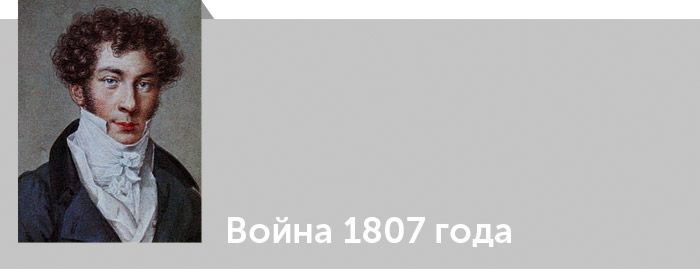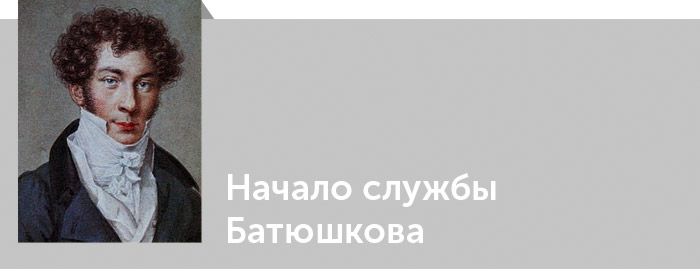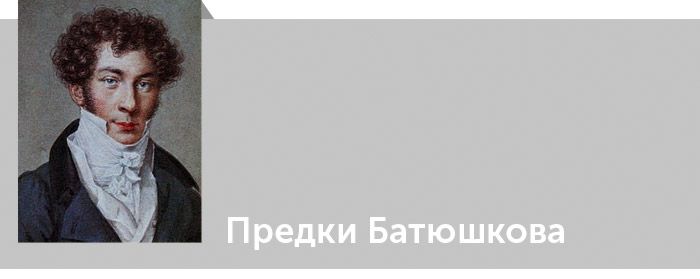Батюшков, его жизнь и сочинения. Жизнь Батюшкова в деревне
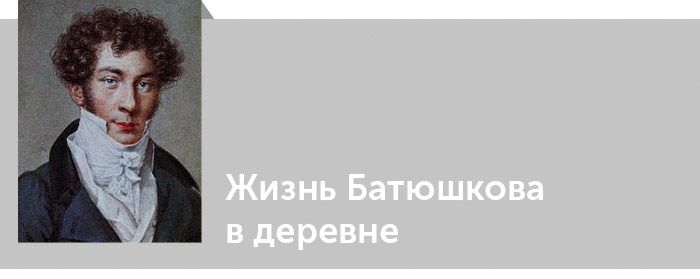
Глава IV
Жизнь Батюшкова в Хантонове в 1809 году. - Хозяйство. - Соседи. - Хандра. - Литературные занятия. - Влияние Вольтера. - Антологический род. - Влияние Горация, Тибулла и Парни. - Отношения Батюшкова к современной литературе. - Антипатия к исключительному национализму. - "Видение на берегах Леты". - Решение ехать в Москву
Село Хантоново, именье, которое Батюшков и его сестры унаследовали от своей матери, находится в Череповском уезде Новгородской губернии, недалеко от берегов Шексны. В 1809 году, когда приехал туда Константин Николаевич, при селе была господская усадьба, где и жили незамужние сестры его, Александра и Варвара. Хантоновский дом был - по выражению его владельца - и ветх, и дурен, и опасен {Соч., т. III, с. 223. Посвящая несколько строк К.Н. Батюшкову как помещику, мы заимствуем данные для того из его писем к сестре и притом не ограничиваемся только письмами.}: он грозил разрушением, и жить в нем зимою становилось почти невозможным; поэтому Константин Николаевич еще из Финляндии писал сестрам о необходимости выстроить новый дом или по крайней мере флигель; тот же совет повторял он неоднократно впоследствии, предлагая старый дом сломать или же исправить и сохранить только для летнего житья. Однако желание Батюшкова касательно возведения нового дома в Хантонове было осуществлено лишь около 1816 года {Соч., т. III, с. 31, 91, 119, 186, 223, 233, 245, 292, 380, 386, 580.}. При доме был сад и птичий двор, то и другое - предмет особенных забот Александры Николаевны; Константин Николаевич также любил свой сад и заботился о цветах {Там же, с. 31, 42, 181, 186, 381, 471, 472.}. Но этим и ограничивалось все его хозяйничанье в деревне: более важными делами по извлечению доходов из именья он совершенно не умел заняться; управление имением было предоставлено старшей сестре, которая жила там почти безвыездно. Она хлопотала о нем много и усердно, но в женских руках хозяйство шло плохо и доставляло ей много огорчений и мало дохода; хронически обнаруживавшиеся плутни приказчиков доказывали, что настоящего присмотра за ходом хозяйственных дел не было. Вследствие того Батюшковы нередко бывали стеснены в средствах, тогда как, по словам Константина Николаевича, материнское наследство могло бы доставить им совершенно независимое существование {Там же, с. 286, 579.}. Именье закладывалось и перезакладывалось; порою приходилось продавать землю по клочкам {Там же, с. 92, 95, 225 и др.}.
К чести Константина Николаевича нужно сказать, что он и не считал себя дельным хозяином. Оправдываясь однажды, в 1809 году, перед Гнедичем в недостатке деятельности, он иронически применял к себе слова Мирабо: "Если б я строил мельницы, пивоварни, продавал, обманывал... то верно б прослыл честным и притом деятельным человеком" {Соч., т. III, с. 65.}. Но ничего подобного Батюшков не делал, не мудрил в деревенском хозяйстве, не отвлекал крестьян от тех занятий и промыслов, на которые указывала им природа их края, и, напротив того, осуждал затеи отца устраивать какой-то завод в Даниловском {Там же, с. 334, 395.}; зато наш поэт и не клал мужиков под пресс
Вместе с свекловицей.
В общении с М.Н. Муравьевым Батюшков должен был почерпнуть взгляд на крепостные отношения, высоко подымавшийся над обычным уровнем тогдашних понятий об этом предмете. Идеалист Муравьев смотрел на крепостных как на "несчастных и равных нам людей, которые принуждаются бедностью состояния своего исполнять без награждения все наши своенравия" {Полн. собр. соч. Муравьева, т. I, с. 92.}, и указывал помещику целый ряд особенностей по отношению к своим крестьянам; понятия эти, без сомнения, Муравьев внушал своему племяннику, и если последний не задавался прямо целью улучшить быт своих крестьян, материальный и нравственный, то все же он не оставался глух к наставлениям дяди. Константин Николаевич жил почти исключительно доходом с имения, но он не облагал своих крепостных непосильными поборами; нуждаясь в деньгах, он стеснялся требовать оброк в трудное для крестьян время {Соч., т. III, с. 180.}. "Не худо бы было еще набавить тысячу, хотя на два года, - писал он однажды сестре касательно возвышения оброка, - но я боюсь отяготить мужиков; не думай, чтоб это было une maniere de parler, нет"! Судьба подчиненных мне людей у меня на сердце. Выгода минутная! Притом же, как мне ни нужны деньги для уплаты долгу и затем, чтоб жить здесь (в Петербурге) по ужасной дороговизне, но я все боюсь отяготить крестьян. Дай Бог, чтоб они поправились! Если б в моей то было воле, я не пощадил бы издержек, чтоб устроить их лучше" {Соч., т. III, с. 477; ср. с. 479 и 564.}. Что же касается дворовых людей, собственно тех, которые были в личной услуге у Батюшкова, то нетерпеливый барин, правда, часто негодовал на их дурную службу и особенно на их испорченность, но по добродушию своему немало и терпел от их пороков и охотно ценил тех из своих слуг, которые честно исполняли свои обязанности. Короче сказать, он был очень плохой хозяин, но едва ли справедливо было бы назвать его дурным помещиком.
Именье Батюшковых находилось в глухой стороне. Их уездный город был в то время не лучше иного села, а до ближайшего губернского считалось более ста верст; да Батюшков и не любил Вологды и называл ее болотом {Там же, с. 181 и др.}; притом же сношения с нею были не часты, и такие обиходные предметы, как, например, турецкий табак и почтовую бумагу, приходилось выписывать из Петербурга {Там же, с. 40, 45, 46 и др}. Соседей у владельцев Хантонова было немного, а те, какие были, отличались уже слишком провинциальным отпечатком. "С какими людьми живу!" - восклицал наш поэт в одном из писем к Гнедичу летом 1809 года и пояснял стихами Буало:
Deux nobles campagnards, grands lecteurs de romans
Qui m'ont dit tout "Cyrus" dans leurs longs compliments1.
{1 Соч., т. III, с. 55-56.}.
"Вот мои соседи! Прошу веселиться!.. К кому здесь прибегнуть музе? - говорит Батюшков в том же письме. - Я с тех пор как с тобою расстался, никому даже и полустишия, не только своего, но и чужого, не прочитал!"
Воспитанный в столице, где он вращался в самой образованной среде, наш поэт никак не умел примириться с деревенскою обстановкой и скоро соскучился в сельском уединении. С наступлением осени жизнь в деревне стала казаться ему чем-то вроде одиночного заключения; уже в сентябре 1809 года он начинает в письмах к Гнедичу жаловаться на овладевающее им уныние. "Если б ты знал, - пишет он своему другу, - что здесь время за вещь, что крылья его свинцовые, что убить его нечем" {Там же, с. 42.}; и в другом письме прибавляет: "Если б ты знал, как мне скучно! Я теперь-то чувствую, что дарованию нужно побуждение и одобрение; беда, если самолюбие заснет, а у меня вздремало. Я становлюсь в тягость себе и ни к чему не способен" {Там же, с. 48.}. Эти припадки умственной апатии Батюшков объяснял в себе "ранними несчастиями и опытностью". Но двадцатидвухлетний молодой человек обладал, конечно, лишь скудным запасом жизненного опыта, да и самые несчастия его были не из числа тех непоправимых житейских неудач, которые способны убить всякую энергию личности: избалованный в юности нежною и просвещенною заботливостью дяди, Батюшков находил, что вся его будущность испорчена смертью этого человека в ту пору, когда его питомец всего более нуждался в его попечительной поддержке. Дело проще объясняется раздражительною впечатлительностью нашего поэта. Как бы оттенок каприза слышится в новых жалобах его в одном из ноябрьских писем: "Право, жить скучно; ничто не утешает. Время летит то скоро, то тихо; зла более, нежели добра; глупости более, нежели ума; да что и в уме?.. В доме у меня так тихо; собака дремлет у ног моих, глядя на огонь в печке; сестра в других комнатах перечитывает, я думаю, старые письма... Я сто раз брал книгу, и книга падала из рук. Мне не грустно, не скучно, а чувствую что-то необыкновенное, какую-то душевную пустоту..." {Соч., т. III, с. 51-52.} Но даже если бы мы хотели счесть эти слова выражением одного малодушия, мы не вправе отказать в сочувствии тому, кто их написал: они вылились из-под пера его с полною искренностью минутного настроения, и им предшествует горькое восклицание, получившее роковой смысл в устах поэта: "Если я проживу еще десять лет, то сойду с ума!"
До каких сильных потрясений доводила Батюшкова в деревенском одиночестве его почти болезненная впечатлительность, свидетельствует следующий его рассказ в одном из писем к Гнедичу: "Недавно я читал Державина: "Описание Потемкинского праздника". Тишина, безмолвие ночи, сильное устремление мыслей, пораженное воображение, все это произвело чудесное действие. Я вдруг увидел пред собою людей, толпу людей, свечки, апельсины, бриллианты, царицу, Потемкина, рыб и Бог знает чего не увидел: так был поражен мною прочитанным. Вне себя побежал к сестре... "Что с тобой?"... "Оно, они!"... "Перекрестись, голубчик!" Тут-то я насилу опомнился..." {Там же, с. 53.} Но этот же характерный рассказ свидетельствует и о том, что при всей тоске, которую испытывал Батюшков вдали от людей своего петербургского круга, он и в деревенской глуши не утрачивал нисколько тех интересов, которыми жил в столице. "Это описание сильно врезалось в мою память! - продолжает он в том же письме. - Какие стихи! Прочитай, прочитай, Бога ради, со вниманием: ничем никогда я так поражен не был!" Оторванный от литературного мира, Батюшков и в деревне продолжал жить почти исключительно его жизнью: все тогдашние письма его к Гнедичу наполнены вопросами о литературных новостях и собственными его замечаниями по этому предмету. Но что еще важнее и чего, быть может, наш поэт не хотел признавать в периоды уныния, - удаление от рассеяний столицы, от суеты и мелких дрязг литературных кружков подействовало благотворно на его развитие и творчество. В своем одиночестве Батюшков, несмотря даже на посещавшие его болести, отдался умственному труду с большим постоянством, чем было доселе; не в чужом поощрении, а в самом себе нашел он теперь силу и охоту трудиться, и это внутреннее возбуждение не замедлило оказать свое живительное действие на его дарование: образ мыслей его приобретает заметную определенность, а творческая способность зреет почти до полноты своих сил.
В деревне у Батюшкова был кое-какой запас книг, которые он очень усердно читал и перечитывал. Круг его чтения по-прежнему составляла французская словесность XVII и XVIII столетий; кроме того, он имел под рукой, в подлиннике и переводе, нескольких римских поэтов - Горация, Тибулла и Виргилия, и главные произведения Ариоста и Тасса. Напротив того, в тогдашних занятиях Батюшкова незаметно никаких следов знакомства с германскою и английскою словесностью. Таким образом, во всей этой умственной пище преобладающее значение принадлежало, очевидно, свободомыслящим писателям так называемой эпохи Просвещения. Из двух главных течений, последовательно характеризующих умственное движение XVIII века, страстный идеализм Руссо имел на Батюшкова менее влияния, чем рассудочная философия Вольтера. "Чтение Вольтера менее развратило умов, нежели пламенные мечтания и блестящие софизмы Руссо: один говорит беспрестанно уму, другой - сердцу; один угождает суетности и скоро утомляет остроумие; другой никогда не может наскучить, ибо всегда пленяет, всегда убеждает или трогает: он во сто раз опаснее". Так говорил Батюшков уже в более позднее время своей литературной деятельности, когда желал порвать свои умственные связи с XVIII веком {Соч., т. II, с. 128.}, но и в этом позднейшем отречении от прошлого видна живая память прежних сочувствий, сквозит тайная симпатия к Вольтеру. Гораздо заметнее сказывается она в нашем поэте в более молодые его годы, в ту пору, когда - по собственным его словам - он почувствовал необходимость "принять светильник мудрости - той или другой школы". В то время, когда складывались убеждения Батюшкова, умы были еще под живым впечатлением ужасов французской революции; ставя в связь с ее грозным развитием "пламенные мечтания Руссо", Батюшков мог отшатнуться от сих последних, между тем как Вольтер, казалось ему, своим здравомыслием давал более верную мерку для отношений к действительности и к основным задачам человеческого мышления. Таким образом, Батюшков стал поклонником Вольтера, хотя и не сделался настоящим "вольтерианцем" в том смысле, в каком понималось это слово у нас в старину, в смысле резкого отрицания в сфере религиозной. Заметим при этом, что Вольтер, которому поклонялся Батюшков, был не совсем настоящий, с его достоинствами и недостатками, а тот легендарный, так сказать, Фернейский мудрец, который более полувека восхищал собою Европу. Уже давно стоустая молва и всемирная слава идеализировали его личность, а уровень общественного понимания сделал выбор между его сочинениями, превознося одни, более общедоступные, и не понимая, не ценя других, более глубоких по своему смыслу. И Батюшкову, конечно, не были знакомы в своей полноте все сочинения Вольтера; в общей оценке их он подчинялся господствовавшим мнениям; но те произведения Вольтера, которые пользовались наибольшею популярностью и принадлежали преимущественно к области изящной словесности, он знал хорошо; он часто приводит цитаты из них, любуется остроумием их автора, восхищается меткостью его суждений, выражает негодование против его врагов и критиков, вообще относится к нему, как к непререкаемому авторитету. Но все это только внешняя сторона дела. Важнее то, что в образе мыслей Батюшкова, как он сложился в 1809 году и каким оставался до Отечественной войны и падения Наполеонова владычества, действительно видно внутреннее влияние тех идей, которые Вольтер проповедовал с такою настойчивостью и с таким талантом.
Сочинения Фернейского мудреца подействовали на нашего поэта главным образом своею культурною силой; на них воспиталась в Батюшкове глубокая любовь к просвещению и неразрывно связанной с нею свободе мысли; из них почерпнул он уважение к достоинству человека, к благородному умственному труду и к званию писателя, отвращение от педантизма, помрачающего ум и ожесточающего сердце; они же внушили ему общую гуманность понятий и терпимость к чужим убеждениям. Вместе с этими истинами, которые составляют основные и вековечные начала образованности, Батюшков позаимствовал у Вольтера и такие идеи, в которых последний является только сыном своего века. Вслед за Вольтером (и Кондильяком) Батюшков высказывает сенсуалистические понятия о неразрывности души с телом; под его влиянием берется он за чтение Локка и вооружается против метафизики, которую и Вольтер любил сводить к морали {Соч., т. III, с. 49, 52, 56, 136.}. Наконец, и религиозные идеи Вольтера отразились на Батюшкове. Противник положительной религии, Вольтер оставался, однако, деистом и защищал идею Божества против Гольбаха. Батюшков, без сомнения, знал эти возражения Вольтера против атеизма; когда он прочел Гольбахову "Систему природы", он в следующих словах высказал Гнедичу свое впечатление: "Сочинитель в конце книги, разрушив все, смешав все, призывает природу и делает ее всему началом... Невозможно никому отвергнуть и не познать какое-либо начало; назови его как хочешь, все одно; но оно существует, то есть существует Бог" {Там же, с. 57.}.
Само собою разумеется, что сочинения Вольтера должны были оказать влияние на Батюшкова и в собственно литературном смысле. Ум Вольтера, столь смелый в вопросах религии и политики, оказался очень робким в сфере искусства: в деле литературной критики автор "Генриады" не вышел из рамок псевдоклассицизма. Впрочем, на Батюшкова он повлиял не столько как теоретик, а, скорее, как поэт, особенно как лирик. Но в этом случае отношение к нему нашего автора необходимо рассматривать в связи с другими литературными влияниями, испытанными Батюшковым.
Мы уже видели, что Батюшков с редким тактом и очень рано определил свойство и род своего дарования. В этом случае он обнаружил такое же верное чутье, как Жуковский. Как для последнего лиро-эпическая форма баллады сделалась любимою формою творчества, так Батюшков сосредоточился на тех родах лирики, которые служат поэтическим выражением интимного чувства и облекаются в форму иногда элегии, но чаще антологического стихотворения. Мы с намерением употребляем это последнее выражение, не имеющее вполне точного терминологического значения: пьесы Батюшкова, всего искреннее вылившиеся из его души, всего ярче характеризующие его талант, с трудом могут быть подведены под видовые определения; но и по внутреннему чувству, которым вызваны, и по художественным целям автора они вообще удобно входят в ту рубрику "антологических стихотворений", которую французы издавна привыкли называть poesies fugitives, а наш поэт называл произведениями "легкой поэзии". Термин этот, положим, неудачен, но смысл его достаточно ясен и верно соответствует характеру творчества Батюшкова.
Антологический род в то время был мало разработан в русской литературе; поэтому за образцами Батюшков должен был обращаться в другие литературы, более зрелые. Так он и делал; и нужно сказать, он любил сверять свое вдохновение с чужим; нередко брал он у того или другого поэта ту или иную черту и усваивал ее своему произведению; он сам говорит об этом в своих письмах {Соч., т. III, с. 99, 114 и др.}, и притом как о деле художественного выбора, а не простого заимствования. Таков был старый литературный обычай, быть может, завещанный молодому поэту Муравьевым, и если обычай этот стеснял иногда свободные порывы творчества, зато служил к выработке точности в поэтической речи. Батюшков любил говорить, что он не отделывает своих стихов {Там же, с. 187.}; но это неверно: за недостатком черновых, которых не сохранилось, сличение его стихотворений по нескольким редакциям, последовательно являвшимся в печати, доказывает, что почти каждая пьеса его подвергалась неоднократной переработке, и этот внимательный труд составляет одну из главных заслуг нашего поэта в общем развитии русской литературы: Батюшков наряду с Жуковским должен быть признан одним из главных строителей нашей поэтической речи; в этом именно смысле их обоих называл своими учителями великий Пушкин.
Для антологических стихотворений Батюшков избрал себе образцами, с одной стороны - Горация и Тибулла, с другой - Вольтера и Парни. Но отношения его к этим образцам были неодинаковы; они различались сообразно свойству оригиналов.
Высокое мнение о таланте Вольтера как антологического поэта было внушено Батюшкову, без сомнения, еще Муравьевым. Вот что читаем мы у последнего в "Эмилиевых письмах": "Наследник Ниноны, очистивший остроумие свое в школе хорошего вкуса, в обхождении знатнейших особ своего времени, удивил ожидание общества великими творениями, которые поставили его подле Корнеля и Расина. Величествен, иногда возвышает он глубокую мысль сиянием выражения, иногда последует своенравию граций:
Он в отрочестве был угодником Ниноне,
К Виргилью в двадцать лет в сообщество спешил,
Во зрелом мужестве Софоклов путь свершил;
У старца бог любви покоился на лоне.
Дорат
"Сии легкие или убегающие стихотворения (pieces fugitives), если можно занять сие слово, не стоили ему минуты размышления. Первая мысль, которая представлялась уму его, принимала без принуждения известные формы, и тонкая шутка становилась учтивым приветствием. Дружеские послания, сказочки, эпиграммы, все, чем забавлялся певец Генриха IV, дышало свободою и не было обезображено следами неблагодарного труда. Его образ писания сделался образцом и отчаянием последователей" {Полн. собр. соч. Муравьева, т. I, с. 191-192.}. Некоторые замечания Батюшкова в речи "о легкой поэзии" живо напоминают эти строки: видно, что понятия о ней сложились у Батюшкова именно по типу произведений Вольтера в этом роде. У него же мог он найти и теоретические рассуждения о том же предмете. Естественно, что в собственных своих антологических пьесах наш поэт старался уловить и воспроизвести непринужденную, игривую манеру французского автора, и это удавалось ему не только в эпиграммах и надписях, но и в других мелких стихотворениях, каковы: "На смерть Пнина", "К Семеновой", "К Маше", "На смерть Даниловой" и т. п. Но кроме оригинальных pieces fugitives, у Вольтера есть несколько опытов подражания античным поэтам; подражания эти, хотя и далекие от подлинников, служат доказательством тому, что Вольтер, несмотря на свои псевдоклассические предрассудки, способен был возвыситься до действительного понимания тонких красот поэзии, очень далекой от той среды, где он воспитался и жил; он был большим поклонником Горация и восхищался изяществом эпиграмм греческой Антологии. Эта сторона Вольтерова таланта и вкуса также не ускользнула от внимания Батюшкова: она навела его на первое знакомство с Антологией, и первая пьеса, заимствованная из нее нашим поэтом, была переведена с переложения Вольтера. Наконец, можно предположить, что и попытка воспроизвести в стихах библейскую "Песнь Песней" предпринята была им также по образцу Вольтера, у которого есть такой же опыт; но переложение Батюшкова не сохранилось и известно только по упоминаниям о нем в письмах {Соч., т. III, с. 104.}.
Итак, Вольтер, как антологический поэт, дал в значительной мере тон поэзии Батюшкова. В том же смысле повлиял на нее и Гораций. По верному замечанию Вине, есть много общего между Горацием и Вольтером, как лириком: основа их миросозерцания - одна и та же, умеренный эпикуреизм; у обоих много изящной и остроумной непринужденности, даже небрежности, никогда, однако, не переходящей в пошлость; слог Горация выработаннее, зато слог Вольтера более блестящий, и притом у французского поэта звучит иногда струна чувствительности, которой нет у Горация {Vinet. Histoire de la litterature franjaise au XVIII siecle, t. II, p. 52.}. При таких условиях знакомство с Горацием должно было отразиться на Батюшкове теми же результатами, что и изучение Вольтера, то есть посильным усвоением изящной художественной формы Горацианской оды и, в частности, заимствованием из нее некоторых образов и картин. Ярче всего подражание Горацию заметно в одной из ранних пьес Батюшкова "Совет друзьям", проникнутой чисто Горацианским эпикуреизмом. Этот гимн тихому, беззаботному веселью сложен нашим поэтом в ту пору его жизни, когда она не была еще омрачена никакими неудачами, и к той же теме он возвратился в пьесе "Веселый час" несколько позже, когда душевное спокойствие снова посетило его на короткое время.
Если в отношениях Батюшкова к Вольтеру и к Горацию замечается стремление усвоить не только форму, но отчасти содержание их лирики, то еще более видно это в том, как наш поэт воспринял в себя влияние Тибулла и Парни, двух писателей, дарование которых очень сродно его собственному.
Небольшой сборник стихотворений, помеченных именем Тибула, составляет одно из лучших украшений римской литературы. Тибулл - поэт глубоко искренний и вместе с тем великий художник. Обычная тема его элегий - любовь, но какое разнообразие настроений, какую роскошь красок, какое обилие оттенков умеет он найти для изображения этого чувства! В его стихах слышатся все переливы сердечного недуга - первые робкие проявления зарождающегося чувства, надежда и страх, радость и горе, спокойствие любви удовлетворенной и затем случайно пробудившиеся тревоги сомнений и жестокие мучения ревности, следствие очевидной измены. Все эти разнообразные состояния любящей души поэт рисует яркими, но тонкими чертами, и притом без всякой изысканности, с неподдельною простотой. Стройное сочетание естественности и задушевности с художественною формой делает поэзию Тибулла легко доступною для читателя, даже малознакомого с древним миром. Это обстоятельство доставило ему прочный успех в новых литературах и привлекло к нему внимание множества переводчиков. Современная критика признает, однако, что в четырех книгах стихотворений, приписываемых Тибуллу, не все действительно принадлежит этому поэту {Teuffel. Studien und Charakteristiken zur Griechischen und Romischen so wie Deutschen Litteraturgeschichte. Leipzig, 1871, c. 372-378.}. Но в старину об этом не думали и верили преданию на слово. Так и Батюшков выбрал для первого перевода своего из Тибулла элегию, принадлежность которой ему весьма сомнительна; но выбор нашего поэта объясняется личным его настроением. В то время сам он еще носил в сердце глубокое чувство, но находился далеко от любимой им женщины и, несмотря на встреченную им взаимность, не мог быть уверен в ее прочности. "Где истинная любовь? - писал он в ту пору Гнедичу. - Нет ее! Я верю одной вздыхательной, петраркизму, то есть живущей в душе поэтов, и более никакой" {Соч., т. III, с. 46.}. В этой-то душевной истоме Батюшков принялся переводить элегию, где поэт изображает свои сердечные страдания в разлуке с любимою женщиной, говорит, что не стал бы дорожить всеми благами, лишь бы быть всегда с нею, что без нее счастье для него невозможно, и заключает призывом к смерти, если ему не суждено обладать предметом своей страсти. Принадлежность именно этой элегии (кн. III, эл. 3) Тибуллу отвергается современною критикой весьма основательно; но, как мы уже сказали, подобные сомнения не существовали для Батюшкова; поэтому в своем переводе вместо находящегося в подлиннике имени Нееры он смело поставил имя Делии, действительно воспетой Тибуллом во многих стихотворениях (несомненно, ему принадлежащих), и, главное, взамен некоторой растянутости и риторичности оригинала придал своему свободному переложению сжатость и тот оттенок мечтательного чувства, которого нет в латинском псевдотибулловом стихотворении, но которым отличаются настоящие элегии римского лирика, действительно вышедшие из-под его пера. Это доказывает, что Батюшков своим художническим чутьем, несмотря на слабость филологической подготовки, верно угадал отличительный характер поэзии Тибулла - "сладкую задумчивость, истинный признак чувствительной и нежной души" {Слова эти сказаны Батюшковым, собственно, о М.Н. Муравьеве, но там именно, где он сравнивает его с Тибуллом (Соч., т. II, с. 90-91); прямо к этому последнему почти те же слова применяет Батюшков при другом случае (там же, с. 161).} - и сумел найти надлежащие оттенки речи для выражения такого настроения в своих стихах.
Другой любимый образец Батюшкова, Парни, считался в свое время обновителем интимной лирики в родной ему литературе. При первом появлении его любовных элегий близкий уже к смерти Вольтер назвал молодого автора французским Тибуллом, а другие ценители провозгласили, что Парни внес простоту и искренность чувства в поэтическую область, в которой до него господствовала изысканность, манерность и ловко сложенный комплимент заменял настоящее вдохновение. В самом деле, крупный поэтический талант Парни не может подлежать сомнению. В своих элегиях он, подобно Тибуллу, дал целую поэму о действительно пережитой им пламенной страсти; но при одинаковой правдивости в передаче своих ощущений, он, конечно, уступает римскому лирику в тонкости психологического наблюдения, в умении изображать различные настроения любящей души. Нравственная распущенность той среды, в которой он вращался, и ходячие идеи светского эпикурейства не могли не оставить на нем своего следа: чувственный порыв нередко заменяет у него более идеальное чувство. Зато в произведениях его много воображения, и стих его блещет яркою изобразительностью. Этою-то лучшею стороной своего таланта Парни, преимущественно, повлиял на Батюшкова. Правда, и у нашего поэта встречаются иногда образы и картины с оттенком чувственности; но мы не имеем права видеть здесь влияние одного Парни - это, скорее, общий характер эротической лирики; напротив того, когда Батюшков переводил французского поэта или, что чаще, только подражал ему, он обыкновенно смягчал слишком чувственный характер его образов, сохраняя в то же время их грацию и изящество. Родство поэзии Батюшкова с поэзией Парни было замечено еще современниками, между прочим - Карамзиным; но это родовое сходство не следует преувеличивать: дарование Парни словно замерло после того, как он написал свои знаменитые элегии; талант Батюшкова развивался постоянно.
Мы уже имели случай воспользоваться для биографии Константина Николаевича теми его стихотворениями, которые были им написаны в 1809 году, и мы должны были ими воспользоваться, потому что в них, в поэтическом отражении, правдиво сказались пережитые им впечатления боевых тревог и волнений любви. Вместе с указанными образцами эти глубокие впечатления довершили воспитание его таланта: поэт нашел свойственную ему форму в то время, когда жизнь дала его творчеству содержание. Мало того, он вполне овладел этою формой; отныне мы имеем дело уже не с начинающим стихотворцем, который испытывает свои силы, а с художником, который свободно распоряжается своим дарованием и лишь продолжает разрабатывать свое мастерство, свое умение творить.
Как ни тяжело было для Батюшкова деревенское уединение, но сознание успеха, достигнутого им теперь в разработке своего таланта, должно было укрепить его нравственно. Вдали от чужих суждений он яснее сознает и свое собственное призвание как писателя, и свои отношения к господствующим в литературе направлениям. Мы видели, что, еще живя в Петербурге, он не мирился ни с грубым вкусом тамошних литераторов, ни с их предубеждениями, ни с тенденциозным стремлением остановить развитие литературы. Теперь полемика между двумя литературными поколениями, вызванная книгой Шишкова о старом и новом слоге, получает для него более глубокое значение. Сторонники Шишкова, защищая старый слог и старых писателей, выдвинули вопрос о национальности в литературе. Но в неумелых и невежественных руках справедливая идея получила смешной и нелепый вид. Понятно поэтому, что мысль Батюшкова могла уклониться в противоположную крайность: он взглянул с отрицательной точки зрения на русскую жизнь, на русскую историю, на самую возможность самобытного развития. "Нет! - пишет он Гнедичу, - невозможно читать русской истории хладнокровно, то есть с рассуждением. Я сто раз принимался: все напрасно. Она делается интересною только со времен Петра Великого. Подивись, подивимся мелким людям, которые роются в этой пыли. Читай римскую, читай греческую историю, и сердце чувствует, и разум находит пищу. Читай историю средних веков, читай басни, ложь, невежество наших праотцов, читай набеги половцев, татар, Литвы и проч., и если книга не выпадет из рук твоих, то я скажу: или ты великий, или мелкий человек! Нет середины! Великий, ибо видишь, чувствуешь то, чего я не вижу; мелкий, ибо занимаешься пустяками". Запальчивые слова и сказанные слишком легкомысленно и поспешно; но самая их запальчивость свидетельствует об искреннем, в данную минуту, убеждении говорящего, хотя у него и нет твердых оснований для такого суждения. Батюшков продолжает: "Еще два слова: любить отечество должно. Кто не любит его, тот изверг. Но можно ли любить невежество? Можно ли любить нравы, обычаи, от которых мы отдалены веками и, что еще более, целым веком просвещения? Зачем же эти усердные маратели выхваляют все старое! Я умею разрешить эту задачу, знаю, что и ты умеешь, - итак, ни слова. Но поверь мне, что эти патриоты, жалкие декламаторы, не любят или не умеют любить Русской земли. Имею право сказать это, и всякий пусть скажет, кто Добровольно хотел принести жизнь на жертву отечеству..." {Соч., т. III, с. 56-58.} Эти последние замечания уже значительно умеряют резкий смысл первой тирады. Очевидно, Батюшков вооружается не против любви к отечеству, даже не против национализма, а против того археологического отчизнолюбия, наивного у одних и поддельного у других, которое само не умело объяснить, что есть хорошего в прославляемой им старине. Эта общая смутность понятий, неизбежное, впрочем, следствие подражательного направления XVIII века, смутность, которую могло рассеять только время и в которую яркий луч света бросил великий труд Карамзина, исподволь в тиши подготовляемый, - достаточно объясняет горячую филиппику Батюшкова против тупых литературных староверов и вместе с тем снимает с него обвинение в сознательном отчуждении от своей народности. Но существенно важно для характеристики нашего поэта то, что он скоро и ясно понял весь объем вопроса, составлявшего предмет полемики, понял, что спор шел не о слоге только, а о целом строе идей. Дальнейшая литературная жизнь Батюшкова показывает, что он умел стать на достаточную высоту, чтоб участвовать в успешном решении этого спора.
Впрочем, и в первом пылу увлечения наш поэт уже обнаруживает наклонность вмешаться в полемику. При всей мягкости его натуры в нем была сатирическая жилка, было остроумие: рядом с критическими заметками на произведения старой литературной школы, которые он сообщает в своих письмах к Гнедичу, он пишет на них колкие эпиграммы для печати и затем сочиняет большое сатирическое стихотворение, где опять выводит в карикатурном виде представителей дурного вкуса в литературе. Это - "Видение на берегах Леты", в свое время наделавшее много шума в литературных кружках. Батюшков писал эту вещь с самым наивным увлечением и потому, отправив список сатиры к Гнедичу, живо интересовался, какое впечатление произвела эта шутка в Петербурге. "Каков Глинка? Каков Крылов? - спрашивает он своего приятеля в одном из писем. - Это живые портреты,, по крайней мере мне так кажется" {Соч., т. III, с. 61.}. Батюшков не придавал, однако, большого значения своей шутке: "Этакие стихи слишком легко писать и чести большой не приносят", - замечает он в другом письме {Там же, с. 55.}. Верный такт подсказывал ему, что талант его выше подобных мелочей.
Посылая в Петербург свои сатирические шалости, Константин Николаевич придерживал до времени в своих руках те более значительные свои произведения, которые были им написаны в деревне. При всей дружбе к Гнедичу он, кажется, не вполне доверял его эстетическому пониманию и часто возражал на те советы, которыми Гнедич желал руководить его литературные занятия. А между тем одиночество все более и более тяготило его; потребность общества, обмена мыслей с просвещенными людьми росла все сильнее. Так мало-помалу созрело в Батюшкове убеждение, что хоронить себя в деревне ему не следует. "С моею деятельностью и ленью, - писал он все тому же петербургскому приятелю, - я буду совершенно несчастлив в деревне, и в Москве, и везде. Служил всегда честно: это засвидетельствует тебе совесть моя. Служил несчастливо: ты сам знаешь; служил из креста и того не получил, и упустил все, даже время, невозвратное время!" {Там же, с. 50.} Итак, обиженный своими служебными неудачами, Батюшков решил оставить военную карьеру и проложить себе путь к дипломатической службе: "Гнить не могу и не хочу нигде, а желаю, если возможно, быть послан в миссию; поговори об этом с людьми умными: нет ли способа?" {Там же, с. 49.}
Давая это поручение Гнедичу, Батюшков думал прибегнуть к содействию и других лиц. Он надеялся сделаться известным великой княгине Екатерине Павловне чрез гофмейстера ее князя И.А. Гагарина, представить ей, как любительнице литературы, свой перевод первой песни "Освобожденного Иерусалима" и на этом основании просить ее ходатайства для определения в иностранную коллегию {Соч., т. III, с. 72. Из упомянутого перевода сохранился только отрывок.}. Наконец, в случае не удачи, весьма возможной, он составил и другой план - просто ехать за границу, хотя бы это расстроило его состояние {Там же, с. 50-51.}. Как бы то ни было, но приступить к осуществлению этих намерений можно было только выехав из деревни. Как раз в это время пришло письмо от E. Муравьевой с приглашением Константину Николаевичу приехать к ней в Москву. Это как нельзя более отвечало его желаниям. 25 декабря Батюшков был уже в Никитской, в приходе Егорья на Всполье.