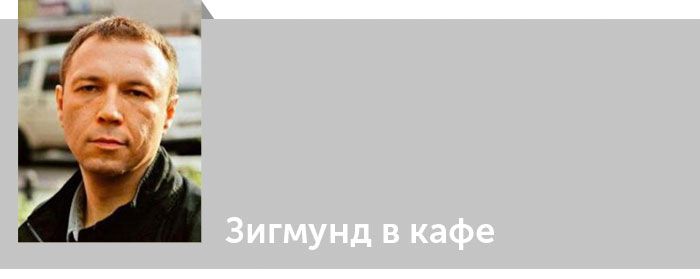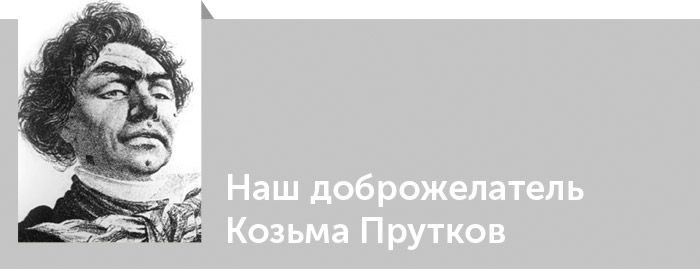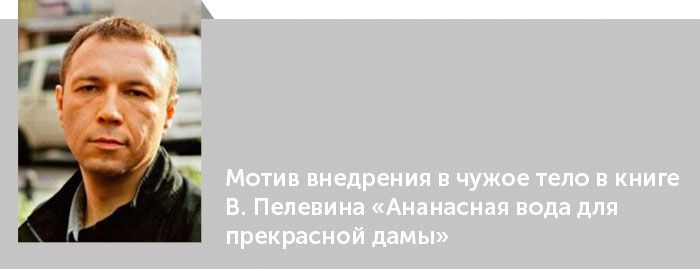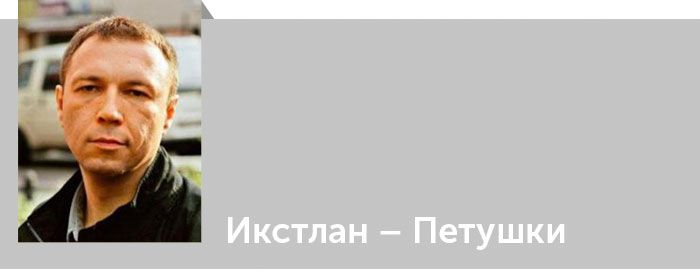Чеховский текст в прозе В. Пелевина

УДК 821.161.1: 82-3 / Чехов: 82’06 / Пелевин
Н.В. Беляева
(Киев)
Статья содержит анализ систематизированного корпуса чеховских цитат в прозе В.Пелевина, представленного как особый уровень поэтики интертекстуальности в его соотнесенности с другими текстами-предшественниками.
Ключевые слова: поэтика интертекстуальности, цитата, гиперцитата, экфразис.
Бєляєва Н.В. Чеховський текст у прозі В.Пєлєвіна.
Стаття містить аналіз систематизованого корпусу чеховських цитат у прозі В.Пєлєвіна, що представлений як особливий рівень поетики інтертекстуальності у його співвіднесеності з іншими текстами-попередниками.
Ключові слова: поетика інтертекстуальності, цитата, гіперцитата, екфразис.
Nina Belyayeva. Chekhovian text in V.Pelevin’s prose.
The article contains analysis of systematized complex of chekhovian quotations in V.Pelevin’s prose which represents specific level of the poetics of intertextuality in its connection with other texts-predecessors.
Key words: poetics of intertextuality, quotation, hyperquotation, ecphrasis.
Интертекстуальный репертуар произведений В.Пелевина, как художественных, так и эссеистики, и его специфических интервью, четко ориентирован на две большие группы текстов-источников. К сильным, т.е., часто и полифункционально цитируемым, относятя, во-первых, произведения русской классики и классики ХХ века: Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Фет, Достоевский, Л.Толстой, Вл.Соловьев, Чехов, Горький, Ф.Сологуб, Блок, Есенин, Маяковский, Бунин, Д.Хармс, А.Введенский, И.Ильф и Е.Петров, Булгаков, Набоков, Вен.Ерофеев. Во-вторых, это зарубежные писатели, чьи художественно-эстетические системы эксплицированы в пелевинских текстах: Лао Цзы, Марк Аврелий, Монтень, Шекспир, Л.Кэрролл, Ницше, Мопассан, Золя, Борхес, Дж.Фаулз. Вторая группа, слабые тексты, используются ситуативно и, как правило, подвергаются остранению. К ним относятся как целостные авторские тексты (У.Джеймс, З.Фрейд, О.Шпенглер, Р.Штейнер, Витгенштейн, Ю.Мисима, Ф.Фукуяма, К.Кастанеда, Дуглас Коупленд, Мишель Уэльбек, Ролан Барт, Деррида, К.Палья), так и архитекстуальные отсылки к жанровым принципам кинотекстов («Андрей Рублев», «Семнадцать мгновений весны», «Жить, чтобы жить», «Мужчина и женщина», «Звездные войны», «Дюна», «Матрица», «Чужой против Хищника», «Люди в черном»), рекламных роликов, видеоклипов, компьютерных игр («Принц Персии»), живописи, архитектуры и скульптуры, других разновидностей художественных и нехудожественных текстов и их комбинаций и кроссреференций.
Чеховский интертекст в этой системе характеризуется рядом особенностей. Если рассматривать цитатно-аллюзивный слой интертекста, то чисто статистически Чехов уступает практически всем из названных в качестве авторов сильных текстов русских писателей. При этом сам факт наличия чеховских аллюзий во всех, без исключения, программных произведениях Пелевина разных периодов и разной жанровой природы – объективный показатель корректности его отнесения к числу сильных текстов-источников (отдельные примеры упоминаются в ряде исследований [4, 114; 3, 343; 2, 2]). Из сказанного ясно, что анализ чеховского интертекста необходимо осуществлять с учетом возможно более структурированных взаимодействий, и поэтому целью данной статьи является анализ чеховских цитат в прозе В.Пелевина как текста, т.е. системы систем, актуализация уровней которой фиксируется рядом следующих примеров.
1. Один из первых вариантов актуализации чеховского текста представлен в рассказе «Девятый сон Веры Павловны» (1991). Героиня рассказа, Вера, чей образ представляет гротескную гиперцитату, плывет во сне в потоке нечистот: «Течение несло Веру вперед, в направлении Тверского бульвара. Уровень жижи поднимался со сказочной быстротой – двух-трехэтажные дома по бокам бульвара были уже не видны, а огромный уродливый театр теперь напоминал гранитный остров – на его крутом берегу стояли три женщины в белых кисейных платьях и белогвардейский офицер, из-под приставленной ко лбу ладони глядящий вдаль; Вера поняла, что там только что давали «Трех сестер»» [13, 66]. Цитируя зглавие чеховской пьесы, Пелевин осуществляет его предикацию, включая его в систему собственного сложно структурированного приема. Вера спасается, плывя на глобусе из стены Центрального телеграфа, который ей удается остановить, ухватившись за Кремлевскую звезду. Затем ее ожидает не менее аллегоризированный вариант пересечения границы между мирами и потусторонний суд с квазилитературными «приговорами» («за солипсизм», «в казаки к Шолохову», «двухабзацным лейтенантом НКВД»).
Вера становится вольно-невольной жертвой собственного выбора: повторив «по инерции» «Что делать?», – героиня «просыпается» «Верой Павловной». Чеховское заглавие-цитата выступает в рассказе не только как своеобразный вариант топографического экфразиса, но и как один из смысловых ключей пространственно-временной и нарративной организации текста. «Три сестры» – это цитата сильной позиции текста, точнее, паратекста, так как заглавие является самостоятельным текстом по отношению к тексту, и концентрированная версия цитируемого текста. В пелевинском тексте, в свою очередь, это не просто упоминание об одной из самых известных русских пьес, но и фиксация репертуарного текста МХАТА как «чеховского» театра и как знака московского текста. Специфика интертекстуальности, в данном случае, предполагает аллюзию к одному из устойчивых приемов самого Чехова – почти обязательного использования упоминаний о театральном репертуаре эпохи, как в драматургии, так и в прозе. Техника цитирования также является показательной: Вера понимает, что «давали» «Трех сестер», увидев исполнителей главных ролей в сценических костюмах, которые также являются элементами аллюзивности. Игра слов («давали») в данном случае принципиальна, так как история героини и история страны представлена в рассказе как история «парадигмы перестройки» по направлению от «дачи» к торговле. Знаменитый московский театр – не только топографическая эмблема, аллегория театральности, версия топоса «theatrum mundi», цитата классичесского текста, воплощающего эпоху, что для Пелевина особенно важно, так как его сверхзадача – портрет эпохи современной, но также «остров», остров спасения в ситуации нового потопа. «Девятый сон Веры Павловны» также является вариантом цитатного заглавия подчеркнуто иронического характера: аллюзия знаменитого вставного текста романа Чернышевского «Что делать?» гибридизирована с аллюзией к не менее классической картине Айвазовского «Девятый вал», которая дешифруется за счет разворачивания сюжета сна в рассказе.
Параллелью к лейтмотивным репликам Вершинина и Тузенбаха о будущей счастливой жизни («какая это будет жизнь!») становится пародийная буквализация эпиграфа к рассказу: «Здесь мы можем видеть, что солипсизм совпадает с чистым реализмом, если он строго продуман. Людвиг Витгенштейн» [13, 48]. «Солипсизм» Веры / «реализм» Веры Павловны «совпадают» в рассказе с социальными и духовными катаклизмами в стране, которые сами же и вызывают к жизни. Созданный сознанием Веры новый «мир» – это переделанный в «коммерческий», а затем в «коопреативный» подземный туалет, где героиня работает уборщицей, – становится комиссионным магазином. Бутафория новой жизни – результат «сна» Веры о «Париже Маяковского», в карикатуру которого превращается Москва. Но туалет, переделанный в магазин, не справляется с функцией очистки, и Москве грозит новый потоп, посреди которого и возвышается театр, в котором играют («дают») «Трех сестер». «Сны» Веры – и причина, и следствие того непонимания счастья, о котором говорит Вершинин («Так же и вы не будете замечать Москвы, когда будете жить в ней. Счастья у нас нет и не бывает, мы только желаем его»[ 25, 686]).
Этот ранний рассказ – один из наиболее гротескных, причем гротескные приемы в нем образуют причудливую (также гротескную) интертекстуальную структуру: с одной стороны, цитаты формируют гротескную мозаику, отражаясь друг в друге и друг друга провоцируя, с другой стороны, «Девятый сон Веры Павловны» в контексте всего творчества Пелевина предваряет особую поэтологическую линию, к которой, относятся также «День бульдозериста» (1991), «Омон Ра» (1992), «ДПП» (2003) и «П5» (2008). В то же время, «Девятый сон Веры Павловны», в отличие от других произведений данной направленности, гротескно литературоцентричен, точнее, объектом гротескной пастишизации в нем выступает не литературоцентризм русской культуры как таковой, а его спекулятивная проекция. Жанровая специфика рассказа также отражает ряд закономерностей, соотносящих малую прозу и романистику Пелевина, и это соотношение генетически во многом предопределено жанровой системой прозы Чехова, точнее, ее ролью в переосмыслении жанровой конвенции в литературе ХХ века («роман-рассказ» и, в то же время, повесть)[21, 30]. Как малые жанры, так и романистика Пелевина, строятся с использованием параболы-притчи. Но если такая модель является нормой жанрообразования для повести («каноническом», по определению Н.Тамарченко, жанре), то и в рассказе, и в романе, жанрах неканонических, притчевые по своей конфигурации сюжеты соотнесены с нарративной организацией таким образом, что диалогическое построение, основа любого из текстов Пелевина, приобретает дополнительную многомерность [20, 63; 2, 2].
Используя один из цитатных приемов, сон, который, входя в состав заглавия, как всегда у Пелевина, реализует герменевтическую функцию [19, 210], автор соотносит исторические эпохи, как реальные, так и их фантасмагорические проекции, литературно-эстетические и философские концепции. Такой тип цитирования чеховского текста станет знаковым для «гротескной» линии творчества Пелевина. Его специфика связана с принадлежностью текста-источника («Три сестры») к прецедентным текстам, «национальной энциклопедии» [5, 216].
2. В программном эссе «Джон Фаулз и трагедия русского либерализма» (1993) цитируется лейтмотив и заглавие «комедии» «Вишневый сад» и имена персонажей:
«Россия недавнего прошлого как раз и была огромным сюрреалистическим монастырем, обитатели которого стояли не перед проблемой социального выживания, а перед лицом вечных духовных вопросов, заданных в уродливопародийной форме. Совок влачил свои дни очень далеко от нормальной жизни, но зато недалеко от Бога, присутствия которого он не замечал. Живя на самой близкой к Эдему помойке, совки заливали портвейном «Кавказ» свои принудительно раскрытые духовные очи, пока их не стали гнать из вишневого сада, велев в поте лица добывать свой хлеб.
[…] Хотелось бы верить, что точно так же в конце концов хватит его [места] и в России – и для долгожданного Лопахина, которого, может быть, удастся наконец вывести путем скрещивания Бендера с Лоханкиным, и для совков, поглощенных переживанием своей тайной свободы в темных аллеях вишневого сада» [18, 396-397].
Техника цитирования в данном случае отражает ряд закономерностей пелевинской интертекстуальности. Во-первых, в силу жанровой природы эссе, Пелевин намного однозначнее конструирует идеологию своего текста, хотя ирония как текстовая модальность является и здесь доминирующей [2, 2]. В частности, ироническая модальность эксплицируется в нескольких сильных позициях текста, причем всякий раз в сочетании с цитированием. Заглавие представялет собой вариацию одного из воображаемых текстов героя романа И.Ильфа и Е.Петрова «Золотой теленок» Васисуалия Лоханкина, карикатурного образа псевдоинтеллигента, которого Пелевин прделагает скрестить с Бендером для выведения «долгожданного Лопахина». Цитирование имен, в том числе Джона Фаулза, чьи романы Пелевин анализирует в эссе как классические тексты-диады, рассчитанные как на массового, так и на элитарного читателя, представляет собой пример интертекста как тропа или стилистической фигуры [22, 150], тем более концентрированного, что цитата-имя Джона Фаулза также находится в первом и поледнем абзацах эссе, т.е. еще в двух сильных позициях. Эссе представляет собой полемическую реплику по отношению к статье А.Гениса «Совок»: Пелевин предлагает собственную «феноменологию» совка: «Если понимать слово «совок» не как социальную характеристику или ориентацию души, то совок существовал всегда. Типичнейший совок – это Ваисуалий Лоханкин, особенно если заменить хранимую им подшивку «Нивы» на «Архипелаг ГУЛАГ». Классические совки – Гаев и Раневская из «Вишневого сада», которые не выдерживают, как сейчас говорят, столкновения с рынком. […] Совок – вовсе не советский или постсоветский феномен. Это попросту человек, который не принимает борьбу за деньги или социальный статус как цель жизни» [18, 394-395]. Имя-цитата Джона Фаулза в пелевинском эссе является синонимом антибуржуазного пафоса и одновременно аргументом в полемике:
«…Большинство идеологических антагонистов совка никак не в силах понять, что мелкобуржуазность – особенно восторженная – не стала менее пошлой из-за краха марксизма.
Остается только надеяться, что осознать эту простую истину им поможет замечательный английский писатель Джон Фаулз» [18, 397].
Во-вторых, «дописывая» чеховский текст, Пелевин моделирует такую Россию будущего, в которой должно хватить место и «долгожданному» Лопахину, и «совкам», т.е. Гаевым и Раневским. Модель эта, в свою очередь, аргументируется за счет построения своего рода гиперсюжета романов Фаулза «Коллекционер» и «Маг», соответственно соотнесенных в эссе с эпохой ранних 90-х, условным настоящим временем текста, и с условным будущим.
В-третьих, лейтмотив-заглавие «Вишневый сад» в пелевинском тексте сохраняет связь с категорией времени, точнее – с «неизбежным переходом времени» [8, 169]. В-четвертых, цитата «вишневый сад» при повторе включается в состав центонной конструкции «тайной свободы в темных аллеях вишневого сада», где чеховский текст сочетается с блоковским и бунинским, также относящихся к ряду сильных. Специфика предикации цитат из этих текстов объединяет их как тексты, репрезентативные для понимания темы России, и как тексты авторов, чья концепция России безусловно авторитетна для Пелевина.
«Вишневый сад» как лейтмотив, который в чеховском тексте выстраивается в «поэтическую» и «повествовательную цепочку» [8, 169, 195], сохраняет эту структурирующую особенность в целом ряде произведений Пелевина, маркируя этапные события истории России.
3. В романе-повести «Жизнь насекомых» (1993) чеховский текст модифицируется за счет специфического экфразиса. Действие происходит в Крыму, поэтому скульптурный портрет Чехова топографически мотивирован: «Деревья, закрывавшие небо, скоро кончились, и из кустов на Митю задумчиво глянул позеленевший бюст Чехова, возле которого блестели под лунным светом осколки разбитой водочной бутылки» [16, 64]. Описание-экфразис гибридизировано с измененной цитатой из чеховской «Чайки»: «У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса – вот и лунная ночь готова» [23, 55]. Так Треплев характеризует манеру Тригорина, с точки зрения интертекстуальности, эта цитата является текстом в тексте (Треплев читает свой текст о тексте Тригорина), также соотносится и с архитекстом (описание лунной ночи как тип текста), и с метатекстом (Треплев рассуждает о том, как надо писать, о «формах»). В этой же, четвертой, главе «Стремление мотылька к огню» единственный положительный персонаж Митя (его также можно считать писателем, поскольку ему принадлежит вставной текст «Памяти Марка Аврелия», целиком приведенный в восьмой главе) продолжает линию остраняющего приема: «– В последнее время я заметил, – сказал Митя, – что от частого употребления некоторые цитаты блестят, как перила» [16, 65]. «Жизнь насекомых» самим автором определяется как «повесть», но именно в цитируемой четвертой главе двойники Митя и Дима, мотыльки-светлячки обсуждают возможный текст из жизни насекомых как «роман»: «Знаешь, если бы я писал роман о насекомых, я бы так и изобразил их жизнь – какой-нибудь поселок у моря, темнота, и в этой темноте горит несколько электрических лампочек, а под ними отвратительные танцы. И все на этот свет летят, потому что ничего больше нет» [16, 70]. В «Чайке», «комедии» об актрисах и писателях, тема «света» является одной из сквозных, как и обрамляющий прием театра в театре.
В девятой главе «Черный всадник» парные персонажи Максим и Никита «хоронят» постмодернизм, разыгрывая метатеатральную сцену – театр в театре:
«Никита внимательно посмотрел Максиму на ноги.
– Чего это ты в сапогах ходишь? – спросил он. – Жарко ведь.
– В образ вхожу, – ответил Максим.
– В какой?
– Гаева. Мы «Вишневый сад» ставим.
– Ну и как, вошел?
– Почти. Только не все еще с кульминацией ясно. Я ее до конца пока не увидел.
– А что это? – спросил Никита.
– Ну, кульминация – это такая точка, которая высвечивает всю роль. Для Гаева, например, это когда он говорит, что ему службу в банке нашли. В это время все вокруг стоят с тяпками в руках, а Гаев их медленно оглядывает и говорит: «Буду в банке». И тут ему сзади на голову надевают аквариум, и он роняет бамбуковый меч.
– Почему бамбуковый меч?
– Потому что он на бильярде играет.
– А аквариум зачем? – спросил Никита.
– Ну как, – ответил Максим. – Постмодернизм. Де Кирико. Хочешь, сам приходи, посмотрим.
– Не, не пойду. Постмодернизм я не люблю. Искусство советских вахтеров.
– Почему?
– А им на посту скучно было просто так сидеть. Вот они постмодернизм и придумали. Ты в само слово вслушайся.
– Никита, – сказал Максим, – не базарь. Сам, что ли, вахтером, не работал? [...]
– Ну, работал, [...] только я чужого никогда не портил. […]
– Ты, Никита, прямо как участковый стал, – мягко сказал Никита. – Тот тоже жизнь объяснял. Ты, говорит, Максим, на производство идти не хочешь, вот всякую ерунду и придумываешь.
– Правильно объяснял. Ты от этого участкового отличаешься только тем, что, когда он надевает сапоги, он не знает, что это эстетическое высказывание [16, 148-150]».
«Чужого никогда не портил» – приговор псевдоискусству «постмодернизма», состоящему в примитивных перепевах приемов самого Чехова. Каламбур банк – банка, заменяемая в «постмодернистской» постановке аквариумом, буквализирует чеховские каламбуры, в драматургии соотносящие автохарактеристики персонажей, любителей каламбуров и других форм словесной игры, и тексты ремарок. Интертекстуальный анализ в данном случае дает возможность провести аналогии между техникой каламбура в драматургии Гоголя (редко эксплицируется при высокой насыщенности) и Чехова (эксплицируется самими персонажами в «наивной» форме), а также описанием спектакля в театре Колумба в романе И.Ильфа и Е.Петрова «Двенадцать стульев» (яичница на сковороде, мачта с парусом на моряке) по «Женитьбе» Гоголя. Аналогия основывается на комическом эффекте от попыток «модернизации» классики в «Двенадцати стульях» и «Жизни насекомых». «Банк» как эмблематический образ новой эпохи «Вишневого сада» превращается в «банку» (аквариум) в описании «концепции» спектакля. И хотя Никита отрицает смысл этого жеста («никакой это не спектакль», «во всем этом постмодернизме ничего нет»), каламбур в судьбе героев играет решающую роль, основанную на том же принципе буквализации. Вспоминая, о какой банке шла речь: «Это коробок травы банкой накрывают и смотрят – если клопы выползут, значит, шухер», – Максим и Никита сами оказываются конопляными клопами в свернутом косяке, так что выползание-бегство из банки их не спасает, и образ «черного всадника» с пачки папирос «Казбек» превращается в апокалиптический.
Предполагаемая служба в банке как кульминация роли Гаева коррелирует с важнейшим и для стилистики Пелевина в целом, и для «Жизни насекомых» в частности, приемом использования цветообозначений. «Позеленевший» бюст Чехова представляет эпоху наступления «зеленых» денег как мерила ценностей, а «Вишневый сад» каламбурно соотносится с популярной, навязчиво звучащей песней про «Вишневую «девятку»».
4. В романе «Чапаев и Пустота» (1996) чеховская цитата озвучивается в структуре намеренно усложненной с помощью ряда вставных текстов конфигурации пространства. В третьей главе романа, в которой происходит первая встреча Петра Пустоты и Чапаева, в броневике, везущем героев на Ярославский вокзал, «Чапаев» показывает Петру Пустоте Ленина в лезвии своего «китайского меча»:
«Я посмотрел на размытое красноватое отражение, появившееся на стальной полосе. В нем была какая-то странная глубина – казалось, я гляжу сквозь слегка запотевшее стекло в длинный, слабо освещенный коридор. По изображению пошла легкая рябь, и я увидел расслабленно идущего по коридору человека в расстегнутом френче. Он был небрит и лыс; ржавая щетина на его щеках переходила в неряшливую бородку и усы. Он наклонился к полу, протянул вперед подрагивающие руки, и я заметил жмущегося в угол коридора котенка с большими печальными глазами. Изображение было очень четким, но искаженным, словно я видел отражение на поверхности елочного шара. Вдруг, неожиданно для себя, я кашлянул. И тут Ленин – а это, несомненно, был он – вздрогнул, повернулся и уставился в мою сторону. Я понял, что он видит меня, – в его глазах на секунду мелькнул испуг, а затем они стали хитрыми и как бы виноватыми; он с кривой улыбкой погрозил мне пальцем и сказал:
– Мисюсь! Где ты?
– Владимир Ильич перечитывает Чехова, – сказал он» [9, 95-96].
Чапаев дунул на спичку, и картинка пропала; я успел заметить удирающего по коридору котенка и вдруг понял, что видел все это не на шашке, а только что каким-то непонятным образом был там и мог бы, наверно, коснуться котенка рукой.
Зажегся свет. Я изумленно поглядел на Чапаева, который уже вложил шашку в ножны.
«Дом с мезонином» цитируется как цитата цитаты, то есть как прием перспективы, уходящей в бесконечность [8, 251]. Шашка Чапаева, его «китайский меч» – функциональный аналог фольклорно-литературного мотива волшебного зеркала, позволяющего трансформировать пространство и время. «Дом с мезонином» содержит в заголовочном комплексе авторское определение жанра: «Рассказ художника». Реплика Чапаева после «сеанса»: «Владимир Ильич перечитывает Чехова», – пародийная версия названия увиденной живой «картины», подписи художника под «рассказом», инструкция для Пустоты-зрителя.
Намеренная фантасмагоричность предикации крылатой фразы, в свою очередь, цитирует еще один сильный текст – текст Венедикта Ерофеева [14, 285-290]. В поэме «Москва – Петушки» Веничка признается, что «ничего не понимает» в «верандах, террасах, мезонинах или флигелях» и «вечно путает их». В этой же главе поэмы два старичка называют Веничку «от горшка два вершка» и «милой странницей», которой уже «невеститься» поздно, а «на кладбище рано», и Веничка раздумывает: «Я в своем уме, а они все не в своем – или наоборот: они все в своем, а я один не в своем?» [6, 214-215]. Мотив сумасшествия, интерпретируемый как «чеховский» и «классический» для постмодернизма [3, 343], с учетом специфики пелевинского цитирования также следует относить к гиперцитатам.
Сам тип цитирования, почти изоморфный и изофункциональный и для Чехова, и для Вен.Ерофеева, поскольку интертекстуальность в произведениях этих авторов отличатеся повышенной полигенетичностью (цитируются тексты разных видов искусства/неискусства, высокие и массовые жанры; приводятся как точные, так и модифицированные, и гибридизированные цитаты; цитируются тропы, фигуры и приемы), – подтверждает принадлежность романа Пелевина к жанровой традиции нелинейного романа [7, 324-340].
5. Роман «Generation “П”» (1999) содержит ряд чеховских цитат. Все они, так или иначе, связаны с пародийными образами рекламного бизнеса, точнее, его имитации в российских реалиях девяностых годов. Герой романа Вава Татарский поднимается вверх по карьерной лестнице отнюдь за счет профессионализма, но его мир постоянно пополняется заготовками для «концепций», – можно сказать, что весь информационный обмен для Татарского сводится к этому процессу. Татарский все время «пишет», «читает» и «цитирует» (все эти случаи отмечены в тексте графически), но все эти процессы – «квази-», потому что переосмыслены в духе пародии на постинформационное общество, в которое пытаются превратить Россию.
В главе «Три загадки Иштар» Татарский переживает рассказ Гусейна, своего бывшего хозяина, во время первого «сеанса» поедания мухоморов с Гиреевым. Пытаясь понять, почему он сам подошел к Гусейну, Татарский думает:
«Объяснение было не самым приятным: это был не до конца выдавленный из себя раб. Немного подумав, Татарский пришел к выводу, что раб в душе советского человека не сконцентрирован в какой-то одной ее области, а скорее окрашивает все происходящее на ее мглистых просторах в цвета вялотекущего психического перитонита, отчего не существует никакой возможности выдавить этого раба по каплям, не повредив ценных душевных свойств. Эта мысль показалась Татарскому важной в свете его предстоящего сотрудничества с Пугиным, и он долго шарил по карманам, чтобы записать ее. Ручки, однако, не нашлось» [10, 50].
Чеховская цитата: «Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, […] выдавливает из себя по капле раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая…» [24, 133], – подвергается переразложению и варьированию. Смысловое варьирование в полной мере осознается в составе микроконтекста – сотрудничество с Пугиным предполагает особую ценность Татарского как носителя особой «советской ментальности», в соответствие с которой он должен приводить «концепции» западных брендов, в частности, сигарет «Парламент».
При условии дополнения микроконтекста более высоким уровнем – уровнем контекста пелевинского творчества, характеристикой «совка» из эссе «Джон Фаулз и трагедия русского либерализма», чеховская цитата обретет большую глубину. «Совком» в таком понимании окажется и чеченец Гусейн, потому что на вопрос об ассоциациях со словом «парламент» он отвечает отсылкой к «поэме аль-Газзави» «Парламент птиц»: «Это о том, как тридцать птиц полетели искать птицу по имени Семург – короля всех птиц и великого мастера. […] Когда они прошли тридцать испытаний, они узнали, что слово “Семург” означает “тридцать птиц”» [10, 49]. «Поэма» представляет собой пастишизированную цитату целой тематической линии суфийской литературы, а также рассказа Борхеса «Приближение к Альмутасиму». Расширенный контекст чеховской цитаты актуализирует еще один «магистральный сюжет» пелевинской прозы: путь России, Восток и Запад. Сама конфигурация «сюжета», как и ее возможные решения в пользу любого из векторов в романе остраняются, в основном, за счет специфики образа главного героя, но, в то же время, «Западный» вектор явно более негативен, поскольку его главный пафос в «борьбе за деньги или социальный статус как цель жизни».
В частности, негация западного выбора иллюстрируется следующим вариантом чеховской «цитаты» в романе. В главе «Путь к себе» Татарский изучает образцы рекламного «творчества»:
«Второй слоган, который понравился Татарскому, был предназначен для московской сети магазинов Gap и был нацелен, как явствовало из предисловия, на англоязычную прослойку, насчитывающую до сорока тысяч человек. На плакате предполагалось изобразить Антона Чехова: первый раз в полосатом костюме, второй раз – в полосатом пиджаке, но без штанов; при этом контрастно выделялся зазор между его голыми худыми ногами, чем-то похожий на готические песочные часы. Затем, уже без Чехова, повторялся контур просвета между его ногами, действительно превращенный в часы, почти весь песок в которых стек вниз. Текст был такой:
RUSSIA WAS ALWAYS NOTORIOUS FOR THE GAP BETWEEN CULTURE AND CIVILIZATION. NOW THERE IS NO MORE CULTURE. NO MORE CIVILIZATION. THE ONLY THING THAT REMAINS IS THE GAP. THE WAY THEY SEE YOU[1]» [10, 80-81].
Еще один пример специфического пелевинского экфразиса, пародирующего западный взгляд на Россию, ее историю и культуру, результатом которого оказывается «контур просвета», разрыв, отсутствие и культуры, и цивилизации, вот «то, каким тебя видят». «Слоган» аллюзивно соотносит стилизованное изображение Чехова и знаменитый тезис о противостоянии «культуры» и «цивилизации» в младосимволистском «соловьевском» неомифе о России А.Блока и А.Белого. Если «путь к себе» в новой России пойдет по западному вектору, для поколения «П» останется только «gap» (игра слов дополняется английской идиомой «generation gap» – конфликт между поколениями). В заключительной главе сообщается, что Татарский снялся в «знаменитой рекламе московской сети магазинов «Gap» (слоган “Enjoy the Gap”).
В главе «Облако в штанах», Татарский в «Виртуальной студии», с зелеными стенами и полом, точнее в ее аппаратном зале, с пыльными обоями в зеленых гладиолусах, где оцифровывают политиков, постигает тайны ремесла:
«– [...] а что, у американцев то же самое?
– Конечно. И гораздо раньше началось. […]
– А правда, что у нас на политике их копирайтеры работают?
– А вот это вранье. Они для себя-то ничего хорошего придумать не в состоянии. Разрешающая способность, число точек, спецэффекты – это да. Но страна бездуховная. Криэйторы у них на политике – г<...> полное. Кандидатов в президенты двое, а команда сценаристов одна. И работают в ней только те, кого с Мэдисон-авеню поперли, потому что деньги в политике маленькие. Я недавно их предвыборные материалы пересматривал – просто ужас. Если один про мост в прошлое заговорит, то другой уже через два дня обязательно про мост в будущее скажет. Бобу Доулу просто найковский слоган переделали – из “just do it” в “just don't do it”. А позитивного ничего придумать не могут […] Нет, наши сценаристы раз в десять круче. Ты посмотри, какие характеры выпуклые. Что Ельцин, что Зюганов, что Лебедь. Чехов. “Три сестры”. Так что пускай все люди, которые говорят, что в России своих брэндов нет, этим базаром подавятся. У нас здесь такие таланты, что ни перед кем не стыдно» [10, 208].
Игра в рекламу на уровне политики дает Морковину основания для «национальной гордости»: «наши сценаристы» пародийно сополагаются с достижениями классической литературной характерологии. «Три сестры», чья поэтика предполагает тонкую гаромнию между психологической индивидуализацией и отражением интегральных закономерностей эпохи, ее психологического камертона, проецируются на «характерологию» криэйторов от политики. Персонажи разные, технология одна (оцифровывание), и правит, как учит тот же Морковин, «принцип очень простой»: «Чтобы все в обществе было нормально, мы должны всего лишь регулировать объем денежной массы, которая у нас есть. А все остальное автоматически войдет в русло» [10, 212]. Пример полной цитатной «энантиосемии» при формальном следовании конвенции текстаисточника.
6. В самой сложной по своей внутренней структуре книге Пелевина «ДПП (нн): Диалектика Переходного Периода из Ниоткуда в Никуда» (2003), делящуюся на «Элегию 2» и «Мощь Великого», включающую роман «Числа», повесть «Македонская критика французской мысли» и рассказы «Один вог», «Акико», «Фокус-группа», именно в последнем есть персонажи «Дама с собачкой» и «Монтигомо». Как и в других случаях, отсылки к произведениям Чехова (рассказы «Дама с собачкой» и «Мальчики») совмещаются с цитатами из других текстов-источников.
Рассказ строится как пародийная «киберверсия» традиционного жанра «диалога на пороге», «диалога в царстве мертвых». Как неоднократно подчеркивал М.Бахтин, этот жанр и связанная с ним диалогическая традиция в произведениях Достоевского характеризуются последовательной карнавализацией [1, 188]. Учитывая те принципы, которые Бахтин выделяет для карнавализации диалога у Достоевского, Пелевин усиливает их гротескную природу. «Усопшие» – собственно «Фокус-группа» – получают новые имена, «прозвища вроде детских». «Монтигомо» из-за татуировки на руке, «Дама с собачкой» – «женщина средних лет с короткой стрижкой, на коленях у которой лежала японская сумочка в виде пекинеса с молнией на спине» [11, 322]. По аналогии с рассказом Достоевского «Бобок», все участники диалога «Фокус-группы» получают от Светящегося Существа «задание», являющееся условием перехода в «рай»: сформулировать свои заветные желания, представления о счастье. Именно Монтигомо, хотя и косноязычно, выражает всеобщее пожелание: «Все и сразу». Светящееся Существо обещает исполнение этого «консенсуса» с помощью специального аппарата «Ultima Tool», в просторечии «Раймашины», а его «техническое наименование» «Глоботрон» [11, 339]. «Сценарий» каждый носит в собственном сознании: «Все зависит от того, чем занят в последнюю минуту ум». Все персонажи, один за другим, исчезают в «Глоботроне», претерпев перед этим отвратительные метаморфозы, буквализующие их прижизненные пристрастия.
Герои, получившие «чеховские» прозвища, не становятся исключениями, как и интеллектуально амбициозный «Отличник», мечтающий об усовершенствованных компьютерных играх. Косвенным комментарием, поясняющим неизбывность такого варианта «пути к себе», являются слова англичанки Мюс из романа «Числа», поучающей главного героя Степу Михайлова (Степа реализовал «репетицию» «Вишневого сада» из «Жизни насекомых», стал «карманником», хозяином «карманного банка»): «…Мы на Западе берем на себя негласное обязательство потреблять образы себя, свои consumer identities, которые общество разрабатывает через специальные институты» [11, 81]. «Фокус-группа» находится в абсолютно сильной позиции по отношению ко всем текстам «ДПП(нн)». После сеанса Светящееся Существо превращается во что-то «похожее на дыню в сморщенном кожаном мешке», а окружающий мир принимает вид каменистой пустыни. В этом итоговом для всей книги «Никуда» остается только «протяжный звук, похожий то ли на сигнал тревоги, то ли на стон, полный сожаления о навсегда потерянных душах» [11, 352], напоминающий звук лопнувшей струны из чеховского «Вишневого сада», как и лейтмотивный «яблоневый сад» в «Фокус-группе» соотносится с моделью рая и с лейтмотивом «вишневого сада» в пелевинском тексте разных периодов.
7. Образ вишневого сада с сохранением уже отмеченных значений цитируется и в романе «Священная книга оборотня» (2004):
«Это была вечная русская история, последний цикл которой я видела совсем недавно, в конце прошлого века. Словно я лично знала эту пеструю корову, которой дети жаловались на свои беды, которая устраивала для них незамысловатые чудеса, а потом тихо умирала под ножом, чтобы прорасти из земли волшебным деревом – каждому мальчику и девочке по золотому яблоку…
В сказке была непонятная правда о чем-то самом печальном и таинственном в русской жизни. Сколько раз уже резали эту безответную корову. И сколько раз она возвращалась то волшебной яблоней, то целым вишневым садом» [12, 239].
«Вишневый сад» включен в состав центрального мифа романа – мифа о доброй пестрой корове, помогающей Крошечке-Хаврошечке и ее потомкам, живущим за счет крови земли – нефти, добывать которую становится все труднее. Главные герои романа – лиса-оборотень А Хули и «волк» Саша Серый – видят в пестрой корове не только атрибут священного ритуала, но и своеобразный тотем: «Ты – это все, кто жил здесь до нас. Родители, деды, прадеды, и раньше, раньше… Ты – душа всех тех, кто умер с верой в счастье, которое наступит в будущем» [12, 251]. Роман представляет собой послание, записанное на хард-диске ноутбука, оставленного А Хули, всем, кто подобно Петру Пустоте из «Чапаева и Пустоты» «хочет спасти свое сознание». Спасение, аналог волшебной яблони и вишневого сада, как всегда у Пелевина, зависит прежде всего от личного выбора (цитируя мрачную шутку Светящегося Существа, следует уточнить: «выбор у нас, как всегда, диалектический»). Выбор между «денежным деревом» и «вишневым садом», пусть и с «темными аллеями».
8. В книге «П5: Прощальные песни политических пигмеев Пиндостана» (2008) чеховский текст цитируется в двух повестях: «Зал поющих кариатид» («П1») и «Кормление крокодила Хуфу» («П2»). Анализируя эти примеры, приходится нарушать их последовательность для наглядности. Вторая повесть книги «Кормление крококдила Хуфу» представляет собой реализацию уже отмеченного приема перспективы, уходящей в бесконечность. Трое: «олигарх» Алексей Иванович (чьим хобби в советское время были фокусы), Игорь и переводчица Танюша – едут на юг Франции, чтобы увидеть чудеса глухонемого фокусника. Его главный номер – реализация старой афиши «Кормление крокодила Хуфу», «история» которой записана на магнитофон и переводится Танюшей. Именно Танюша первой рассердила фокусника своими капризами, после чего издевательский фокус с надувной женщиной становится своеобразной местью и поводом для разговора: «“Пневма” по-гречески душа, – пояснил Алексей Иванович. […] Почему-то всегда бывает надувная женщина, а не мужчина. Если это и метафора, то смысл скорее в том, что женщина по своей природе чрезвычайно пластичное существо, которое мужчина наполняет содержанием. Не только в прямом физиологическом, но и в переносном смысле. Вот у Чехова был такой рассказ “Попрыгунья”…» [17, 140]. Цитируемое заглавие становится знаком непонимания сущности происходящего. Фокусник берет дорогие часы Алексея Ивановича, но вместо ожидаемого фокуса их разбивает. Конфликт с фокусником завершается бегством и «опозданием» героев: «Опоздание считалось побегом. А тех, кто пытался бежать со строительства Великой Пирамиды, бросали в квадратный пруд…» [17, 151], обитателем которого и был Священный Крокодил Хуфу. Строительство Великой Пирамиды и кормление крокодила Хуфу – взаимосвязанные аллегории. «Попрыгунья», являющаяся и аллюзией басни Крылова «Стрекоза и муравей», которая, в свою очередь, цитируется и в пьесе «Три сестры» и в пелевинской «Жизни насекомых», становится свернутым симптомом неминуемой расплаты за неумение видеть.
Связь между двумя чеховскими цитатами в «П5» укрепляется за счет введения в цитатно-аллюзивный слой повести «Зал поющих кариатид» в виде вставного текста перефразированного эпиграфа повести братьев Стругацких «Улитка на склоне»: «В будущем каждая улитка попадет на вершину Фудзи на пятнадцать секунд» [17, 50]. Таким образом устанавливается соотнесенность и с романом Пелевина «Empire V» (2006), в котором именно на «вершине Фудзи, время зима» заканчивает свой путь бывший Рома Шторкин (Шторквинкель), впоследствии «Рама»-вампир, реализовавший свой «шанс войти в элиту» [15, 408]. Но, как и в повести «Зал поющих кариатид», эта «вершина» находится глубоко под землей.
Поэтика пространства в «П5» обладает повышенной значимостью, даже в сравнении с обычными для пелевинских произведений изощренными пространственными экспериментами. В первой повести, задающей всей книге программные контуры, пространство фиксируется в заглавии – «Зал поющих кариатид». Именно аналогия с заглавием чеховской комедии в очередной раз позволяет Пелевину реализовать один из главных символических сюжетов – о русском пути. Отобранные для работы в секретном подземном борделе сотрудники постоянно проходят специфические тренинги. На встрече с «идеологом» «в виде пикника» главная героиня Лена, которая «работает» кариатидой («каменной бабой»), выкрашенная зеленой краской и для фиксации позы получающая инъекции «из богомолов», рассказывает о своей «работе» «коллеге» – «косматому мужику с силиконовой грудью», слыша в ответ: « – В малахитовом зале, - забормотал мужик, который, похоже, был уже невменяем, – вся Россия наш зал… Они будут шампанское пить, а мы им петь в окрашенном виде. И не просто петь, мы еще будем бороться за право им петь. Конкурировать друг с другом…» [17, 84-85]. Гротескная перефразировка крылатой фразы «Вся Россия наш сад» [23, 227] фиксирует «прощальный» этап «зеленого», денежного пути. Вместо вишневого сада – зеленый зал, только «цитирующий» один из залов Эрмитажа. Это закономерность пелевинской символики цветообозначений, автоцитата «позеленевшего бюста Чехова» из «Жизни насекомых».
Чеховские цитаты в функциональном отношении характеризуются принципиальным совмещением основных разновидностей в каждом случае цитирования. Референциальная функция состоит в отсылке к «реальности» («Владимир Ильич перечитывает Чехова»), аргументативная функция (Алексей Иванович приводит в качестве примера «Попрыгунью») совмещается с игровой (Татарский признает «сложности» при «выдавливании раба»), игровая функция соотносится с критической (в случаях «постмодернистского» «цитирования» чеховских пьес), метадискурсивная функция вступает в силу в составе метауровня произведений (роль литературы и книги в нелитературоцентричном мире, «будущее все равно за кинематографом», чтение глянца и «порча» классики). Ведущими функциями при использовании чеховских цитат являются этологическая (апелляция к Чехову как к безусловной классике «русской идеи») и герменевтическая, состоящая в динамизации смысла произведений Пелевина, стратегии побуждения читателя перейти от «неведения» (главный из лисьих «грехов», чтобы преодолеть себя, нужно пять раз понять эту тайну) к спасению «собственного сознания» [26, 82]. Для успешной реализации этих двух ведущих функций необходима дешифровка не только произведений Чехова, но и их связей с другимицитируемыми текстами, в том числе и спротивопоставленными чеховским в концепции интертекста Пелевина.
Перечень чеховских цитат может быть дополнен, но и с учетом проанализированных примеров можно сделать выводы о закономерностях их использования в системе поэтики произведений Пелевина.
1. Цитаты произведений Чехова, несмотря на минимальный объем (цитируются заглавия «Три сестры», «Вишневый сад», «Дама с собачкой», «Попрыгунья», имена персонажей, крылатые фразы и их фрагменты), обладают повышенной значимостью за счет системного характера, обеспечивающегося стратегией текста Пелевина – стратегией гипертекстуальности, парадигмы текстов в тексте. При этом «цитатность» как очевидная черта собственного стиля подвергается автоостранению, как в романе «Священная книга оборотня», где цитируется электронное письмо сестры главной героини: «Брайан заметил, что повторение – не обязательно плагиат, это суть постмодерна, а если шире – основа современного культурного гештальта, проявляющаяся во всем – от клонирования овец до ремейка старых фильмов. Чем еще заниматься после конца истории? Именно цитатность, сказал Брайан, превращает Климаксовича из плагиатора в постмодерниста. Александр возразил, что от российского участкового этого Климаксовича не спасла бы никакая цитатность, и если в Белоруссии история кончилась, то в России с ней перебоев не предвидится» [12, 218]. Именно цитатность превращает этот очередной антипостмодернистский выпад в системно оформленный метатекст, в особенности, при его сопоставлении с «участковым» из разговора Максима и Никиты по поводу репетиции «Вишневого сада» в «Жизни насекомых».
2. «Искусство должно быть правдой» – эта мысль героев «Священной книги оборотня» была одним из важнейших импульсов Чехова в его отношениях к искусству предшественников. Окарикатуривание, например, «декадентов» в «Чайке» (своего рода авторская стратегия цитирования), как и окарикатуривание Пелевиным многих современников, при всех различиях, – не лишено функционального и смыслового многообразия, это не только и не столько отрицание.
3. Чеховские образы-цитаты включаются в главные смысловые структуры прозы Пелевина: об историческом пути России, ее прошлом, настоящем и будущем, о ее единственном выборе в ситуации «Глоботрона» «между Востоком и Западом» – помнить о своем «вишневом саде» с его «тайной свободой», о личной ответственности каждого – единственной гарантии защиты от «ультимативной экономической игры». «Вишневый сад» становится лейтомтивом, разворачивающимся в специфическую повествовательную цепочку автометатекста Пелевина, фиксирующим в образной форме этапные периоды духовной истории страны и сохраняя при этом связь с текстом-предшественником.
4. Цитирование чеховского текста как системы, за счет чего оформляются кросс-референции текстов Пелевина разной жанровой природы (рассказ, эссе, роман, «книга»), расширяет возможности генологических модификаций, в частности, малых форм, рассказов, стремящихся к концентрации романного содержания.
5. Чеховский текст в произведениях Пелевина, как одна из констант его интертекстуального репертуара, является формой автоцитации, свидетельством парадигматической систематизации собственных текстов разных периодов и разной жанровой природы (в «Священной книге оборотня» сообщается, что «конец» в виде черного пса о пяти ногах пришел политтехнологу Татарскому, главному герою романа «Generation “П”»; сам «пес», он же волк-оборотень Саша Серый, – развитие образа из повести «Проблема верволка в средней полосе»), системность цитируемого чеховского текста соотносится с разворачиванием приемов на разных уровнях поэтики: персонажи, принципы их номинации, сюжеты, построение диалогов, структура экфразисов, нарративная техника, метаповествование и их взаимодействие.
Литература
1. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М.М. Собр. соч.: В 7 т. – Т. 6. – М., 2002.
2. Беляева Н.В. «Я хочу спасти свое сознание»: герои Виктора Пелевина в поисках себя // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2003. – № 6.
3. Богданова О.В. Постмодернизм в контексте современной русской литературы (60 – 90-е годы ХХ века – начало ХХI века). – СПб., 2004.
4. Богданова О., Кибальник С., Сафронова Л. Литературные стратегии Виктора Пелевина. – СПб., 2008.
5. Денисова Г.Н. В мире интертекста: язык, память, перевод. – М., 2003.
6. Ерофеев В.В. Записки психопата. Москва – Петушки. – М., 2008.
7. Мережинская А.Ю. Художественная парадигма переходной культурной эпохи. Русская проза 80-90-х годов ХХ века. – К., 2001.
8. Пави П. Словарь театра. – М., 1991.
9. Пелевин В.О. Чапаев и Пустота. – М., 2000.
10. Пелевин В.О. Generation «П». Рассказы. – М., 2001.
11. Пелевин В.О. ДПП (нн): Диалектика Переходного периода из Ниоткуда в Никуда. – М., 2004.
12. Пелевин В.О. Священная книга оборотня. – М., 2004.
13. Пелевин В.О. Все рассказы. – М., 2005.
14. Пелевин В.О. Relics: Раннее и неизданное. – М., 2005.
15. Пелевин В.О. Empire ‘V’: Ампир ‘В’. – М., 2006.
16. Пелевин В.О. Жизнь насекомых. Свет горизонта. – М., 2008.
17. Пелевин В. П5: Прощальные песни политических пигмеев Пиндостана. – М., 2008.
18. Пелевин В.О. Все повести и эссе. – М., 2009.
19. Протохристова К. Интерпретация и титрология // Проблеми и аспекти на литературната интерпретация. Сб. – Пловдив, 1993.
20. Тамарченко Н.Д. Теория литературных родов и жанров. Эпика. – М., 2001.
21. Тамарченко Н.Д. Русская повесть Серебряного века: (Проблемы поэтики сюжета и жанра). – М., 2007.
22. Фатеева Н.А. Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире текстов. – М., 2000.
23. Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем в 30 т. Соч. в 18 т. – Т. 13. – М., 1978.
24. Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем в 30 т. Письма в 12 т. – Т. 3. – М., 1974.
25. Чехов А.П. Чайка. Дядя Ваня. Три сестры. Вишневый сад. Повести и рассказы. – М., 2007.
26. Jouve V. La poetique du roman. – P., 2001.
[1] «В России всегда существовал разрыв между культурой и цивилизацией. Культуры больше нет. Цивилизации больше нет. Остался только Gap. То, каким тебя видят (англ.). (Игра слов: gap – разрыв, Gap – сеть универсальных магазинов)» [10, 81].