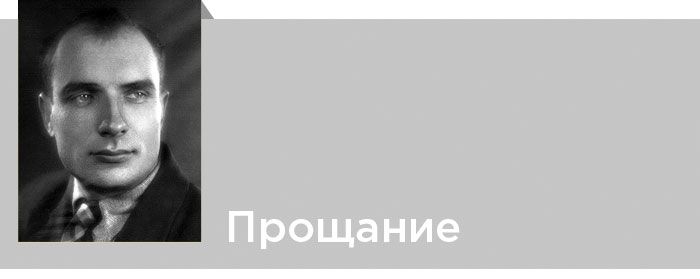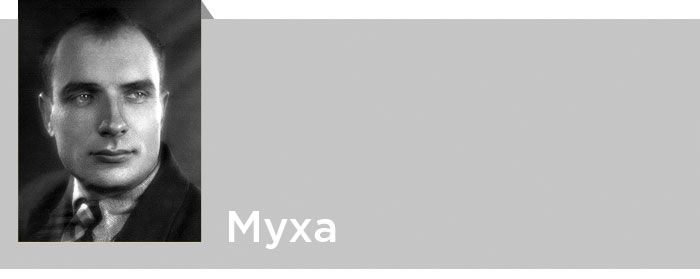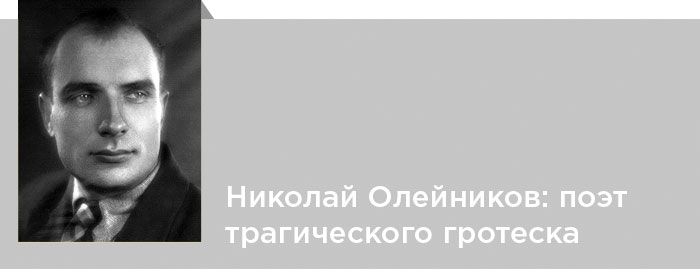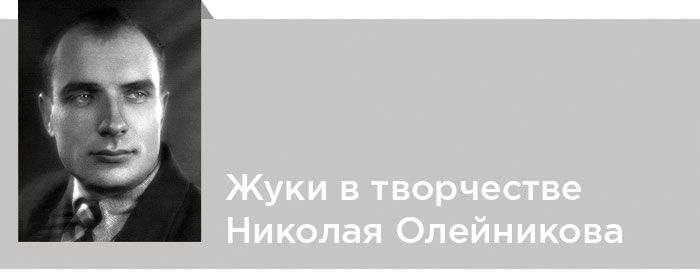Пучина страстей. Олейников Николай Макарович. Вступительная статья
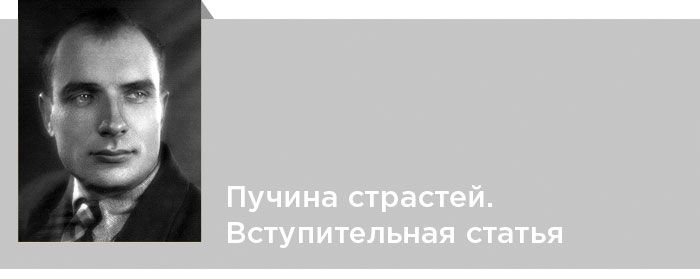
Николай Макарович Олейников (1898–1937) — один из самых оригинальных и ярких представителей русского поэтического авангарда 1920-1930-х годов: тонкий лирик и пародист, поэт-сатирик, философ, своеобразный стилист, с именем которого связано целое художественное направление так называемого «абсурдизма» (Д. Хармс, А. Введенский, Н. Заболоцкий и др.). Погибший во времена сталинщины, он на десятилетия был исключен из истории литературы. Его произведения не издавались, большая их часть оставалась в рукописях и списках, сохраненных семьей и друзьями поэта.
Л. Гинзбург. Николай Олейников
Николай Макарович Олейников примыкал к литературной группе «Обериу» — «Объединение реального искусства» (Заболоцкий, Хармс, Введенский, Бахтерев, Дойвбер, Левин, Разумовский, Вагинов), сложившейся в Ленинграде в конце 1920-х годов. Олейников не входил формально в это объединение и никогда не принимал участия в публичных выступлениях обериутов. Но он постоянно с ними общался и, главное, писательски был гораздо ближе к обериутам (особенно к Заболоцкому «Столбцов»), чем, например, участник объединения Вагинов.
На рубеже двадцатых-тридцатых годов я много встречалась с этим необыкновенным человеком. Евгений Шварц в своих воспоминаниях назвал его «демоническим». Вот запись об Олейникове, сделанная мною в марте 1933 года:
«Олейников один из самых умных людей, каких мне случалось видеть. Точность вкуса, изощренное понимание всего, но при этом ум его и поведение как-то иначе устроены, чем у большинства из нас; нет у него староинтеллигентского наследия.
Не знаю, когда и чему он учился. Вот что он мне как-то о себе рассказал. Юношей он ушел из донской казачьей семьи в Красную Армию. В дни наступления белых он, скрываясь, добрался до отчего дома. Но отец собственноручно выдал его белым как отступника. Его избили до полусмерти и бросили и сарай, с тем чтобы утром расстрелять с партией пленных. Но он как-то уполз и на этот раз пробрался в другую станицу, к деду. Дед оказался помягче и спрятал его. При первой возможности он опять ушел на гражданскую войну, в Красную Армию.
Неясно, успел ли он учиться, но знает много, иногда самые неожиданные вещи. В стихах он неоднократно упоминает о занятиях математикой. Бухштаб однажды подошел к Олейникову в читальном зале Публичной библиотеки и успел разглядеть, что перед ним лежат иностранные книги по высшей математике. Олейников быстро задвинул книги и прикрыл тетрадью.
Олейников говорит:
— Не может быть, чтобы я был поэтом в самом деле. Я редко пишу. А все хорошие писатели графоманы. Вероятно— я математик.
Ахматова говорит, что Олейников пишет, как капитан Лебядкин, который, впрочем, писал превосходные стихи. Вкус Анны Андреевны имеет пределом Мандельштама, Пастернака. Обериуты уже за пределом. Она думает, что Олейников — шутка, что вообще так шутят.
Олейников продолжает традицию, в силу которой юмористы подвержены мрачности или меланхолии (Свифт, Гоголь, Салтыков, Зощенко). На днях мы разговаривали долго. Он был мрачен и говорил, что человеку необходимо жениться, потому что это избавляет от ощущения беспросветности существования, свойственного каждому. „Самое страшное — утром просыпаться в комнате одному“.
Заговорили о его стихах.
— Это не серьезно. Это вроде того, как я вхожу в комнату, раскланиваюсь и говорю что-нибудь. Это стихи, за которыми можно скрыться. Настоящие стихи раскрывают. Мои стихи — это как ваш „Пинкертон“, как исторические повести для юношества.
— Нет, это несоизмеримо. Но я понимаю… Вы хотите сказать — вещи не из внутреннего опыта.
— Есть разные внутренние опыты. Может быть опыт умного и остроумного человека. Человека, который умеет сделать то, что хочет сделать. Это все может пойти в условную вещь. Только это не самый главный внутренний опыт.
Мы говорили еще о том, что непонятно, как писать сейчас прозу. О том, что нас тяготит фиктивность существующих способов изображения человека. Я сказала, что еще Толстой в конце жизни утверждал — уже невозможно описывать, как вымышленный человек подошел к столу, сел на стул и проч., что интересен эксперимент Пруста. Вместо изображения человека — у него изображение размышлений о человеке, то есть реальности, адекватно выражаемой в слове. Слово и есть материя размышления, тогда как по отношению к материи всякого предмета слово есть знак, речевой эквивалент. Прустовская действительность — это комментарий; люди и вещи вводятся по принципу цитат.
Олейников (возвращаясь к теме „не главного внутреннего опыта“):
— Я уже говорил, что вещи, решающие условную задачу, читать не стыдно.
— Ну да, и если там кто-нибудь садится на стул, то отвечает за это не автор, а предшественники автора…»
Здесь кончается запись 1933 года.
Свободный от староинтеллигентских навыков в бытовом общении, в своей жизненной манере, Олейников вовсе не был свободен от культурного наследия; он знал русскую поэзию XIX и XX веков. У его собственной поэзии были источники — Мятлев, Козьма Прутков (Олейников называл себя внуком Козьмы Пруткова, посвящал стихи его памяти), шуточные стихи А. К. Толстого, поэты «Искры» и поэты «Сатирикона».
И одновременно Хлебников. Поэтической практике Олейникова многое в Хлебникове чуждо — его мифологизм, славянская стихия, корнесловие, его утопии и философия истории. Казалось бы, важнейшие слагаемые хлебниковского мира. И все же традиция Хлебникова живет в олейниковском понимании слова, в принципе его словоупотребления.
Этот принцип объединял Олейникова с обериутами. Олейников с его сильным и ясным умом очень хорошо понимал, где кончается бытовой эпатаж обернутое и начинается серьезное писательское дело. В тридцатых годах он как-то сказал мне о Хармсе: «Не расстраивайтесь, Хармс сейчас носит необыкновенный жилет (жилет был красный), потому что у него нет денег на покупку обыкновенного».
Козьма Прутков, Саша Черный и Хлебников — что могло получиться из такого скрещения? Получилась система чрезвычайного единства, принадлежащая поэту, узнаваемому по любой строчке (узнаваемость вообще неотъемлемое свойство настоящего поэта) — Признаки этой системы: умышленный примитивизм, однопланный синтаксис при многопланной семантике, гротескные несовпадения между лексической и стилистической окраской слова и его логическим содержанием. Целостность, но образуемая сложно соотнесенными слагаемыми.
Поэтический язык Олейникова несет разные функции, порождающие разные типы стихотворений.
Есть у него стихи прямо шуточные. «Бюджет развратника», например:
Руп —На суп.Трешку —На картошку.Пятерку —На тетерку.Десятку —На куропатку.Сотку —На водку.И тысячу рублен —На удовлетворение страстей.Олейниковской шутке присуще также то, что Тынянов, применительно к «арзамасскому» и пушкинскому кругу, называл домашней семантикой. Домашняя семантика зарождалась в атмосфере Детгиза, где в редакции прелестных детских журналов «Ёж» и «Чиж» работали Олейников, Евгений Шварц, юный Ираклий Андроников; Детгиз постоянно посещали обериуты. Это была атмосфера непрекращающейся блестящей буффонады, розыгрышей, мистификаций. Николай Чуковский вспоминал Детский отдел Госиздата: «Там постоянно шел импровизированный спектакль, который ставили и разыгрывали перед случайными посетителями Шварц, Олейников и Ираклий Андроников». Разыгрывался этот спектакль и на других площадках. Например, Т. Липавская в воспоминаниях о Заболоцком рассказывает о том, что Заболоцкий, Хармс, Олейников и Л. Савельев решили вчетвером организовать по воскресеньям «Клуб малограмотных ученых».
В «домашних» стихах Олейникова (стихи этого типа писали и Шварц, и Заболоцкий) присутствуют постоянно всплывающие персонажи из детгизовского окружения. В первую очередь Шварц, с которым Олейникова до конца его жизни связывала тесная дружба.
Я влюблен в Генриетту Давыдовну,А она в меня, кажется, нет —Ею Шварцу квитанция выдана,Мне квитанции, кажется, нет.Ненавижу я Шварца проклятого,За которым страдает она!За него, за умом небогатого,Замуж хочет, как рыбка, она.
В шуточных «детгизовских» стихах Олейникова намечается уже травестийный метод — игра сменяющимися масками. Есть у Олейникова маска высокопарного обывателя и есть маска резонера — «мудреца-наблюдателя», «служителя науки».
Маски Олейникова — языковые маски. Их образуют разные пласты его лексики. Но в основе этих стилистических вариантов — единый олейннковский язык, какими-то своими существенными признаками восходящий к традиции Хлебникова.
Напомню некоторые характеристики языка Хлебникова. «Детская призма, инфантилизм поэтического слова… — говорит Тынянов. — (…) Детский синтаксис, инфантильные „вот“, закрепление мимолетной и необязательной смены словесных рядов — последние обнаженной честностью боролись с той нечестной литературной фразой, которая стала далека от людей и ежеминутности».
В книге о Хлебникове Н. Степанов писал: «Стихи Хлебникова можно сравнить с картинами художников-„примитивистов“. Такая же наивная композиция, лишенная перспективы, условная линейная схема в изображении фигур…» О том же пишет и Берковский в посвященной Хлебникову статье сороковых годов: «Сплошные именительные падежи, устранены косвенные отношения, каждая вещь вставлена в группу отдельно, лицом прямо к зрителю…»
Итак, инфантилизм и примитивизм, линейность, честная обнаженность слова. В какой-то мере эта модель применима к стихам Олейникова, хотя осуществляется она иначе и на другом материале.
У Олейникова короткая фраза, синтаксический примитивизм, словосочетания, которые прикидываются прямолинейными; притом необычайно резкая лексическая, семантическая фактура слова. В его стихах слова тоже «лицом прямо к зрителю». А между тем все не совпадает — содержание с выражением, стилистические уровни с ценностной окраской. Одним из самых активных средств этой бурлескной неадекватности является для Олейникова «галантерейный язык» — в новой своей формации.
Галантерейный язык — это высокий стиль обывательской речи. В среде старого мещанства его порождало подражательное отношение к быту выше расположенных социальных прослоек. В галантерейном языке смешивались слова, заимствованные из светского обихода, из понаслышке освоенной литературы (особенно романтической), со словами профессиональных диалектов приказчиков, парикмахеров, писарей, вообще мелкого чиновничества и армейского офицерства.
Смесь ложно-романтической высокопарности и «красивости» с элементами галантерейного языка характерна для вульгарного романтизма 1830-х годов. На этой основе сложилась своеобразная, сокрушающая нормы поэтика самого талантливого его представителя — Бенедиктова.
Олейников обратился к новой, современной формации галантерейного языка, — в другом социальном варианте к ней обращался и Зощенко. Галантерейный язык XIX века и галантерейный язык 1920-1930-х годов — это, конечно, разные исторические явления, но их объединяет некий тип сознания. Это сознание не производит ценности, оно их берет, хватает где попало. Поэтому оно не может понять, что ценности требуют ответственности, что они должны быть гарантированы трудом, страданием, пожертвованием низшим высшему. Отсюда непонимание несовместимости разных уровней, разных форм человеческого опыта, воплощенных в слове. Совмещение несовместимого как принцип словоупотребления. Принципиальная стилистическая какофония.
Из стилистической какофонии проступает во всем своем великолепии галантерейный персонаж. Он любит красивое и путает словесные ряды.
Над системой кровеносной,Разветвленной, словно куст,Воробьев молниеноснейПронеслася стая чувств.…И еще другие чувства,Этим чувствам имя — страсть! —Лиза! Деятель искусства!Разрешите к Вам припасть!
Кровеносная система, страсть и деятель искусства, к которому автор просит разрешения припасть, — все это слова не на своем месте.
Анализируя словоупотребление раннего Зощенко, М.О. Чудакова говорит, что его «интересует… слово испорченное, слово-монстр, употребленное не по назначению, не к месту».
У Бенедиктова стилистическая какофония — результат путаницы ценностных представлений — была неосознанной, простодушно-серьезной. У Олейникова она сознательная, умышленная и потому комическая. Это его устойчивая маска.
Эту маску тут же оттесняет другая, — Олейников сам определил ее как образ «мудреца-наблюдателя». Этот персонаж — «служитель науки», натурфилософ, математик. Здесь травестируется исследовательское мышление — абсурд в оболочке научных формулировок.
Хвала изобретателям, подумавшим о мелких и смешных приспособлениях:О щипчиках для сахара, о мундштуках для папирос,Хвала тому, кто предложил печати ставить в удостоверениях,Кто к чайнику приделал крышечку и нос…Хвала тому, кто первый начал называть котов и кошек человеческими именами,###Кто дал жукам названия точильщиков, могильщиков и дровосеков,Кто ложки чайные украсил буквами и вензелями,Кто греков разделил на древних и на просто греков.
В этих стихах — в гротескной форме — подчеркнуто присутствует хлебниковская традиция. Вещи, освобожденные от «косвенных отношений», стоят «отдельно». Традиция доведена до абсурда сопоставлением синтаксически подобранных формул, уравнивающих вещи, взятые из самых различных, несопоставимых смысловых рядов. Хлебниковская традиция служит здесь пародийной маске «мудреца-наблюдателя».
Зачем нужны эти маски? Они нужны были в той борьбе, которую литературное поколение двадцатых годов вело против еще не изжитого наследия символизма с его потусторонностью и против эстетизма 1910-х годов. Все мы терпеть не могли всяческое эстетство, «красивость», стилизаторство — все это были бранные слова. В начале 1928 года была опубликована («Афиши Дома печати» № 2) декларация обериутов, призывавшая поэтов освободиться от «литературной и обиходной шелухи». У обернутое это хлебниковская установка. По словам Тынянова, «новое зрение Хлебникова… не мирилось с тем, что за плотный и тесный язык литературы не попадает самое главное и интимное, что это главное оттесняется „тарою“ литературного языка». Жажда увидеть мир заново, содрать с него шелуху привычного присуща была в искусстве многим молодым школам. Особенно сильной, понятно, была она у молодых поэтов послереволюционного времени. Новый поэт среди крушения ценностей старых дач-жен все сделать сам и все начать сначала.
Декларация обернутое объявляла задачей воспитанного революцией поэта «очищать предмет от мусора истлевших культур». Для этого нужно было покончить с доставшимися от прошлого смысловыми ореолами слов, с их установившимися поэтическими значениями.
Декларация обернутое предлагала поэту посмотреть «на предмет голыми глазами». У раннего Заболоцкого, у Хармса, у Олейникова возникает подсказанное опытами Хлебникова голое слово, слово без определения. Это попытка освободить слово от ореолов, пустить его в строку голым — пускай само набирает значения, какие может
Ни одному поэту еще не удавалось — и не удастся — в самом деле посмотреть на мир «голыми глазами». Это иллюзия, нередко овладевающая молодыми литературными школами. Поэзия, даже самая новаторская, питается наследием, традицией, хотя бы от нее самой скрытой, бессознательной. Хлебников же вполне сознательно ориентировал свои поэтические ценности на фольклор, на древнерусскую национальную культуру. Но раннему Заболоцкому, обериутам в их писательском самоутверждении нужна была иллюзия первозданности, «голого слова».
В 1910-х годах целеустремленную борьбу с символистическим наследием начали футуристы, многому притом научившиеся у символистов. Но Хлебников, Маяковский были окружены тогда плотной атмосферой русской «новой поэзии» начала века. Поэтому борьба была внутренней, и разыгрывалась она на площадке собственного творчества. Для поколения Заболоцкого, Олейникова символическое наследие было уже фактом внешним, на который можно посмотреть со стороны. С их точки зрения, враждебные значения поэтических слов притаились и в творчестве поэтов после-символистской поры. В начале тридцатых годов мне случалось разговаривать и спорить на эти темы с Заболоцким. Он отвергал тогда Блока, Пастернака, Мандельштама, Ахматову. В XX веке, утверждал он, по-настоящему был один Хлебников.
О символистах и постсимволистах Олейников говорил примерно то же, только с большим пылом и раздражением, чем сдержанный, обдумывающий свои речи Николай Алексеевич.
— Они пишут слова, которые ничего не означают, — и, ах! — какие они красивые! — говорил Олейников.
В отличие от большинства пародистов (от Козьмы Пруткова, в частности) Олейников пародировал не определенные произведения, не узнаваемых авторов, но именно «красивость», эстетство и вообще слова, не отвечающие за свое значение.
Отзывы Олейникова сердили меня сначала. Кто-то заметил: «Если ему нравятся его собственные стихи, ему не должны нравиться стихи Мандельштама». Очень верно. Это проблема отбора и отказа — нужного и ненужного для становления поэта. Это и есть признак поэта и литературной школы. Мешает именно тот, кто сейчас (или сравнительно недавно) выражает то, что хочет выразить данный поэт. Иначе классики, — они в другое время выражали другие вещи, иногда очень нужные. И Олейников наизусть читал лермонтовскую «Любовь мертвеца», которая была ему нужна для баллады «Чревоугодие».
Однажды я сказала Олейникову:
— У Заболоцкого появился какой-то холод…
— Ничего, — ответил Олейников как-то особенно серьезно, — он имеет право пройти через это. Пушкин был холоден, когда писал «Бориса Годунова». Заболоцкий под влиянием «Бориса Годунова».
Определять развитие близкого Олейникову Заболоцкого должен был Пушкин, — никак не поэты XX века (кроме Хлебникова).
Социальные адресаты насмешки Олейникова скрещивались с адресатами литературными. Издевательское словоупотребление Олейникова, его образы, выпадающие из своих стилистических рядов, его искривленные языковые маски (среди них маска вульгарного эстета) — все это реализация борьбы с системой бутафорских значений, литературной «тары» для уже несуществующих ценностей. Олейников хотел окончательно забить вход в мир символизма, еще живший в своих производных. Для этого особенно пригодился галантерейный язык.
Но поэтическая система Олейникова сложна и не замкнута его масками. Олейников — настоящий поэт, и за масками мелькает, то проступая, то исчезая, лицо поэта. Речь, конечно, идет не об эмпирическом, биографическом авторе, но о литературном образе поэта — субъекте данной поэтической речи. Почему этот поэт заслоняется бурлескными личинами, почему говорит не на своем языке? Этот вопрос не решается до конца на уровне литературных пародий и социальной сатиры. Это вопрос о типе исторического сознания.
Олейников сформировался в двадцатые годы, когда существовал (наряду с другими) тип застенчивого человека, боявшегося возвышенной фразеологии, и официальной, и пережиточно-интеллигентской. Олейников был выразителем этого сознания. Люди этого склада чувствовали неадекватность больших ценностей и больших слов, не оплаченных по строгому социальному и нравственному счету. Они пользовались шуткой, иронией как защитным покровом мысли и чувства. И только из толщи шуток высвобождалось и пробивалось наружу то подлинное, что они хотели сказать о жизни. На высокое в его прямом, не контролируемом смехом выражении был наложен запрет.
Но у поэта есть свой язык, существующий наряду с языками его масок. В стихах Олейникова совершается как бы непрестанное движение от чужих голосов к голосу поэта и обратно. Поэтому язык Олейникова выворачивает наизнанку не только сознание его бурлескных персонажей, но в какой-то мере и сознание самого поэта. Он в какой-то мере берет на себя ответственность за своих героев.
Сквозь маски Олейникова просвечивало и саморазоблачение и самоутверждение поэта. Самоутверждение в не-отторгаемых от поэзии ценностях, — скрытых толщей шутки. — в лирическом и трагическом восприятии мира. Об этом уже говорили люди, хорошо знавшие Олейникова и его творчество. Николай Чуковский писал: «Чем ближе подходило дело к середине тридцатых годов, тем печальнее и трагичнее становился юмор Олейникова». И. Бахтерев и А. Разумовский пишут в статье «О Николае Олейникове»: «…За шуткой чувствуется лирическая взволнованность, душевная сила подлинного поэта».
Между голосами масок и голосом поэта граница порой размыта. Серьезное, подлинное мерцает на грани смешного. Серьезное поэтому тоже как бы взято под сомнение. Порою трудно уловить, зафиксировать эти переходы.
От экстаза я болею,Сновидения имею,Ничего не пью, не емИ худею вместе с тем.Вижу смерти приближенье,Вижу мрак со всех сторонИ предсмертное круженьеНасекомых и ворон.
Это две соседние строфы стихотворения. Первая из них — откровенная буффонада. Во второй строфе уже движение между буффонадой (постоянная у Олейникова тема насекомых) и подлинным разговором о смерти.
В стихотворении «Ольге Михайловне» среди гротескного текста возникают лирические строки, которые как будто хотят и не могут до конца освободиться от буффонады:
Так в роще куст стоит, наполненный движеньем.В нем чижик водку пьет, забывши стыд.В кем бабочка, закрыв глаза, поет в самозабвеньи,И все стремится и летит.И я хотел бы стать таким навек,Но я не куст, а человек.На голове моей орлы гнезда не вили,Кукушка не предсказывала лет…Люби меня, как все любили,За то, что гений я, а не клеврет!
Здесь удивительное переплетение и взаимодействие разных ценностных уровней, скрещение травестированного с настоящим. Куст, «наполненный движеньем», вокруг которого «все стремится и летит», — в самом деле прекрасен. И начинает казаться, что поэт в самом деле хочет, чтобы его любили, но не смеет об этом сказать другими, нетравестированными словами.
Те же соотношения в заключительной строфе стихотворения «Служение науке»:
Зовут меня на новые великие делаЛесной травы разнообразные тела.В траве жуки проводят время в занимательной беседе.Спешит кузнечик на своем велосипеде.Запутавшись в строении цветка,Бежит по венчику ничтожная мурашка.Бежит… Бежит… Я вижу резвость эту, и меня берет тоска,Мне тяжко!
Строфа вышла из буффонады, и многое в ней (в частности, несерьезное слово «резвость») тянет туда обратно. Но лесные травы и жуки живут своей странной, инфантильной жизнью хлебниковского примитива. Но прорывается прекрасный стих:
Запутавшись в строении цветка…
Он борется с гротескным контекстом — с тем чтобы настроить его лирически. И читателю уже мерещится, что «Мне тяжко!», что «тоска» — это лирическое высказывание.
Стихотворение «Скрипит диванчик…» (озаглавлено «Любовь») — кульминация галантерейного языка и соответствующих представлений о любви («Ушел походкой / В сияньи дня…»). Последние его строфы:
Вчера так крепкоЯ вас любил,Порвалась цепка,Я вас забыл.Любовь такаяНе для меня.Она святаяДолжна быть, да!
Опять все двоится. Может быть, это гротескная гримаса, а может быть, в самом деле, это о высокой любви. Ведь олейниковский поэт не мог бы произнести словосочетание «святая любовь» — прямо, не погрузив его в защитную среду буффонады.
У Олейникова есть стихотворение «Посвящение»:
Ниточка, иголочка,Булавочка, утюг…Ты моя двуколочка,А я твой битюг.Ты моя колясочка,Розовый букет,У тебя есть крылышки.У меня их нет…
Непредсказуемый подбор вещей, становящихся атрибутами женского начала, — им противополагается битюг. Двуколочка, колясочка — метафоры нежности, колеблющиеся на острие шутки. Так возникает олейниковская лиричность, избавленная от традиционной лирической «тары».
Предвижу, что со мной могут не согласиться. Существует восприятие Олейникова как поэта только комического, пародийного, осмеивающего обывательскую эстетику с ее «красивостью» и лексическим сумбуром. Все это несомненно присутствует у Олейникова, но все включено в сложную систему смысловой двупланности, целомудренно маскирующей чувство. О двупланности поэзии 1820-х годов Тынянов писал, что ей свойственно «за стиховым смыслом прятать или вторично обнаруживать еще и другой».
Именно так поэт сам понимал свои стихи.
Я сказала как-то Олейникову:
— Я люблю ваши стихи больше стихов Заболоцкого… Вы расшиблись в лепешку ради того, чтобы зазвучало какое-то слово… А он не расшибся.
Он ответил:
— Я только для того и пишу, чтобы оно зазвучало.
Это свидетельство — ключ к самым значительным стихотворениям Олейникова, выступающим из ряда блистательных домашних шуток.
Одно из таких стихотворений — «Чревоугодие». В нем представлены оба словесных начала Олейникова — слово, умышленно скомпрометированное, и слово, наконец-то зазвучавшее. «Чревоугодие» имитирует балладное построение, интонацию. Но это поверхностный аспект. В 1930-х годах пародировать балладный жанр было бы бесцельно и совсем несвоевременно. Суть же стихотворения в скрещении разных пластов поэтического языка Олейникова.
Олейников убежден в том, что предшествующая поэзия не способна больше выражать современное сознание. Это у него общеобериутское. Но Заболоцкий, Хармс связаны с хлебниковской системой ценностей природы и познания и через Хлебникова с прошлым. Олейников пошел дальше. Он начинает с уничтожения наследственных сокровищ. Для того чтобы расчистить дорогу новому слову, ему нужно умертвить старые. Этому служат его языковые маски. Прежде всего маска пошляка, галантерейного человека, потому что язык подложных ценностей — самый разрушительный для любых ценностей, к которым он прикасается.
Однажды, однаждыЯ вас увидал.Увидевши дважды,Я вас обнимал.А в сотую встречуУтратил я пыл.Тогда откровенноЯ вам заявил…
Это первые строфы «Чревоугодия». Синтаксис их подчеркнуто примитивен, семантика обманчиво линейная. На самом деле она игровая, искривленная. Дважды, пыл, откровенно, заявил — все это слова, перемещенные из разных смысловых рядов, «слова не к месту».
Дальше развертываются характерные для баллады темы любви и смерти. К ним присоединяется тема голода, столь актуальная для людей, прошедших сквозь годы гражданской войны. Но традиционное выражение этих тем скомпрометировано словами то «грубыми» (масло, мясо, квас, горох с ветчиной, кухня, котлеты), то галантерейными.
В качестве языка любви галантерейный язык выражает сознание людей, уверенных в том, что на месте ценности — мерзость, но что в хорошем обществе о мерзости говорят так, как если бы на ее месте была ценность.
От мяса и квасаИсполнен огня,Любить буду нежно,Красиво, прилежно…Кормите меня!
Грубые и «красивые» строки почти правильно чередуются. А слово прилежно, не принадлежа ни к одному из обоих рядов, служит верным признаком галантерейной какофонии, безответственного совмещения несовместимых категорий оценки — заявил, увидевши, обнимал, страсть, вяну, дурацкое в своей серьезности слово пища. Тема голода оборачивается вдруг неудовлетворенным обывательским желанием «покушать».
И снова котлета.Я снова любил.
Галантерейно мыслящий человек-персонаж проговорился — обнаружил свое истинное отношение к любви.
В «Чревоугодии» травестируется традиционное тематическое сочетание любви и смерти. Тема смерти была Олейниковым продумана. Он говорил: «Я видел несколько раз во сне. что я умираю. Пока смерть приближается, это очень страшно. Но когда кровь начинает вытекать из жил, совсем не страшно и умирать легко.»
И признак жизни уходил из вен и из аорт.
Смерть героя предстает в скрещении романтического ужаса с мрачной буффонадой.
Дрожу оттого я,Что начал я гнить,Но хочется вдвоеМне кушать и пить.
Мертвец по ходу баллады становится все галантерейнее, он требует «красивых конфет», лимонада. Бурлескное преломление лермонтовского;
Я перенес земные страстиТуда с собой.
И вдруг смешное кончается и начинается тоска:
Но нет мне ответа —Скрипит лишь доска,И в сердце поэтаВползает тоска.
Это настоящая тоска, и принадлежит она настоящему поэту. Но это уже не та тоска и не тот поэт, какие завещаны нам поэтической традицией.
Язык Олейникова поражает разные цели — от обывателя до символистов (по мнению Олейникова, их объединяет пристрастие к фразеологии красивой и ничего не значащей). Но поэту, говорящему на этом языке, — как всякому настоящему поэту — нужны высокие слова, отражающие его томление по истинным ценностям. Как ему добыть новое высокое слово? Он их не придумывает, он берет вечные слова: поэт, смерть, тоска (они легче воспламеняются) — и впускает их в галантерейную словесную гущу. И там они означают то, чего никогда не означали. В них перерезаны связи. Слово поэт, уцелевшее в подобном контексте, не может означать того поэта, какой был у Державина, у Пушкина, у Веневитинова, у Фета, у Блока, у Маяковского. Тем не менее он поэт — человек страдающий и стихами говорящий о любви, о голоде и смерти. Повернутое через множество слов с отрицательным знаком ценности, оно, общепоэтическое слово, удержало эмоциональный ореол, но отдало свои наследственные смыслы. Так получается новый языковый знак для обозначения поэта другого качества.
Традиционные поэтические темы любви и смерти скомпрометированы словами то «грубыми», то галантерейными. По законам иронии, иронии в ее современном ракурсе, сквозь эти гротескные словесные массы пробивается высокое значение вечных тем. Но прежде чем зазвучать, они должны еще пройти сквозь кривое зеркало галантерейного языка с его смысловой какофонией, неизбежной, потому что носитель этого языка не знает о том, что порождение ценностей исполнено противоречий, усилий, самоограничения. Галантерейное растление слов предназначено предохранить непрочную эмоцию современного поэта от гибельного стереотипа подложных ценностей в «красивой оболочке».
Это я и имела в виду, когда сказала Олейникову, что он «расшибся в лепешку» ради того, чтобы «зазвучало какое-то слово»…
«Чревоугодие» имеет подзаголовок «баллада». Такой же подзаголовок присвоен и стихотворению «Перемена фамилии». В нем та же двупланность, и комическое причудливо дублируется серьезным. Своим синтаксическим строем стихотворение напоминает экспериментальный примитивизм некоторых вещей Хлебникова. Инфантильно построенными фразами рассказывается о том, как герой, внеся в контору «Известий» восемнадцать рублей, переменил имя и фамилию:
Козловым я был Александром,А больше им быть не хочу!Зовите Орловым Никандром,За это я деньги плачу.
А дальше на том же бурлескном языке речь идет о потере собственной личности, о раздвоении сознания. Герой видит в зеркале чужое лицо, «лицо негодяя», его окружают отчужденные, враждебные вещи.
Я шутки шутил! Оказалось,Нельзя было этим шутить.Сознанье мое разрывалось,И мне не хотелося жить.
Герой кончает самоубийством:
Орлова не стало, Козлова не стало.Друзья, помолитесь за нас!
Стихотворение до конца сохраняет пародийную оболочку. Но очевидно — смысл его не в том, чтобы пародировать уже малоактуальный балладный жанр, но чтобы сказать о страхе человека перед ускользающей от него двоящейся личностью, — старая тема двойника, воплощения затаившегося в личности зла.
В большом стихотворении, героиней которого является блоха мадам Петрова, разные языки Олейникова, разные его обличил переплетаются и неуследимо переходят друг в друга. Стихотворение адресовано приятелю, человеку из мира детской литературы начала тридцатых годов, особого мира со своими правилами игры. Соответственно начало стихотворения — шуточная «домашняя семантика»:
Так зачем же ты, несчастный,В океан страстей попал,Из-за Шурочки прекраснойБыть собою перестал?!
Дальше возникает хлебниковско-обернутская тема насекомых:
…Кто летали и кусалиИ тебя, и твою ШуруЗа роскошную фигуру.
Так в текст просочился галантерейный язык. Галантерейный язык разворачивается и строит сразу после этих строк возникающую тему влюбленной блохи Петровой:
И глаза ее блестели,И рука ее звала,И близка к заветной целиЭта дамочка была.Она юбки надевалаИз тончайшего пике,И стихи она писалаНа блошином языке…
Блоха Петрова — галантерейное существо с его миропониманием, его эстетикой и искривленными представлениями о жизненных ценностях. Но убогое сознание переживает свою убогую драму. «Прославленный милашка» затоптал блоху Петрову «ногами в грязь».
И теперь ей все постыло —И наряды, и белье,И под лозунгом «могила»Догорает жизнь ее.
Значение слов двоится, буффонада становится печальной. В этом можно было бы усомниться, если бы не непосредственно следующие строки; в них маска сдвигается, появляется от себя говорящий автор, поэт. Эти строки ретроспективно перестраивают смысл повествования о блохе Петровой:
…Страшно жить на этом свете,В нем отсутствует уют, —Ветер воет на рассвете,Волки зайчика грызут……Плачет маленький теленокПод кинжалом мясника,Рыба бедная спросонокЛезет в сети рыбака.
Блоха мадам Петрова включается, таким образом, в ряд беззащитных, беспомощных существ. Они гибнут от руки человека, и в то же время они сами травести человека, обреченного гибели.
Дико прыгает букашкаС беспредельной высоты.Разбивает лоб бедняжка…Разобьешь его и ты!
Что это — пародия на лермонтовский перевод из Гете: «Подожди немного, / Отдохнешь и ты»? Но пародия на Гете и Лермонтова не имела бы исторического смысла. Скорее, это реминисценция, возвращающая травестированным образам их человеческое значение.
Беззащитное существо, растоптанное жестокой силой, — это мотив у Олейникова повторяющийся. Герой стихотворения «Карась» построен по тому же принципу, что блоха мадам Петрова, — тоже чередование животных и человеческих атрибутов. Вплоть до авторского обращения к карасю на «вы»:
Жареная рыбка,Дорогой карась,Где ж ваша улыбка,Что была вчерась?
Так же как блоха Петрова, карась возникает из толщи галантерейного языка, несущего убогие представления о жизни. Карася обожали «карасихи-дамочки». Однажды ему встретилась «В блеске перламутра / Дивная мадам». Потерпев любовную неудачу, герой ищет смерти и бросается в сеть. И тут начинается рассказ о жестокости — карася отправляют на сковороду:
Ножиком вспороли,Вырвали кишки.Посолили солью,Всыпали муки.
Бытовая лексика рассказа о жестокости ведет за собой неожиданную фольклорную интонацию:
Белая смородина,Черная беда!Не гулять карасикуС милой никогда.…Плавниками-перышкамиОн не шевельнет.Свою любу «корюшкою»Он не назовет.
Фольклорная интонации несет в себе лиричность. Но это лиричность олейннковская — двоящаяся, дублированная бурлеском, — карась, смотрящий на часики, «корюшка» в качестве слова любви…
Еще явственнее мотивы жестокости и беззащитности в стихотворении «Таракан». Ему предпослан эпиграф: «Таракан попался в стакан (Достоевский)», Привожу эпиграф в том виде, в каком он дан в публикации «Таракана» сыном поэта А. Н. Олейниковым («День поэзии». Л., 1966). Но и при чтении — «Таракан попал в стакан» — оказывается, что такой строки у Достоевского нет.
У Достоевского:
А потом попал в стакан,Полный мухоедства… [13]
Олейникову не нужна была точность цитаты; ему нужно было установить связь между гротескным облнчием своей поэзии и гротеском Достоевского. В «Таракане» опять двоящийся животно-человечески и образ, с помощью которого Олейников рассказывает о насилии над беззащитным. Рассказывает на олейниковском языке, потому что не умеет, не хочет пользоваться традиционными наречиями поэзии, по его убеждению уже потерявшими способность означать.
Коллизия жестокости и беспомощности заострена все больше нагнетаемой гиперболичностью, — на маленького таракана направлены огромные, многообразные орудия пытки и убийства. Таракан сидит в стакане и ждет казни.
Он печальными глазамиНа диван бросает взгляд,Где с ножами, с топорамиВивисекторы сидят.
К таракану подходит палач, который «Громко ржет и зубы скалит».
«Таракан» Олейникова вызывает неожиданную ассоциацию с рассказом Кафки «Превращение». Это повествование о мучениях и смерти человека, превратившегося вдруг в огромное насекомое (некоторые интерпретаторы считают, что это именно таракан). Совпадают даже некоторые сюжетные детали. У Кафки труп умершего героя служанка выбрасывает на свалку, у Олейникова —
Сторож грубою рукоюИз окна его швырнет…
Скорее всего, это непроизвольное сближение двух замыслов, потому что в те времена Кафка не был еще у нас известен и Олейников едва ли его читал. Между тем историческое подобие между Олейниковым и старшим его современником несомненно существует.
Классическая трагедия и трагедия последующих веков предполагала трагическую вину героя или трагическую ответственность за свободно выбираемую судьбу. XX век принес новую трактовку трагического, с особой последовательностью разработанную Кафкой. Это трагедия посредственного человека. бездумного, безвольного («Процесс», «Превращение»), которого тащит и перемалывает жестокая сила.
Это коллизия и животно-человеческих персонажей Олейникова: блохи Петровой, карася, таракана, теленка, который плачет «под кинжалом мясника». Сквозь искривленные маски, буффонаду, галантерейный язык с его духовным убожеством пробивалось очищенное от «тары» слово о любви и смерти, о жалости и жестокости.
Олейников — сам человек трагического мироощущения и трагической участи. Он был осужден и погиб. О своем настоящем поэтическом слове он сказал:
— Я только для того и пишу, чтобы оно зазвучало…
А. Олейникова. Поэт и его время
Приближается столетие со дня рождения Николая Макаровича Олейникова (1898–1937). Художник оригинальный И яркий, сатирик и обличитель, философ и лирик, он сказал свое слово в русской поэзии и оставил заметный след во многих других литературных жанрах. В последние годы стихи Николая Олейникова стали появляться в печати. Но значительная часть его творческого наследия продолжает оставаться неопубликованной или полузабытой. Поэт и киносценарист, журналист и редактор, он был создателем иронических гротесков и уничтожающих эпиграмм, мастером документального рассказа и сказочного повествования, автором лирических стихов и исследований в области высшей математики.
Стихи Николая Олейникова то проникнуты иронией, то полны беззаботного юмора, то нарочито застольны. Иногда они, казалось бы, пародируют современных или классических поэтов. Но это отнюдь не пародия в привычном ее назначении, а лишь замаскированное средство, дающее возможность рассмотреть через увеличительное стекло иронии не видимые невооруженным глазом детали нашего существования.
Характерные для стихов Н. Олейникова лиричность и простота, весомость слова, сочетание кажущегося распада формы с четкой, часто очень сложной архитектурой ритма и звука, верность традициям народной поэзии, насыщенность аналогиями, параллелями и ассоциативными связями — невольно создают настроение, заставляющее задуматься над смыслом обыденных вещей, когда примелькавшиеся явления и простые предметы — перо, чернильница, кузнечик— предстают в необычном освещении и внешне веселое повествование о них может неожиданно обрести неподдельно трагическое звучание.
Он создал в поэзии свой собственный неповторимый стиль. Рядясь в различные личины, создавая калейдоскоп гротескных образов, то облачаясь в мещанскую серьезность, то выступая против самой сущности всего, что может иметь право называться серьезным, подчеркивая мнимую незначимость своих высказываний соотнесением их с сиюминутными ситуациями и случайными адресатами, приравнивая к ничтожной «нетипичной конкретности» проявления объективных законов существования, дерзко вплавляя строки классиков в неподобающие контексты, отрицая, осуждая и разрушая системы сомнительных ценностей и оставаясь при всем этом глубоко лиричным, Олейников сумел отразить сплетение перипетий своей эпохи и взглянуть критически на непреходящие человеческие коллизии.
Уходят в прошлое реалии минувшего времени, тускнеет, а порой и бесследно теряется память о некогда ходивших по Земле людях, — и по мере этого все явственнее выступает еще одна, покуда не всеми увиденная, сторона поэзии Олейникова — ее философская направленность. Отдаляясь от дат, мест и личностей, поэтические фигуры обретают значения логических формул, свойства быта становятся общими символами, вещи — идеями, события — формами движения. С годами все ярче высвечивается этот глубинный пласт содержания стихов Н. Олейникова и позволяет открывать все новые и новые их прочтения.
Николай Олейников родился 23 июля 1898 года (дата рождения, указанная Н. Олейниковым в его последней, предсмертной анкете) в станице Каменской области Войска Донского (ныне — Ростовская область).
Удачно расположенная на обширной равнине, известной с древнейших времен под названием Дикого Поля, станица Каменская всегда играла заметную роль в жизни края. С 1802 года она была административным центром Донецкого округа. Планировку станицы в соответствии с указаниями войскового атамана М. П. Платова выполнил известный архитектор де Волан. Через Каменскую издавна проходил почтовый тракт Москва — Новочеркасск, железные дороги связывали ее с Воронежем, Ростовом и Поволжьем. Еще в пятидесятые годы прошлого столетия в окрестностях станицы была начата добыча угля. Рынок станицы ежегодно поставлял для продажи за рубеж до пятнадцати миллионов пудов хлеба.
В силу этих обстоятельств в конце минувшего столетия Каменская превратилась в достаточно крупный населенный пункт. Изданные в 1919 году «Очерки географии Всевеликого Войска Донского» справедливо утверждали, что «Каменская станица сходна более (…) с фабрично-торговыми городками внутренней России, чем со станицами».
Здесь, на берегу Северского Донца, в патриархальной семье потомственного казака провел поэт начало своей жизни.
Детские и юношеские годы сложились трудно. Хотел стать естествоиспытателем. Писал стихи. Но обстоятельства складывались неблагоприятно, и удалось окончить только четырехклассное Донецкое окружное училище. Здание этого учебного заведения по сей день сохранилось в Каменске.
Один из сверстников и соучеников Олейникова по училищу, И. П. Преловский, рассказывал: «Николай учился прилежно, с большим старанием и усердием. Особенно любил уроки литературы. (…) Учитель всегда ставил в пример его сочинения…»
После окончания Донецкого окружного и нескольких лет учебы в реальном училище Н. Олейников поступает в 1916 году в Каменскую учительскую семинарию. Пишет стихи и прозу, серьезно занимается изучением литературы и математики.
Когда на Дон пришла весть об октябрьском перевороте, командование Войскового казачьего круга, во главе которого стоял генерал-лейтенант А. М. Каледин, отказалось признать созданный в Петрограде Совет Народных Комиссаров. В станицу Каменскую и другие промышленные центры края были введены войска.
В эти дни Николай Олейников вошел в контакт с большевистской группой, проводившей агитацию среди солдат и казаков, и в декабре 1917 года стал красногвардейцем Каменского революционного партизанского отряда,
Десятого января 1918 года в здании бывшей Каменской церковно-приходе кой школы собрался съезд фронтового казачества, заседание которого красочно описано М. Шолоховым во второй книге «Тихого Дона».
Съезд создал Военно-революционный комитет и вручил генералу Каледину ультиматум с требованием передать всю власть в области Войска Донского в руки Ревкома.
Не приняв ультиматум. Войсковое правительство обрушило на Каменскую удар офицерского отряда, который после ожесточенного боя овладел станицей. Начались аресты. В числе казаков, содействовавших большевикам, контрразведка арестовала Николая Олейникова.
Но на помощь революционному казачеству уже шли красногвардейские отряды из Центральной России, и через несколько дней Каменская была освобождена.
Казачьи полки один за другим переходили на сторону Военно-революционного комитета. Ушла на Кубань белогвардейская Добровольческая армия генерала Л. Г. Корнилова. Войсковое правительство потерпело поражение. В крае была провозглашена Донская Советская республика.
В эти недели на Дону сложилась невообразимо трудная обстановка. На восток непрестанно текли толпы голодных солдат, демобилизованных из царской армии. В том же направлении уходили с Украины теснимые немцами красногвардейские части. Вкрест этих потоков двигались на север другие красногвардейские отряды, только что завершившие военные действия против остатков армии Каледина. Подняли голову анархисты. Грабежи, насилия, убийства. Начавшаяся к тому же непродуманная экспроприация казачьих земель в пользу пришлых крестьян и ремесленников переполнила меру страданий коренного населения. Значительная часть казачества восстала.
В марте 1918 года в здании бывшего Дворянского клуба (сейчас здесь помещается Дом пионеров) Каменский штаб формирований открыл запись добровольцев в народную армию, призванную спасти завоевания революционной власти.
С желающими вступить в новую армию беседовали, выдавали им обмундирование, оружие и предлагали подписать стандартный текст следующего содержания:
«Я, доброволец такой-то, обязуюсь служить шесть месяцев, защищать Советскую власть не щадя своей жизни и охранять таковую, поддерживая и соблюдая дисциплину, обещаюсь служить добровольно, в чем и подписуюсь».
Вместе с несколькими сотнями молодых бойцов получил винтовку слушатель учительской семинарии Николай Олейников.
Контрреволюция быстро восстанавливала силы. Восставшие казаки объединились в Донскую армию, которую возглавил генерал П. Н. Краснов. Вернулась на Дон Добровольческая армия, во главе которой стал генерал А. И. Деникин, заместивший убитого в бою пол Екатеринодаром Л. Г. Корнилова. Командование Краснова вступило в переговоры с германскими войсками, наступавшими с Украины.
Настали дни боевого крещения каменских волонтеров. В конце апреля воинские части казаков из станиц Леганской, Митякинской, Гундоровской начали штурм Каменской. Полонии многие жизни, каменцы остановили противника и дважды отбрасывали его от своей станицы. А тем временем, не оставив ни единого штыка в поддержку сражающимся, по проходящей через Каменскую железной дороге один за другим спешили в сторону Царицына эшелоны 5-й Красной Армии под командованием К. Е. Ворошилова.
Третьего мая к станице подошли германские войска. После шестичасовой артиллерийской подготовки они двинулись в наступление, но были смяты контратакой каменцев. И только через два дня, подтянув к станице три бронепоезда и свежие подразделения, немецкие и белоказачьи части начали новый штурм. Силы были несоизмеримы, и кайенские красногвардейцы получили приказ отступить.
На Пасху, а Светлое Воскресение, немецкие и белые войска ворвались в станицу. Начались бесчеловечные погромы. По-видимому, к этим дням относятся драматические события, о которых Олейников рассказывал Л. Я. Гинзбург.
Н. Олейников был снова арестован, но ему удалось бежать, и некоторое время он скрывался у деда на хуторе Новоселовском…
Трудно сейчас проследить боевые дороги Николая Олейникова. В анкетах отсутствуют сведения о его службе в народной армии. Со слов поэта известно, что в военную страду он не оставлял литературной работы. Известно также, что в декабре 1919 года он был зачислен в 1-й ружейно-пулеметный парк 23-й стрелковой дивизии Красной Армии.
31 декабря 1919 года станица Каменская была окончательно освобождена частями 9-й Красной Армии. В начале 1920 года Н. Олейников возвращается в Каменскую, вступает в Российскую коммунистическую партию (большевиков). И когда Каменский райком РКП (б) принимает решение издавать газету «Красный казак», Николая Олейникова назначают в состав ее редколлегии.
Первый номер этого периодического издания, которое именовалось «стенной газетой Каменского отделения УКРОСТА», вышел 26 апреля 1920 года. Газета печаталась на оберточной бумаге тиражом всего 600 экземпляров, но количество ее читателей исчислялось многими тысячами. Свежие номера «Красного казака» расклеивались на стенах зданий и рекламных тумбах в самых многолюдных местах. Броская, лаконичная форма подачи материала невольно привлекала внимание, и замедливший шаги прохожий на ходу получал обильную информацию о жизни Дона и всей страны: сводки с фронтов гражданской войны, сведения о международных событиях, сообщения о мирном строительстве на территориях, свободных от боевых действий, партийные директивы, постановления местных органов власти… Многие из этих материалов были сделаны рукой Н. Олейникова.
Одновременно Николай Олейников становится слушателем трехлетних учительских курсов, которые были созданы в Каменской взамен учительской семинарии.
В 1921 году Олейников едет в Ростов и поступает в педагогический техникум. Однако студенческая жизнь и на этот раз продлилась недолго. Вскоре Олейникова приглашают на работу в газету «Всероссийская кочегарка». Он переезжает в город Бахмут (ныне — Артемовск), который был тогда центром Донецкой губернии, и становится ответственным секретарем редакции.
Бахмутский период творческой биографии Н. Олейникова стал временем прочного становления его как журналиста, редактора и организатора творческих коллективов.
Олейников добился разрешения на открытие в Бахмуте литературно-художественного журнала «Забой». Но начало работы над новым изданием по разным причинам откладывалось. Одно из затруднений состояло в том, что губисполком колебался в выборе кандидатуры редактора журнала из числа местных писателей. Неожиданным поворотным моментом явилось появление в Бахмуте молодого петроградского литератора Михаила Слонимского и его друга, в те времена — актера, Евгения Шварца. Это было весной 1923 года.
М. Л. Слонимский так рассказывает об этом событии:
«Через несколько дней я отправился в Бахмут (…), чтобы завязать связь с местными литераторами. (…) В редакции газеты „Кочегарка“ за секретарским столом сидел молодой, белокурый, чуть скуластый человек. Он выслушал мои объяснения молча, вежливо, солидно, только глаза его светились как-то загадочно.
Прошу вас подождать. И он удалился в кабинет редактора, после чего началась фантастика. Из кабинета выбежал, нет. стремительно выкатился маленький, круглый человек в распахнутой на груди рубахе и чесучовых широких штанах.
— Здравствуйте, здравствуйте, очень рад, — заговорил он, схватив меня за обе руки. (…) — Простите меня, — торопливо говорил он на ходу, ведя меня к себе в кабинет. — Я не специалист, только что назначен. Но мы пойдем на любые условия (при этом он усадил меня на диван и уселся рядом) — на любые условия, только согласитесь быть редактором нашего журнала. Я так рад, я так счастлив, что вы зашли к нам! Договор можно заключить немедленно, сейчас же! Пожалуйста! Я вас очень прошу!
Я был так ошеломлен, что не мог и слова вымолвить, только старался, чтобы лицо мое не выдало моей величайшей растерянности. Белокурый секретарь стоял возле недвижный, безгласный, но глаза его веселились вовсю. Я ничего не понимал. Простодушного редактора никак нельзя было заподозрить в подвохе, в шутке, в розыгрыше. Он продолжал говорить быстро и убеждающе:
— Вы только организуйте, поставьте нам журнал! Ведь вы из Петрограда! Ах, вы с товаришем? Пожалуйста! Мы приглашаем и товарища Шварца. Товарищ Олейников, — обратился он к белокурому секретарю со смеющимися глазами, — прошу вас, оформите все немедленно. И на товарища Шпарца тоже!
…Когда мы на следующее утро шли по степи навстречу первому нашему донецкому редакционному дню, то волновались так. что даже молчали. (…)
В редакции мы были встречены Олейниковым. Николай Макарович (…) не утаил от нас, что это он — виновник вчерашней фантасмагории. Было решение об организации первого литературного журнала на Донбассе, но опыта недоставало, писателей к литературных связен еще не было, и вот Олейников, жаждавший журнала до умоисступления, воспринял внезапное наше появление в Бахмуте как подарок судьбы. Он (…) принял немедленные и экстренные меры в своем стиле — сообщил редактору, что вот тут сейчас находится проездом знаменитый пролетарский Достоевский, которого надо во что бы то ни стало уговорить, чтобы еж помог в создании журнала. (…) Олейников рассказывал нам обо всем этом спокойно и деловито, словно ничего необычного не было в том способе, какой он применил, чтобы воодушевить редактора на решительные действия. Так произошла первая встреча Шварца с Олейниковым, перешедшая вскоре в дружбу на всю жизнь».
В горячих дискуссиях с коллегами Олейников выдвигает свою концепцию журнала. Журнал, по его мнению, является самостоятельной литературной формой, которая должна представлять собой единство содержания и средств изобразительной подачи материала, подчиненное поставленному целевому заданию. Верстка — важнейший элемент изобразительной сущности. Редактор должен ощущать журнальную форму во всей ее неразрывной сложности, в гармонии литературного содержания, средств изображения и задач, которые он черед собой ставит. Без этого — нет журнала.
На примере «Забоя» он доказал действенность своих теоретических построений.
Первый номер журнала читатели получили в сентябре. Наряду с донецкими авторами в нем приняли участие петроградцы, москвичи и киевляне.
В дальнейшем круг донецких литераторов, участвующих в «Забое», значительно расширился. На его страницах начинали свою литературную деятельность Б. Горбатов, М. Тардов, А. Селивановский, П. Беспощадный. П. Трендуб и многие другие писатели. В «Забое» и «Кочегарке» впервые начал печататься Е. Шварц.
Зимой 1923 года М. Слонимский, а вслед за ним и Е. Шварц возвращаются в Петроград.
Вышедший к этому времени четвертый номер журнала разошелся огромным по тем временам тиражом — сорок тысяч экземпляров.
Работая в редакции «Забоя», Н. Олейников много ездил по Донбассу, продолжал печататься в «Кочегарке», сотрудничал в ростовской газете «Молот».
Общаясь по редакционным обязанностям с начинающими авторами, он собрал любопытную коллекцию примечательных стихотворений, в которых выступали социальные и психологические характеристики их создателей.
Н. К. Чуковский воспроизводит строфу из — «того собрания»:
Когда мне было лет семнадцать,
Любил я девочку одну,
Когда мне стало лег пол двадцать.Я прислонил к себе другу [20] .
По материалам адовы поэта Л. Л. Олейниковой приведу другие образцы из названной коллекции. Например:
…И кто Семирамидице
Угрюменько поет,
Того Судьбичекаленко
Незлобленько побьет.
Или такое стихотворение, которое, по убеждению его автора, необходимо было обязательно петь:
Рабочий
мало
получает,
Динь-динь- динь,
И через
это
он страдает,
Дикь-динь-динь…
Журнал «Забой» получил широкую известность далеко за пределами Дона, и в 1963 году К. Федин назовет его существование «памятным событием ранних лет великой советской литературы».
В 1924 году Н. Олейников, совместное А. Сел ивановским, Б. Горбатовым, В. Соболевым. А. Заходяченко. Н. Никитиным, Ф. Ковалевским и другими коллегами, подписывает манифест литераторов шахтерского края и становится одним из учредителем первой писательской организации Донбасса, которая, по имени завоевавшего признание журнала, также получает название «Забой».
В том же 1924 году М. Слонимский опубликовал в Ленинграде написанную им на донецком материале «Машину Эмери», где действует управляющий соляным рудником коммунист Олейников. Фамилия — нередкая на юге России. Но многие дончане узнавали а этом образе некоторые черты Николая Макаровича.
В 1925 году, имея значительный опыт редактора и журналиста, Николай Олейников получает направление на работу в газете «Ленинградская правда».
Друг поэта В. П. Матвеев так вспоминал о его появлении в Ленинграде (запись Л. А. Олейниковой):
«В комнату входит человек приблизительно моего возраста и протягивает мне направление ЦК на работу в газете.
— Хорошо. — говорю. — А кем бы вы хотели у нас работать?
— Ответственным секретарем.
— Позвольте, — говорю, — но ведь это я ответственный секретарь!
— Ничего не поделаешь, — отвечает. — Но я действительно хочу работать ответственным секретарем…»
Вскоре Н. Олейников начинает сотрудничать в редакции журнала «Новый Робинзон», которая впоследствии трансформировалась в знаменитый Детский отдел Госиздата.
В «Новом Робинзоне» был помещен первый рассказ Н. Олейникова для детей «Кохутек» — так транслитерировалось в начале двадцатых годов чешское слово «Kohoutek», что означает «петушок». Под этим названием выходил в Праге детский журнал, который издавал будущий президент Чехословакии Антонин Запотоцкий.
Как редактор и писатель Олейников занял в детской литературе самостоятельную позицию.
Одним из признанных корифеев детской литературы в те годы справедливо считался С. Я. Маршак. Человек большого таланта и огромной энергии, Самуил Яковлевич много работал как редактор с начинающими и маститыми авторами, подчиняя их силе своего обаяния и опыта. Они сходились с Олейниковым в том, что целевая направленность — одна из главнейших основ существования журнала.
При этом С. Я. Маршак полагал, что задача редактора — помочь автору так организовать содержание и форму своего произведения, чтобы они наилучшим образом содействовали достижению поставленной цели. Искусным редактированием им удавалось придать авторским текстам черты единой направленности и создать иллюзию коллективизма в работе над общей задачей.
Н. М. Олейников стоял на иной платформе Он считал, что главная задача редактора состоит не в исправлении (пусть даже в лучшую сторону) авторских текстов, а в том, чтобы помочь автору раскрыть замысел произведения, в максимальной степени реализовать его творческую индивидуальность и найти ему такое место в наступательном строю, где он, сохраняя собственное лицо, будет каждой своей строкой работать на успех общего дела.
Это различие подходов, как рассказывал Е. Л Шварц, проявилось уже в «Новом Робинзоне» и получило полное выражение в 1926 году, когда создавался известный детский альманах «Советские ребята».
Н. Олейников создал совершенно новый, до него не существовавший жанр прозы, который можно назвать публицистикой для детей.
Ненавязчиво внедряя в подсознание юных читателей основные принципы дисциплины и самоорганизации, он весело рассказывал им про чудесный НОЖ, который вдруг оказывался Научной Организацией Жизни; придумывал задачи, загадки и фокусы, позволявшие приобщиться к началам логики, математики и физики, организовал клуб любознательных, который сокращенно назывался КУР (Кружок Умных Ребят).
Он смело привлекал и самих детей к творчеству, печатал их стихи, заметки и «воспоминания».
Ранние стихи Н. Олейникова не сохранились. В Ленинграде он. по-видимому, заново рождается как поэт и находит то новое, глубоко индивидуальное направление, которое определило его дальнейший путь в поэзии.
О первых ленинградских годах поэтической работы Олейникова К. И. Чуковский отзывался так:
«Его необыкновенный талант проявился во множестве экспромтов и шутливых посланий, которые он писал по разным поводам своим друзьям и знакомым. Стихи эти казались небрежными, не имеющими литературной ценности. Лишь впоследствии стало понятно, что многие из этих непритязательных стихов — истинные шедевры искусства».
Из этого «множества экспромтов» сохранилось очень немногое.
В 1926–1928 годах, активно работая в ленинградских и московских журналах, Н. Олейников занимается организацией радиовещания для детей. Он готовит первые детские радиопередачи, привлекает к новому делу многих талантливых литераторов и актеров, экспериментирует в области звукозаписи, впервые (вновь свидетельство Е. Л. Шварца) вводит на радио чередование голосов при чтении — по аналогии с «игрой шрифтов» при верстке.
С 1928 года Н. Олейников организует издание в Ленинграде детского журнала «Еж» и становится его редактором. «Ежемесячный Журнал» — раскрывалась «аббревиатура». «Лучший в мире журнал для детей», — оповещала реклама.
Это был действительно замечательный журнал. Вокруг «Ежа» сконцентрировалась плеяда прекрасных художников и авторов самых разнообразных творческих направлений Здесь сотрудничали и умели найти общий язык именитые мэтры — К. И. Чуковский и С. Я. Маршак. В непринужденной атмосфере журнала трудились Борис Житков, Виталий Бианки, Михаил Пришвин, Евгений Шварц, Ираклий Андроников и многие, многие другие будущие мастера прозы. В «Еже» приобщались к детской литературе молодые поэты, входившие ранее в художественную группу «Оберну» (объединение реального искусства), — Даниил Хармс, Николай Заболоцкий, Александр Введенский…
От имени авторского коллектива редакция журнала утверждала:
Мы считаем, что «Еж»
Потому и хорош,
Что его интересно читать.
Все рассказы прочтешь,
И еще раз прочтешь,
А потом перечтешь их опять.
Как портной без иглы,
Как столяр без пилы,
Как румяный мясник без ножа.
Как трубач без трубы,
Как избач без избы—
Вот таков пионер без «Ежа»!
На страницах «Ежа» Олейников создает образ отважного всадника, неутомимого изобретателя и любознательного путешественника — Макара Свирепого.
Кто я такой?
Вопрос нелепый!
Я — верховой
Макар Свирепый.
Из номера в номер печатает журнал рассказы о невероятных приключениях Макара. Это — увлекательные повествования, насыщенные силой жизнеутверждения, воспитывающие находчивость и смелость. Динамика действий, юмористическая окраска текста и блестящие иллюстрации А. Успенского, Б. Антоновского («Еж») и Б. Малаховского («Костер»), с тонкой иронией сохранившие портретное сходство героя и автора, принесли Макару популярность среди детворы и взрослых.
Была даже придуманная Н. Олейниковым настольная игра — «Путешествие Макара Свирепого по Советскому Союзу». Играя в нее, дети незаметно для себя получали необходимые знания о природе, животном мире, полезных ископаемых и жизни различных народов — учили географию страны.
«Еж» взял шефство над детьми рабочих завода «Красный путиловец» (ныне — Кировский завод). При журнале был создан детский творческий кружок. За Нарвской заставой пионеры проходили по улице с песней, которая называлась «Ежовая — буденновская»;
Читал ли ты, путиловец,
Журнал, журнал?
Ответил нам путиловец:
Читал, читал!
Про Ежика ученого,
Про конницу Буденного.
Про танки и про санки
Ты читал? Читал! [24]
С 1930 года по инициативе Н. Олейникова начинает выходить, сначала как приложение к «Ежу», а затем как самостоятельный журнал, еще одно периодическое издание для детей — «Чиж». «Чрезвычайно Интересный Журнал» — так расшифровывалось это название.
«Еж» был ориентирован на аудиторию пионерского возраста, «Чиж» предназначался совсем маленьким читателям. Но традиции сохранялись: здесь трудилось, расширив свои ряды, то же содружество поэтов, прозаиков и художников («единство литературной и изобразительной сущностей»), царили неистощимая выдумка, юмор, умение просто рассказать о сложнейших вопросах и воплощалось в жизнь педагогическое кредо редактора: воспитание без дидактики.
В воспоминаниях современников часто рисуется непринужденная обстановка повседневной жизни редакции «Ежа» и «Чижа», где на стене висел плакат: «График — на фиг!» (что не метало журналам всегда выходить своевременно), где редактор и сотрудники могли устроить в перерыве спортивную прогулку на четвереньках и где замечательные поэты состязались в остроумии. Вспоминают о табличке «Поэт и светлый гений», висевшей некоторое время над входом в квартиру Олейникова, и о том, что, приехав в Питер, Олейников имел справку с печатью, удостоверявшую, что ее податель действительно является красивым (справка была выдана неким поселковым Советом, председатель которого уверовал, что она необходима для поступления в Академию художеств).
Не следует, однако, забывать, что так называемая «золотая эпоха» детской литературы отнюдь не была временем безоблачного веселья. Она требовала повседневной отдачи, огромной работоспособности и большого личного мужества. Это было время бескомпромиссного столкновения противоположных мнений и жесткой борьбы за новые пути искусства. В этих сложных условиях Н. Олейников последовательно отстаивал свои убеждения. Вместе с горсткой сторонников он выступил против чиновников от литературы с «Декларацией ленинградской группы детских писателей-коммунистов», защищая право литератора на свободу творческого поиска. Не сдавался он и в полемике с коллегами, провозгласившими лозунг литературного коллективизма.
В журналах часто печатались рассказы Н. Олейникова. Одна за другой выходили, и при жизни автора неоднократно переиздавались, книги, написанные им для детей.
Головоломные задачи предлагали ребятам веселые книжки «Кто хитрее?» (1927) и «Хитрые мастеровые» (1929). Вводили в мир природы, приобщали к познанию законов ее развитии «Живые загадки» (1928) и «Без рук, без топоренка построена избенка» (1928). Иронические «Блошиный учитель» (1930) и «Учитель географии» (1932) позволяли увидеть в необычном ракурсе знакомые вещи и событии окружающей жизни. «Прохор Тыля» (1929) и «Индийская голова» (1929) переносили читателя в страны Запада, где боролись со скаутами пионерские отряды и действовали отважные подпольщики. О первой русской революции, восставшем Петрограде, гражданской войне и жизни молодой Советской республики рассказывали «Боевые дни» (1927), «Удивительный праздник» (1928. 1934). «Танки и санки» (1929), «Питерский Совет» (1931), «Пороховой погреб» (1937) и другие книги.
Немало работал Н. Олейников и в области драматургии. Он делал тексты веселых представлений — «капустников», инсценировки для детского театра; по просьбе Д. Шостаковича, задумавшего сочинить для постановки в Ленинградском Малом театре оперу «Карась», написал либретто этой оперы.
Обратившись к кинематографу, он создал совместно с Е. Шварцем ряд сценариев, по которым были поставлены и обошли экраны страны кинофильмы «Разбудите Леночку» (1934), «Леночка и виноград» (1935), «На отдыхе» (1936). Успеху фильмов в немалой степени способствовал великолепный состав актерской группы: в мужских ролях — несравненные Борис Чирков и Николай Черкасов, в роли героини — блистательная юная Янина Жеймо, в честь которой сценаристы слагают хвалебную оду:
От Нью-Йорка
и до Клина
На устах у всех — клеймо
Под названием Янина
Болеславовна Жеймо.
Небезынтересно отметить, что киноповесть о приключениях Леночки была задумана как первый советский сериал для детей. К выходу на экраны готовился очередной фильм этой серии — «Леночка и лев». Но зрителю не суждено было его увидеть.
В 1934 году Н. Олейников стал членом Ленинградской писательской организации, объединившей 160 литераторов. Своим руководителем организация избрала литературоведа н критика А. Е. Горелова.
Много лет спустя А. Е. Горелов рассказывал:
«Помню, как в 1934 году на открытии Дома писателя было устроено кукольное представление. Пьесу написали Николай Олейников — редактор (…) журналов „Чиж“ и „Еж“ и Евгений Шварц. Куклы изображали О. Форш, А. Толстого. Маршака и Тихонова, а имитировал голоса писателей Ираклий Андроников — это было чуть ли не первое его публичное выступление. А. Толстой и Маршак во время спектакля сидели в первом ряду. Они хохотали так, что выбежали из зала и представление на какое-то время приостановилось…»
В полной мере обретает в тридцатые годы силу поэтическое слово Н. Олейникова. Он приводит в порядок написанное, пересматривает некоторые ранее сделанные тексты; в ряде случаев снимает с них посвящения, которыми ранее сопровождались многие его стихи. Становится очевидным, что уже оформился сборник, имеющий собственное лицо и вполне готовый для того, чтобы быть опубликованным.
В качестве пробного шага Н. Олейников отдает цикл стихотворений в сборник «30 дней».
На Первый съезд писателей Н. Олейников получил мандат делегата с правом совещательного голоса.
Зачитанная по бумаге вступительная речь Максима Горького и правительственные указания А. А. Жданова определили новые веяния в развитии литературы. В итоге заседаний, проходивших с 17 августа по 1 сентября 1934 года, были, как известно, официально утверждены принципы социалистического реализма и большевистской (в понимании А. А. Жданова) тенденциозности.
В ходе состоявшейся дискуссии к лагерю врагов общества был причислен Н. Заболоцкий. Критиковалась, в частности, его поэма «Олейников» — так назвала одна из выступавших поэму «Лодейннков», подчеркнувшая, что это не оговорка, поскольку каждому ясно, о ком и о чем идет речь в данном произведении.
Первая публикация стихов Н. Олейникова появилась в десятой книжке «30-ти дней» за 1934 год. В соответствии со свежими установками против нее немедленно выступил А. Тарасенков.
После этого стихи Олейникова никогда не печатались.
Пресса не обошла вниманием и прозу Олейникова. Весьма показательным является, например, категорическое заключение относительно книги «Танки и санки»:
«Ничего не может быть гнуснее, когда под видом рассказа о прошлом Красной Армии детям преподносится клевета на Красную Армию, опошление героической борьбы против белых и интервентов. (…) Книжка вредна. Ее нужно изъять».
В обстановке сгущавшейся напряженности в некоторой части литературной среды распространялась своеобразная форма самозащиты, нашедшая выражение в повседневной игре в веселую серьезность. Подобно йогической капсуле, комедийная или трагикомическая маска защищала от безжалостной реальности, процветавшей под гремящие из репродуктора радостные марши. В создание этой защитной оболочки внесли немалый вклад — каждый по-своему — Н. Олейников, Е. Шварц и И. Андроников.
По свидетельству современников, Н. Олейников обладал заметными актерскими способностями. Мгновенно перевоплощаясь, он мог с одинаковой убедительностью изобразить и белого офицера, и рубаку-станичника, и питерского старожила, и бродячего певца…
Неожиданно для окружающих перед ними вдруг появлялся новый образ.
В рабочем помещении издательства это могло выглядеть так:
«С гранками в руках проходит (…) искрометно-остроумный, блестяще-язвительный, веселый и недобрый Олейников… (…) Посреди комнаты Олейников вдруг останавливается, поднимает над головой палец и без тени улыбки, многозначительно, с пафосом возглашает:
У одного портрета
Была за рамой спрятана монета…
Лицо Николая Макаровича становится еще серьезнее, палец его, сделав над головой круг, уставился в сторону милейшей и тишайшей Зои Моисеевны Задунайской, и Олейников уже не с пафосом, а с гневом заканчивает свой экспромт:
…Немало наших дам знакомых
Вот так же прячут насекомых!»
«Экспромт» этот стал заключительной строфой цикла «В картинной галерее (Мысли об искусстве)», работу над которой Олейников завершил в 1936 году.
В среде неофициальной та же игра, обретая иную окраску, продолжалась в знаменитых разнообразных тостах Олейникова, о которых вспоминают многие мемуаристы. Вот одно из таких воспоминаний, принадлежащее О. В. Чайко:
«Часто по воскресеньям к обеду приезжали Алянский, Житков, Олейников, Шварц. Вместе или в розницу, но Житков и Олейников всегда вместе, изредка приезжал Маршак. Всегда было тогда оживленно. Все изощрялись в эрудиции и остроумии. Но, к стыду своему, должна сознаться, что я помню только тосты Олейникова. В те годы в наших магазинах появились испанские вина, и по обилию тостов, которые я помню, надо думать, немало было выпито этого вина.
— Пью за здоровье, — говорил Николай Макарович, взяв бокал в руку, — или, как говорили в старину, пью здоровье дам-красавиц, количеством… (предварительно было сосчитано, сколько женщин за столом), покоривших человечество. Ура, дорогие товарищи! Ура, дорогие товарищи! Ура, дорогие товарищи!
Этот тост особенно пользовался успехом. Юрий Алексеевич Васнецов всегда его с нетерпением ждал и старался запомнить. И всегда тщетно. Наверное, сосредоточить внимание и напрячь память мешало проклятое испанское зелье.
Или Олейников наклонялся к моему уху и драматическим шепотом говорил:
— Грубая подготовочка. Как зовут Вашу кузину?
— Ирина Николаевна.
— Итак, товарищи. Если женщину можно сравнить с цветком, то Ирину Николаевну смело сравню с эдельвейсом!
И так перебирались все женщины за столом и сравнивались по очереди с цветами.»
Здесь, вероятно, уместно привести и другое свидетельство современника:
«При кажущемся своем благодушии это был человек очень насмешливый, колкий, занозистый. Недаром Маршак, щеголяя причудливой рифмой, сказал о нем:»
Берегись
Николая Олейникова,
Чей девиз:
Никогда не жалей никого [35]
О широте круга интересов Н. Олейникова могут некоторым образом свидетельствовать следующие строки из «Разговоров» (записи Л. Липавского. 1933–1935 гг.):
«Николай Олейников Меня интересуют — питание, числа, насекомые, журналы, стихи, свет, цвета, оптика, занимательное чтение, женщины, „пифагорийство-лейбицейство“, картинки, устройство жилища, правила жизни, опыты без приборов, задачи, рецептура, масштабы, мировые положения. знаки, спички, рюмки, вилки, ключи и т. п., чернила, карандаши и бумага, способы письма, искусство разговаривать, взаимоотношения с людьми, гипнотизм, доморощенная философия, люди 20 века, скука, проза, кино и фотография, балет, ежедневная запись, природа, „александрогриновщина“, история нашего времени, опыты над самим собой, математические действия, магнит, назначение различных предметов и животных, озарение, формы бесконечности, ликвидация брезгливости, терпимость, жалость, чистота и грязь, виды хвастовства, внутреннее строение Земли, консерватизм, некоторые разговоры с женщинами».
В 1935 году Даниил Хармс обратился к Н. Олейникову со стихотворным посланием, содержание которого заслуживает того, чтобы привести его полностью.
Кондуктор чисел, дружбы злой насмешник,
О чем задумался? Иль вновь порочишь мир?
Гомер тебе пошляк, и Гете глупый грешник.
Тобой осмеян Дант, лишь Бунин твой кумир.
Твой стих порой смешит, порой тревожит чувство,
Порой печалит слух иль вовсе не смешит,
Он даже злит порой, и мало в нем искусства,
И в бездну мелких дум он сверзиться спешит.
Постой! Вернись назад! Куда холодной думой
Летишь, забыв закон видений встречных толп?
Кого дорогой в грудь пронзил стрелой угрюмой?
Кто враг тебе? Кто друг? И где твой смертный столб? [36]
«Кондуктор чисел…». В стихах Н. Олейникова неоднократно встречаются строки с упоминанием о математических понятиях. При свойственной Олейникову манере общения, это казалось окружающим очередным розыгрышем, реминисценцией на собственную усмешку:
Моя новая тематика —
Это Вы и математика.
Мало кому из современников было известно, что труд литератора не был единственным призванием Н. Олейникова. Наряду с этой деятельностью, он много и серьезно занимался математическими исследованиями, готовил к печати результаты своих работ в области теории чисел. Публикации не успели состояться. Безвозвратно утрачены и рукописи.
Во второй половине тридцатых годов в поэзии Н. Олейникова явственно обозначается новое звучание, он создает многоплановый цикл «Мысли об искусстве», пишет поэму «Вулкан и Венера» и яркую, насыщенную глубоким подтекстом «Пучину страстей».
При этом он не оставляет редакторского труда. Когда прекращает свое существование журнал «Еж», продолжает работать в «Чиже»; сотрудничает в только что появившемся в Ленинграде журнале «Костер».
Одновременно Н. Олейников организует издание в Москве и становится редактором нового журнала для малышей под названием «Сверчок».
Первый номер «Сверчка» с подзаголовком «Веселые картинки для маленьких ребят» был подписан к печати 7 декабря 1936 года.
Приближался тридцать седьмой.
Л. Э. Разгон вспоминает:
«1937 год мы с Оксаной встречали в Кремле у Осинских. Не помню, чтобы какая-нибудь встреча Нового года была такой веселой. Молодой, раскованный и свободный Андроников представлял нам весь Олимп писателей и артистов; Николай Макарович Олейников читал свои необыкновенные стихи и исполнял ораторию, текст которой состоял из одного слова „гвоздь…“. И под управлением Валериана Валериановича Осинского мы пели все старые любимые наши песни: „Колодников“, „Славное море — священный Байкал“, „По пыльной дороге телега несется…“. Все это тюремные песни из далекого и наивного прошлого. Которое не может повториться. Оно и не повторилось. Ибо будущее было совсем другим».
После Нового года, работая в «Чиже», Н. Олейников еженедельно ездит ночным поездом в Москву с заготовками к очередным книжкам журнала «Сверчок», авторский коллектив которого почти полностью составили ленинградцы. Здесь писали А. Введенский. Д. Хармс. Л. Савельев, С. Маршак и, конечно, сам редактор. Иллюстрировали журнал Б. Малаховский, Н. Радлов, В Конашевич, В. Лебедев, А. Успенский, Э. Будогоский и другие талантливые художники.
С наступлением летних месяцев Олейников выехал с семьей на дачу.
В очередной раз появившись с издательскими хлопотами а Ленинграде, в ночь на 3 июля 1937 года он остался в городе. На рассвете за ним пришли сотрудники НКВД.
«Ираклий Андроников (…) приехал по делам из Москвы и рано вышел из дому. Смотрит, идет Олейников. Он крикнул: „Коля, куда так рано?“ И только тут заметил, что Олейников не один, что по бокам его два типа… (…) Николай Макарович оглянулся. Ухмыльнулся. И все!»
Вернувшись из пригорода, жена нашла квартиру опечатанной.
Вскоре после ареста Н. М. Олейникова были арестованы Т. Г. Габбе, А. И. Любарская и еще по меньшей мере девять сотрудников редакции. Группе редакторов, оставшихся на свободе, было предложено подать заявление об уходе «по собственному желанию».
В издательстве была выпущена стенгазета, именовавшая Олейникова «врагом народа» и «ставленником шпиона Файнберга». Газета не оставила без соответствующего ярлыка ни одного из арестованных и называла их всех вместе «контрреволюционной вредительской шайкой врагов народа, сознательно взявшей курс на диверсию в детской литературе». В качестве вывода следовал призыв: «Добить врага!»
2 августа 1937 года Н. Олейников получает разрешение написать из тюрьмы записку домой. Этот клочок бумаги чудом сохранился. Больше писем не было.
II ноября 1937 года в Союзе писателей состоялось собрание, потребовавшее от С. Я. Маршака, чтобы он отрекся от «шайки врагов народа». Этого не произошло. Но вскоре Маршак покидает Ленинград и навсегда расстается с редакционной деятельностью.
24 ноября 1937 года Н. М. Олейников был расстрелян.
Спустя двадцать лет, 5 июля 1957 года, после многочисленных запросов Л. А. Олейниковой, которая вскоре после ареста мужа была выслана из Ленинграда, Главная военная прокуратура сообщила, что дело Николая «Макарьевича» направлено для окончательного разрешения в военную коллегию Верховного суда СССР.
Через два с небольшим месяца Военный трибунал Воронежского военного округа известил о полной посмертной реабилитации Н. М. Олейникова и прислал свидетельство о его смерти от «возвратного тифа» 5 мая 1942 года (дата выдачи — 2 октября 1956 года).
14 января 1958 года Ленинградский обком партии восстановил Н. М Олейникова в КПСС.
При жизни Николая Олейникова было напечатано всего три его стихотворения («Служение науке». «Муха» и «Хвала изобретателям»), не считая анонимных стихов в детских журналах.
Не было ни публикаций в периодике, ни сборников. Но стихи жили. Их читали в клубных залах и на дружеских вечерах, переписывали, заучивали наизусть. Отдельные строки превращались в поговорки, включались (без ссылки на автора) в юмористические рассказы и пьесы.
За несколько десятилетий разошлось огромное количество списков стихов Н. Олейникова, которые, к сожалению, изобилуют неизбежными при любительской перепечатке неточностями и искажениями текста.
С конца шестидесятых годов, после опубликования стихов Н. Олейникова в «Вопросах литературы», распространилось ошибочное мнение о том, что Олейниковым якобы был создан обобщенный образ некого «технорука Н.». от имени которого временами ведет повествование автор. Утверждалось также, что помимо «стихов технорука Н.» имеются «стихотворения Макара Свирепого» (сюда были отнесены «Перемена фамилии», «Таракан», «Карась», «Блоха мадам Петрова»). Правдоподобие этого утверждения усиливалось тем. что публикация, данная под моим именем, была озаглавлена «Новые стихи технорука Н.». Вслед за А. Дымшицем многие отечественные и зарубежные литературоведы стали всерьез говорить о существовании такого псевдонима Н. Олейникова.
Это явное недоразумение. Н. Олейников никогда не подразделял свои стихи на группы, установленные А Дымшицем, и не подписывал их псевдонимами. К числу исключений можно, с некоторой натяжкой, отнести единственное восьмистишие. под которым значится: «Балетоман Макар Свирепый».
Известны три псевдонима Н. Олейникова, относящиеся к ленинградскому периоду его деятельности: Макар Свирепый, Николай Макаров и Сергей Кравцов. Откуда же мог появиться «технорук»?
В 1928 году, когда отмечалось пятилетие журнала «Забой», Н. Олейников послал донецким друзьям и соратникам приветствие, в котором перечисляются все псевдонимы, использованные нм в годы работы в Бахмуте и Ростове:
Целование шлет
Николай Олейников
С кучей своих нахлебников:
Макара Свирепого,
Кравцова и Н. Технорукова,
Мавзолеева-Каменского
и Петра Близорукого,
Славкой шестерки в одном лице —
«Забойской артели» —
на донецкой земле!
В 1968 году А. Я Дымшиц любезно согласился представить в журнале «Вопросы литературы» предложенную мною подборку стихов Олейникова, порекомендовав разделить ее на две части. О существовании «Н. Технорукова» ему было известно. По-видимому, отсюда и возник «технорук Н.», наличие которого позволяло не только дать общепонятную трактовку публикуемых стихов, но и убрать из «Послания, бичующего ношение одежды», предназначенного дли опубликования в одном из ближайших номеров журнала, неуместное по нормам того времени слово «политрук»:
Доверься, змея, политруку —
Я твой изнутри и извне.
«Политрук» был заменен «техноруком», уже знакомым читателю по предыдущей публикации.
Стихи Николая Олейникова создавались в эпоху всепроникающей серьезности, когда пресса не знала иной тематики, кроме победных реляций и поношения недругов, литература специализировалась на производственных полотнах, поэзия грохотала литаврами и барабанами, и обыватель, всезнающий и многоликий, вещал с трибун от имени народа. Память об этом необходима для полного понимания сказанного поэтом.
21 марта 19Н8 года в Центральном Доме литераторов состоялся вечер из цикла «Антология русских поэтов XX века», посвященный Николаю Олейникову. Здесь были, едва ли не впервые, произнесены надлежащие слова о философском аспекте стихов Олейникова.
«Поэт, задумчивый и скромный», — сказал о нем А. Афиногенов.
«В нем чувствовалось беспощадное знание жизни», — отмечал В. Каверин.
«…Казалось бы, все умерло, все убито, (…) давно нет Олейникова, но слово его живет, оно и сегодня может обрадовать читателя, как в тот первый миг, когда оно впервые легло на бумагу», — писал И. Рахтанов.
Сегодняшний день позволяет увидеть новыми глазами творчество Н. М. Олейникова. Поэт и гражданин, в трудное время всеобщей подавленности он поднял свой голос против конформизма, подлости и приспособленчества, против обывателя в быту и обывателя в каждом из нас, в защиту и чувств и права каждого человека на индивидуальность.