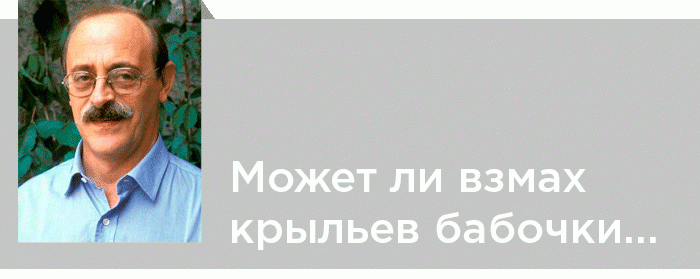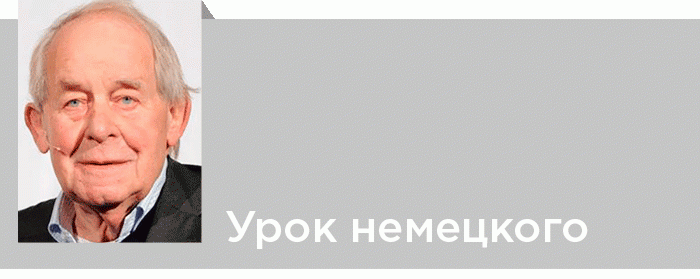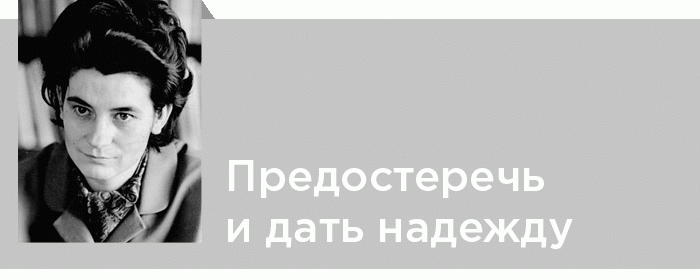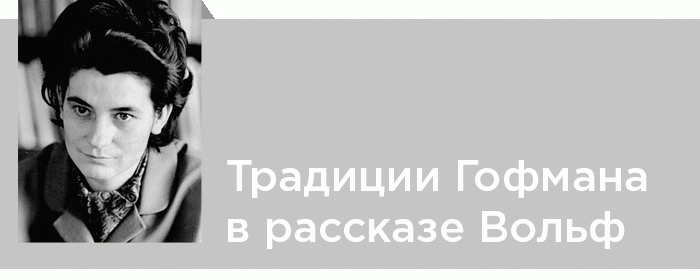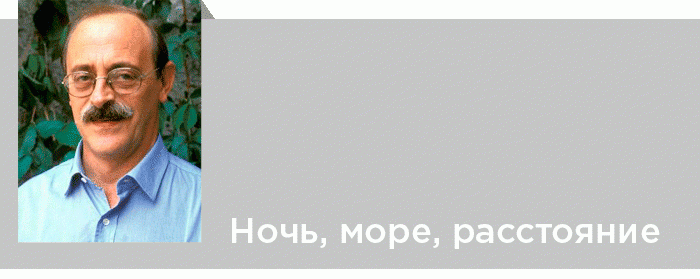Криста Вольф. Расколотое небо

(Отрывок)
Лето в тот год было прохладное и дождливое, а теперь, на пороге осени, город утопал в знойном мареве и дышал как-то особенно бурно. Дыхание густыми клубами вырывалось у него из сотен заводских труб и, обессилев, повисало в чистом небе. Люди, давно привыкшие к задымленному небу, вдруг стали его ощущать как нечто непривычное и тягостное, да и вообще старались поначалу свалить свою внезапную тревогу на самые отвлеченные предметы. Воздух давил их, вода, эта проклятая вода, испокон веку вонявшая химией, казалась горькой на вкус. Только земля еще носила их и будет носить до последнего часа.
Итак, мы вернулись к повседневной работе, которую ненадолго прервали, чтобы прислушаться к спокойному голосу громкоговорителя, или, скорее, к беззвучным голосам надвинувшихся угроз, ибо каждая из них несет смерть в такие времена. На этот раз угрозы удалось Отвратить. На город упала было тень, теперь же он снова отогрелся и ожил, снова рождал и хоронил, дарил жизнь и поглощал жизни, изо дня в день.
Итак, возобновим прерванные разговоры о свадьбе, о том, справлять ли ее на рождество или отложить до весны, о новых зимних пальтишках для ребят, о болезни жены и о том, что на заводе новый директор. Кто бы подумал, что все это может быть так важно?
Мы опять приучаемся спать спокойно. Мы живем полной жизнью, как будто ее, этой удивительной жизненной силы, у нас избыток, как будто конца ей быть не может.
1
В эти последние августовские дни 1961 года в тесной больничной палате на окраине города приходит в себя юная девушка, Рита Зейдель. Она не спала, она была в обмороке. Открыв глаза, она видит, что уже вечер и что чистая белая стена, куда прежде всего падает ее взгляд, стала почти совсем серой. Хотя Рита здесь впервые, она сразу же вспоминает, что с ней было и сегодня и перед этим. Она была очень далеко. У нее еще сохранилось смутное ощущение каких-то далей и глубин. Но вот она вынырнула из беспросветного мрака, и снова перед ней ограниченный скупыми пределами свет. Да, город. Еще уже: завод, сборочный цех. Та точка на рельсах, где я упала. Значит, кто-то успел остановить оба вагона, ведь они справа и слева катили на меня, прямо на меня. Больше я не помню ничего.
К постели подходит медицинская сестра, она заметила, что девушка очнулась и обводит палату на удивление безразличным взглядом. Сестра окликает ее негромко и ласково.
— Вот вы и поправились, — веселым тоном говорит она.
Рита молча поворачивается к стене и начинает плакать, плачет не переставая всю ночь напролет, и когда утром к ней входит врач, она не в состоянии произнести ни слова.
Но врач и не собирается ее о чем-то спрашивать, он и так может все прочитать в истории болезни. Пострадавшая Рита Зейдель — студентка, во время каникул работает на заводе. Она ко многому не привыкла — например, к духоте в вагонах, только что вышедших из сушилки. Вообще-то запрещается работать в сильно нагретых вагонах, но что будешь делать, когда работа не ждет. И ящик с инструментом весит килограммов тридцать пять, а она тащила эту тяжесть до самых путей, где как раз маневрировали вагоны, и тут упала прямо на рельсы. Ничего удивительного — такая тростинка. А теперь вот ревет, это тоже вполне понятно.
— Шоковая реакция, — говорит врач и прописывает успокаивающие уколы.
Но дни идут, а Рита все так же не выносит, когда с ней заговаривают, и врач начинает теряться. Ему очень хочется расправиться с молодчиком, который довел эту хорошенькую и легко ранимую девушку до такого состояния. Он не сомневается, что только любовь могла так потрясти юное существо.
Из деревни вызвали мать Риты, но она беспомощна перед непонятным ей горем дочери и ничего не может объяснить.
— Это все от учения, — говорит она. — Я знала, оно ей не под силу. Мужчина? Навряд ли. Прежний, ученый-химик, полгода как уехал.
— Уехал? — переспрашивает врач.
— Ну да, в общем понимаете… удрал.
Девушка получает цветы: астры, георгины, гладиолусы — красочные пятна на бледном больничном фоне. К ней никого не пускают, но однажды вечером приходит мужчина с букетом роз и не желает уходить. Врач уступает. Быть может, одно покаянное посещение разом исцелит всю скорбь. Коротенький разговор в его присутствии. Но на любовь и на прощение ни намека, это сразу заметишь хотя бы по взглядам. Речь идет о каких-то вагонах — на кой черт они сейчас! — а через пять минут гость вежливо прощается. Врач узнает, что это был новый директор вагоностроительного завода, и обзывает себя болваном. Но он не может отделаться от ощущения, что этот молодой человек больше знает о больной Рите Зейдель, чем родная мать, чем он сам, лечащий врач, чем все остальные посетители, которые повалили теперь гурьбой.
Сперва столяры из бригады Эрмиша, вся дюжина, друг за другом; затем изящная блондиночка-парикмахерша, подружка Риты Зейдель; после окончания каникул — студенты из учительского института и время от времени — девушки из Ритиной родной деревни. Мысль об одиночестве больной отпадает полностью. Все посетители искренне расположены к ней. Они говорят с ней очень бережно, испытующе вглядываются в ее лицо, бледное и усталое, но уже не такое скорбное. Плачет она теперь реже, и то по вечерам. Она совладает и с этими слезами, а так как ей и в голову не приходит нянчиться со своим горем, то совладает и с отчаянием.
Рита никому не признаётся, что ей страшно закрыть глаза. Ей сразу же представляются оба вагона — зеленые, черные, огромные. Если их толкнуть, дальше они уже сами катятся по рельсам — таков закон и так это задумано. Они выполняют свое назначение. А где они встретятся, там лежит она. Там лежу я.
И она опять начинает плакать. В санаторий! — говорит врач. Она ничего не желает рассказывать. Пускай выплачется, пускай успокоится окончательно, пускай забудет обо всем. Она достаточно окрепла, чтобы доехать поездом, но завод присылает за ней машину. Перед отъездом она благодарит врача и сестер. Все к ней расположены, а если она ничего не желает рассказывать — это ее дело. Всего хорошего.
Пережитое ею банально, а кое в чем и постыдно, думает она. Впрочем, это уже в прошлом. Остается преодолеть одно навязчивое ощущение; они катят прямо на меня.
2
Он сразу заинтересовал меня, когда приехал к нам в село два года назад. Манфред Герфурт. Поселился он у своей родственницы, у которой ни от кого не было тайн. Так и я вместе со всеми прочими очень скоро узнала, что молодой человек — ученый-химик — приехал сюда отдохнуть. Перед диссертацией, которая потом заслужила оценку «С отличием». Я сама видела.
Но не будем забегать вперед.
Рита с матерью и теткой жила в крохотном домике на опушке леса и как-то утром, ведя велосипед в гору к шоссе, увидела, что молодой химик, голый по пояс, поливает себе грудь и спину из насоса во дворе своей двоюродной сестрицы. Рита посмотрела на синее небо, пронизанное ярким утренним светом, как бы проверяя, способно ли оно дать отдохновение переутомленной голове.
Ей нравилось родное село: расположенные кучками красноверхие домики, а вокруг лес, луг и поле в такой правильной пропорции, какую не придумаешь нарочно. Вечером прямая, как стрела, дорога вела из темной конторы районного городка в самую середку заходящего огненного шара, и по обе стороны были разбросаны поселки. Как раз там, откуда шла тропинка к ее родному селу, у единственной на всю округу растрепанной ветлы стоял этот самый химик, подставляя вечернему ветерку свои короткие вихры. Одна и та же сила гнала ее домой, в село, а его к этому шоссе, которое выводит на автостраду и, если угодно, на все дороги мира.
Завидев ее, он снимал очки и принимался тщательно протирать их краем рубахи. А затем она видела, как он направлялся к синеющему вдали лесу, высокий, худощавый, с непомерно длинными руками и узкой, строго очерченной юношеской головой. Заманчиво было бы сбить с него спесь! Заманчиво посмотреть, каков он на самом деле! От одной этой мысли мурашки пробегали у нее по телу. Уж очень это было заманчиво.
Однако в воскресенье вечером, на танцах в ресторанчике, он показался ей старше и строже, и она оробела. Весь вечер он наблюдал, как она кружится с местными парнями. Начался последний танец, в зале уже пооткрывали окна, и от струй свежего воздуха раздалась дымовая завеса над головами трезвых и подвыпивших. Тут только он подошел к ней и вывел ее на середину зала. Он танцевал хорошо, но без увлечения, оглядывал других девушек и отпускал замечания по их адресу.
Она знала, что завтра рано утром он уезжает домой, в город. Она знала: он из тех, кто способен ничего не сказать и не предпринять. У нее защемило сердце от страха и досады. И вдруг, глядя ему прямо в насмешливые и скучающие глаза, она спросила:
— Скажите, очень трудно стать таким, как вы?
Он только прищурился в ответ, не говоря ни слова стиснул ей локоть и увел из зала. Молча пошли они по деревенской улице. Рита сорвала георгин, свисавший над каким-то забором. По небу покатилась звезда, но Рита не задумала желания. С чего он начнет? — гадала она.
Вот они уже у калитки. Медленно прошла она те несколько шагов, которые вели к крылечку, с каждым шагом ей становилось все страшнее. Вот она уже взялась за дверную ручку, холодную и бездушную, как долгая одинокая жизнь, и тут он скучающим и насмешливым тоном произнес ей вслед:
— Могли бы вы влюбиться в такого, как я?
— Да, — ответила Рита.
Ей уже не было ни чуточки страшно. Его лицо выделялось в темноте светлым пятном, и таким же он, верно, видел ее лицо. Дверная ручка потеплела от ее ладони за ту минуту, что они простояли тут.
Потом он тихонько кашлянул и ушел. Рита спокойно подождала на крыльце, пока не заглохли его шаги.
Ночью она не спала ни минуты, а с утра стала ждать от него письма, удивляясь такому повороту событий, но ничуть не сомневаясь в их исходе. Письмо пришло через неделю после деревенской танцульки. Первое письмо в ее жизни среди вороха деловых писем, которые приходили в контору и не {¿мели к ней ни малейшего отношения.
«Милая золотистая красавица» — так обращался к ней Манфред. Посмеиваясь над самим собой, он подробно описывал ей всю гамму тонов от золотистого до темной бронзы, с первой минуты поразившую его в ней, хотя девушки давно уже перестали чем бы то ни было его удивлять.
Девятнадцатилетняя Рита часто становилась в тупик оттого, что не умела влюбляться, как другие девушки, а тут, чтобы прочитать такое письмо, обошлась без особой науки. Оказалось, что все девятнадцать лет, все желания, поступки, мысли, мечты были только подготовкой именно к этому мгновению, именно к этому письму. Откуда-то вдруг обнаружилась уйма опыта, накопленного не ею самой. Как всякая девушка, она не сомневалась, что никому никогда не было и не будет дано испытывать чувства, которыми полна сейчас она.
Рита подошла к зеркалу. Она была пунцовой до самых корней темно-бронзовых волос и при этом улыбалась по-новому застенчиво, по-новому самоуверенно.
Она знала, почему нравится ему сейчас и будет нравиться всегда.
3
С пяти лет. Рита знает что нужно всегда быть готовой к полному перевороту в жизни. Смутно припоминается ей раннее детство в голубовато-зеленом холмистом краю, вспоминается увеличительное стекло в глазу у отца, кисточка у него в руке, проворно и ловко наносящая узор на кофейные чашечки, из которых на памяти Риты никто никогда не пил.
Ее первое большое путешествие почти совпало с концом войны, когда в толпе растерянных, разъяренных людей она навеки покидала Богемские леса. Мать знала, что в одном из среднегерманских сел живет мужнина сестра. В ее-то дверь они и постучались однажды вечером, как потерпевшие кораблекрушение. Их приютили, дали кров и стол, тесную комнатку для матери, каморку для Риты. И хотя первое время мать без конца твердила: «Тут я не останусь ни за что!» — они тем не менее остались, связанные общей бедой и бессмысленной надеждой, что когда-нибудь в этот скромный, но верный приют все-таки придет письмецо от отца, пропавшего без вести на фронте.
Надежда постепенно рассеивалась, уступая место скорби, потом горестным воспоминаниям, а годы шли и шли. В этом селе Рита обучилась грамоте, затвердила считалки местных ребят, выдержала все обязательные испытания храбрости у ручья.
Тетка была хмурого, педантичного нрава; прожитая в этом домике жизнь принесла ей и радость и горе, до последней капли высосала из нее какие бы то ни было порывы и под конец погасила даже зависть. Она отстаивала право собственности на обе комнаты и каморку, но девочку по-своему любила.
Рита и не подозревала, как тяжко было матери делить любовь дочки и место у очага. Рита была привязчивым, общительным ребенком, каждый ласково обходился с ней, каждый считал, что видит ее насквозь. Но о том, что ее по-настоящему радовало и по-настоящему мучило, она не рассказывала никому. Молодой учитель, приехавший в их село, видел, что она часто, бывает одна. Он стал давать Рите книги и брал ее с собой на прогулки по окрестностям. Он знал, чего ей стоило бросить школу и поступить на службу, но разубедить ее было невозможно. Ради нее мать работала в поле, а потом на текстильной фабрике. Теперь же, когда она прихварывает, обязанность дочери — заботиться о ней. «Вы еще успеете намучиться», — говорил учитель. Он был искренне возмущен. Рите всего семнадцать лет. Упрямство — вещь хорошая, когда нужно побороть самого себя, но далеко на нем не уедешь. Одно дело — мужественно принять неприятное решение, даже принести жертву, и совсем другое дело — изо дня в день корпеть в тесной конторе. Да еще в полном одиночестве — много ли нужно служащих сельскому отделению соцстраха? Совсем другое дело — день-деньской исписывать нескончаемые листы колонками цифр, одними и теми же словами напоминать одним и тем же неисправным плательщикам об их обязанностях. Со скукой смотрела она, как подкатывают к подъезду машины, как оттуда выходят всегда одни и те же одобряющие или порицающие работу конторы начальники. Со скукой смотрела, как они отбывают.
Энтузиаст-учитель в свое время поддержал ее жизненные запросы; она ждала чего-то необычного — необычайных радостей и горестей, необычайных событий и откровений. Все в стране беспокойно метались, рвались куда-то. Ее это не удивляло (она не знала, что может быть иначе), но где же тот единственный, который поможет отвести малюсенькую частицу этого гигантского потока в русло ее ничтожного и такого важного существования? Кто даст ей силы внести поправку в злобную прихоть слепого случая? Она с испугом замечала, что начинает привыкать к однообразному течению дней.
Снова наступила осень. В третий раз придется ей наблюдать, как опадают листья с двух ветвистых лип под окном конторы. Жизнь этих лип бывала ей иногда понятнее, чем ее собственная. Она часто думала: «Вряд ли мне доведется увидеть из этого окна что-то новое. И через десять лет почтовый грузовик будет останавливаться здесь ровно в двенадцать, и пальцы у меня к этому времени посереют от пыли, и я буду мыть руки задолго до того, как надо идти обедать».
Весь день Рита работала, а вечером читала романы; ею постепенно овладевало ощущение никчемности.
Тут она встретилась с Манфредом, и у нее на многое открылись глаза. В этот год листья с деревьев опадали пестрым фейерверком, а почтовый грузовик иногда ужасно запаздывал — на целых пять минут. Прочная, надежная цепь мыслей и чаяний снова привязывала ее к жизни. Она больше не грустила, если даже подолгу не видела Манфреда. Скуки как не бывало.
Он написал, что приедет на рождество. Она встретила его на станции, хотя он просил не встречать.
— Вот она, моя золотистая красавица! — воскликнул он. — И мех на шапочке золотистый, как в русских романах.
Они прошли несколько шагов до остановки и стали ждать автобуса у какой-то витрины. Сразу же выяснилось, что в письмах легко называть друг друга на «вы» и все-таки быть вполне откровенными, в действительности это куда труднее.
— Вот видите, — начал он, и ее на миг обуял страх, не разочаровала ли она его раз и навсегда, — этого я и хотел избежать. Очень приятно стоять в снежном месиве, глазеть на лейки и детские ванночки и не знать, как быть дальше.
— Почему же? — подхватила Рита. В его присутствии она умнела молниеносно. — Пусть роман идет своим ходом.
— То есть? — с интересом спросил он.
— Например, героиня скажет герою: давай сядем в голубой автобус — кстати, он показался из-за угла. Я провожу тебя до дому, потом ты пойдешь со мной к моим родным — они ведь до сих пор не знают, что ты существуешь. А чтобы пригласить тебя на рождественского гуся, им надо с тобой познакомиться. Ну как? Хватит на первый день?
Она поймала его взгляд в стекле витрины.
— Хватит, — он был приятно поражен, — за глаза хватит. Умница, хорошо придумала.
Они посмеялись и взобрались в голубой автобус, который остановился у самой витрины. Сперва приехали к его двоюродной сестре, а потом он пошел с Ритой к ее родным, которые почти не знали о его существовании и долго молча разглядывали гостя. «Видный мужчина, — думала тетка, — только староват для девочки». «Ученый-химик, — думала мать. — Лишь бы женился, ей тогда не знать забот, а я умру спокойно». И обе в один голос произнесли:
— Приходите на рождество отведать жареного гуся.
Когда Рита вспоминает о рождестве в заснеженной деревеньке — в сочельник, как и полагается, выпал снег, — о том, как они рука об руку шли по безлюдной сельской улице, она задает себе вопрос: было ли так когда-нибудь и будет ли когда-нибудь еще? Обе половинки земли сошлись точка в точку, а на стыке прогуливались мы, как ни в чем не бывало.
У ее крылечка Манфред достал из кармана узкий серебряный браслет и протянул ей так несмело, как никогда еще ничего не дарил девушкам. Рита давно поняла, что ей придется всегда быть смелой за двоих. Она сбросила толстые вязаные перчатки прямо в сугроб и приложила ладони к холодным щекам Манфреда. Он замер, глядя на нее.
— Мягкие, бронзовые, пушистые, — прошептал он и сдунул с ее лица прядь волос.
Кровь бросилась ему в голову, он отвернулся.
— Ничего, смотри на меня, — шепнула она.
— Да? — спросил он.
— Да, — ответила Рита.
Его взгляд она ощутила, как удар ножом. Весь вечер она старалась скрыть, что у нее дрожат руки, но он заметил и улыбнулся; ее обидела эта улыбка, и все-таки ей неудержимо хотелось смотреть на него. Пожалуй, она была не в меру оживленна, но мать и тетка то ли никогда не знали, то ли успели запамятовать, как девушка старается скрыть пугающую ее любовь. Они беспокоились об одном — как бы не пережарить гуся.
Под конец разлили вино и выпили друг за друга.
— За ваши экзамены, — обратилась к Манфреду мать, — чтобы все сошло благополучно.
— За ваших дорогих родителей, — пустила тетка пробный шар. Надо же побольше узнать о молодом человеке.
— Благодарю вас, — сухо ответил он.
Рита до сих пор не может без смеха вспомнить выражение его Лица. Ему тогда было двадцать девять лет, и он уже раз и навсегда не годился в любящие зятья.
— Мне сегодня снилось, что мы дома празднуем рождество. Отец поднимает бокал и пьет за мое здоровье. А я — конечно, во сне — хватаю со стола тарелки, рюмки и все подряд швыряю об стену.
— Зачем тебе понадобилось пугать людей? — спросила Рита, провожая его до калитки.
Он пожал плечами.
— А чего им было пугаться?
— Твой отец…
— Мой отец — истый немец. В первую войну он потерял глаз и тем избавился от второй. Так он поступает и по сей день: жертвуй глазом — сохранишь жизнь.
— Ты несправедлив.
— Когда он меня не трогает, я не трогаю его. А пить за мое здоровье он не смеет даже во сне. Почему они не хотят понять, что мы, немцы, выросли без родителей?
Новый год они провели на туристской базе в ближнем предгорье. Днем скатывались на лыжах с белеющих склонов, а вечером вместе с другими туристами — сплошь молодежью — встречали наступающий 1960 год.
Ночью они остались вдвоем. Рита узнала, как этот насмешливый, холодный человек жаждет потеплеть и забыть о насмешках. Для нее это не было неожиданностью, но все-таки отлегло от сердца, и она даже всплакнула. Мурлыча себе что-то под нос, он пальцами утирал ей слезы, а она барабанила ему в грудь кулаками, сперва потихоньку, потом с остервенением.
— Спрашивается, чего так барабанит? — прошептал он.
Она заплакала еще сильнее. Оказалось, и она была очень одинока.
Позднее она повернула его голову к себе, стараясь в снежном отсвете увидеть его глаза.
— Послушай, — начала она, — а что, если бы ты так и не пригласил меня на последний танец? Что, если бы я не задала тебе тот дикий вопрос? Если бы ты промолчал, когда я была уже на пороге?
— Даже представить себе нельзя, — сказал он. — Впрочем, я все наметил заранее.
4
Такой он бывал всегда — самоуверенный и неуловимый. В одно из редких воскресений, которое они проводили вместе, она спросила его:
— Я, конечно, не первая женщина, которая привлекла тебя?
Она теребила пуговицы на его пиджаке, он поймал ее руки и подумал: «Она говорит о себе — женщина. И думает, что похожа на всех других!» Это растрогало его так же, как раньше потрясало то, что она не похожа на других.
— Да, не первая, — без улыбки ответил он.
Немного погодя она спросила как бы вскользь:
— У тебя было много любовниц?
Он спокойно выжидал, пока она молчала: ей мучительно трудно было задать этот вопрос.
— Порядочно, — признался он.
Она обратила к нему недоумевающий взгляд, но он не шутил.
— Ну что ж, — сказала она, — с тобой к чему хочешь можно привыкнуть.
Он взял ее за подбородок и заглянул в глаза.
— Дай мне слово, — попросил он, — что никогда не будешь ради меня привыкать к невозможному.
Она положила голову ему на грудь, повсхлипывала, посопела, пока он гладил ее, как ребенка, и подумала, совсем утешившись: «Ну чего мне от тебя ждать невозможного?»
Недели между воскресеньями немилосердно тянулись, на его письма порой капали слезинки. Но лицо Риты выразило непритворное удивление, когда мать прямо задала ей вопрос:
— Да ты счастлива ли, детка?
Счастлива? Она чувствовала, что только сейчас живет по-настоящему.
Манфред знавал разных женщин, любивших по-разному, и потому он лучше самой Риты мог определить, в чем особенность ее любви. Проведенная вместе ночь никогда не привязывала его к женщине. В каждую новую встречу он привносил холодок неизбежной разлуки и становился все более равнодушным. А к этой девушке его привязало первое же ее слово, обращенное к нему. Он был сражен, непозволительно потрясен до самой глубины души. Первое время, пока ничего еще не определилось, он пытался высвободиться, но скоро понял, что это не в его власти.
Как человек по натуре недоверчивый, он всячески испытывал Риту. И она, ничего не подозревая, с улыбкой выдерживала одно испытание за другим. Его подкупало именно то, что она не сознает своих достоинств, и ему приходилось открывать их за двоих. Вместе с тем его бесило, что она пробуждает в нем надежды, которые он успел похоронить. Но в конце концов он все же нерешительно отдался надежде.
— Увы, золотистая девочка, ты еще дитя, а я пожилой человек, — говорил он, — К добру это не приведет.
— Ах, я привыкла, что все люди считают себя хитрее меня, — отвечала она, — но уж не настолько я проста, чтобы выпустить из рук человека, который меня соблазнил.
— Я тебя погублю, — говорил он.
— Лучше ты, чем другой, — отвечала она.
Да, это было так. Вся жизнь была перед ними, и они могли ею распорядиться, как хотели. Все было возможно, невозможным казалось только потерять друг друга.
В начале марта к ним в район явился представитель учительского института, тощий черноволосый мужчина с объемистым портфелем, в котором хранилось все, что ему могло понадобиться. Так как для него не нашлось свободного помещения, кто-то надумал устроить его в конторе у Риты, и ее попросили, чтобы она помогла ему по письменной части.
Рита с любопытством наблюдала за его деятельностью. Весь день он был в бегах, иногда звонил ей и сообщал, где сейчас находится. А вечером приносил две-три заполненные анкеты будущих студентов учительского института и вручал их Рите с соответствующими пояснениями.
— Конечно, следует стричься почаще, — заметил он, передавая ей автобиографию миловидной блондиночки, работавшей напротив, в парикмахерской.
Или же:
— Бригадиры — мои завзятые враги. Хоть бы одного человека отпустили добровольно! И что вы думаете? Мне сегодня попался на удочку сам бригадир.
Он вешал плащ на крючок и уже больше никуда не торопился. Равнодушно выслушивал он очередное сообщение о том, как его поносят местные руководители, — они даже специально ходили к Рите в контору жаловаться на нехватку рабочей силы, будто, она могла им чем-нибудь помочь. Эрвин Шварценбах и не думал оправдываться. Усевшись, он закуривал и начинал разговор о всякой всячине — Рита диву давалась, почему даже газета становится интересной, когда он читает ее, — а в заключение расспрашивал девушку о ее знакомых и записывал их фамилии.
Рита теперь всегда опаздывала домой и с каждым днем пребывания Шварценбаха становилась все беспокойнее. Впервые она воочию видела, как чья-то рука направляет судьбы простых людей — белокурой парикмахерши, бригадира, заведующего отделом в магистрате. «Как, и тот? — изумлялась она про себя. — И она тоже?» Должно быть, у нее не хватало воображения представить себе этих людей вне их повседневных занятий. Значит, нужно было, чтобы откуда-то издалека явился такой вот здравомыслящий человек, как Шварценбах, и без малейшего труда обнаружил необыкновеннейшие возможности в самых обыкновенных людях.
— Двадцать, — объявил Шварценбах в предпоследний вечер. — Неплохо для одного района.
— Девятнадцать, — поправила его Рита, заглушая в себе какое-то сосущее разочарование.
— Двадцать, — повторил он и так же невозмутимо протянул ей через стол анкету. Анкета не была заполнена, но в первой графе его рукой была проставлена ее фамилия.
«Ах, это я», — подумала она и вовсе не была так уж поражена.
— О чем вы задумались? — спросил Эрвин Шварценбах после паузы, во время которой в комнате стояла непривычная тишина.
«Мне всегда хотелось иметь младших братьев и сестер… — думала Рита. — И Манфред… Его институт в том же городе…» Она думала о поездах и уличных шумах и вдруг представила себе бледное лицо своего школьного учителя — где-то он сейчас? — представила себе учебники, городские огни, детский запах, а под конец целый выводок ребят, возвращающихся из лесу и поющих: «Тра-ла-ла, весна пришла, весна пришла».
— Мне страшно, — призналась Рита.
Шварценбах кивнул, оказалось, что у него могут быть очень понимающие глаза. «Значит, я правда подхожу», — подумала она.
— Я не могу.
— Можете, — сказал Шварценбах. — Вы-то можете. Кто же, если не вы? Пишите-ка скорее автобиографию, а я на день раньше вернусь домой и наверстаю те вечера, когда обхаживал вас, как жених.
Рита ничего не делала сгоряча, но важные решения принимала мгновенно. За то время, пока он рассеянно шарил в поисках ручки, ей удалось убедить себя, что такой поворот судьбы — не случайность, он был неизбежен. Ведь она ждала этого давным-давно. Рано или поздно нечто подобное должно было произойти. И это еще крепче свяжет их с Манфредом. Не будь его, у нее ни за что — ну, ни за что на свете! — не хватило бы духу принять такое решение.
Когда она начала писать, ей стало стыдно, что вся ее жизнь занимает полстраницы. Надо бы каждый год приписывать к своей биографии хоть одну строку, но такую, которая бы этого заслуживала. Пускай впредь так и будет, решила она.
Эрвин Шварценбах пробежал листок глазами и сунул его в портфель.
— Мы скоро увидимся, — на прощанье сказал он.
Он был доцентом в учительском институте.
Те два часа, которые предшествовали возвращению Риты домой и поднявшейся там суете, были самыми примечательными в ее жизни. Неужели это все тот же день, навстречу которому она ехала утром по шоссе? Неужели это все тот же поросший травой и набивший оскомину городок? Рита кланялась направо и налево тем же людям, которых встречала каждый день; сегодня она оглядывалась им вслед.
Они ничего не знали. Ни одна душа не знала ничего, кроме нее и того человека, которого уносил отсюда поезд. Значит, бывает такое, чтобы кто-то пришел и попросту сказал: брось ты это, начни все по-другому. Раз такое бывает, значит, все возможно — любые чудеса и любые подвиги. Вот этот сонный городишко мог встрепенуться и с края света переместиться в самую его середину. Кто скажет, какие важные вопросы будут когда-нибудь решаться в затхлых каморках его контор?
Рита ехала на велосипеде по прямому, как стрела, шоссе, а впереди медленно скрывались за лесом последние отблески мартовского дня. Сколько бы ни предстояло ей в будущем ездить по этому шоссе, сегодня она торжественно прощалась с ним.
Прежде чем сумерки сгустились окончательно, равнина, плавно поднимавшаяся и опускавшаяся по обе стороны дороги, вдруг удивительным образом посветлела. Ярче проступили белые пятна снега на буром море пашен. Завтра первое теплое дуновение западного ветра растопит их и взамен проступят другие, более жесткие очертания. На миллиметр от поверхности земли притаились в ожидании подснежники.
Рита улыбнулась. Как все это ей знакомо. Словно частица ее самой! Спасибо за каждый птичий крик, за прохладу реки, за утреннее солнце, за тень под деревьями знойным летом. Она поехала быстрее. Ног она не ощущала, не думала о них — они работали сами собой. Другое дело ветер! Ветер крепчает, когда едешь быстрее. Она вся пылала. Кто сказал, что я слабая? Нет, нет, я поеду в город. И мы еще себя покажем.
Она была очень хороша, когда приехала домой, лицо горело от быстрой езды и светилось изнутри. Мать по привычке переполошилась: житейский опыт научил ее, что все новое хуже старого. От рассказа Риты она ударилась в слезы, но, как всегда, собственное огорчение приписала другим. Что на это скажет Манфред? — ужасалась она. За собственный брак она когда-то дрожала куда меньше, чем за предстоящий союз дочери, который был ее самой заветной и страстной мечтой.
Узнав о самовольном решении Риты, тетка разобиделась и, не сказав ни слова, ушла к себе.
«Никто не желает меня понять, — писала Рита Манфреду, порвав свое первое, сбивчивое письмо. — Я непременно хочу стать учительницей. Больше мне сказать нечего. Надеюсь, хоть ты-то меня понимаешь?»
Он ответил довольно сдержанно: трудно, по-видимому, предугадать, какой фортель она выкинет завтра. Придется исподволь приучаться к этому. Впрочем, она может поселиться у него, вернее, у его родителей. «Но ты вряд ли долго вытерпишь. Верь мне, моя золотистая девочка, ты совсем не знаешь жизни».
5
Манфред совершенно точно знал: есть такой вид усердия, который оставляет равнодушным самого усердствующего. И лишь теперь, когда он уже не мог быть равнодушным, у него возник вопрос: что со мной происходило? И откуда пошло это безразличие ко всему на свете? Почему никто не вразумил меня? Неужели надо было, чтобы явилась эта девушка и спросила: «Трудно стать таким, как вы?»
С непривычным воодушевлением окунал он пучок искусственного волокна в разноцветные жидкости, непрерывно меняя их состав, проделывая с ними хитроумные опыты, отбирая самые лучшие и стойкие красители для следующей, более усложненной серии опытов.
Его работа приближалась к концу. Еще недавно он никак не представлял себе свою дальнейшую жизнь. О чем мечтать после того, как будет пройден этот рубеж? Какую поставить перед собой новую цель?
Теперь же планов было хоть отбавляй. Ему рисовались заводские цеха, помещения, наполненные удушливыми парами. Он был уверен: прекраснее их нет на свете, потому что в них по его методу окрашивается волокно. Сам он в белом халате переходит от котла к котлу, рассматривает образцы, проверяя состав растворов. Его ценят как знающего и незаносчивого человека. Да, раньше он называл скромность недомыслием, а сейчас вдруг стал воспринимать ее как похвальное свойство.
Но вот пришло письме от Риты: «Я буду учительницей». Что же это такое? Именно теперь? И со мной не посоветовалась! Я приду домой, а тут школьные тетрадки, неуспевающие ученики, родители с жалобами! И проблемы воспитания. В нем шевельнулось ревнивое чувство: она будет жить не только мною.
«Она не выдержит», — тут же подумал он. При ее чувствительной натуре стоит раз-другой столкнуться с действительностью, как все это опостылет ей! В таком духе он ответил на ее письмо. Она уже вынуждала его к уступкам, и он раздражался. А раздражение порождало близорукость. Прежде всего нельзя отпускать ее от себя. Поэтому он сухо осведомил мать о существовании Риты и настоял на том, чтобы ей отдали его комнату. Сам он уже давно жил в мансарде под крышей.
Мать яростно сопротивлялась, не желая брать к себе в дом девушку, отнимающую у нее сына. Он заранее предвидел все возражения, ее плаксивая физиономия тоже была ему не в новинку. Он холодно смотрел на нее, пока она не выговорилась, а затем сказал:
— У меня на это свои соображения. Надеюсь, она все-таки не сразу сбежит от нас.
— Как ты можешь так говорить! — вскипела мать. Но тут же смирилась под его взглядом. Она привыкла к его холодной замкнутости и неуступчивости во всем, что ему было важно. Она благодарила судьбу хотя бы уже за то, что в последнее время, с тех пор как Манфред окончательно охладел к родителям, отец и сын перестали давать волю взаимной ненависти.
В прохладное апрельское утро Манфред показывал квартиру родителей своей будущей жене, только что въехавшей к ним.
— Это мой прижизненный склеп, он включает в себя четыре гроба: гостиный, столовый, спальный и кухонный.
— Почему ты так говоришь? — спросила Рита, хотя на нее с первого взгляда угнетающе подействовала и уединенная аристократическая улица, и старинный особняк, и чопорные полутемные комнаты.
— Потому что с тех пор, как я себя помню, жизнь сюда не вхожа, — ответил он.
— Но твоя комната довольно светлая, — утешила себя Рита. Ей, видимо, придется крепко держать себя в руках, чтобы ее решение не зачахло здесь, чтобы его не засосала старинная, чуждая обстановка этой квартиры.
— Брось, — прервал он. — Пойдем, я тебе покажу, где мы будем жить на самом деле.
И вот они уже стоят на пороге его чердачной комнатки, и Манфред искоса смотрит на Риту — понятно ли ей, что для него значит эта неприглядная каморка?
— Нда-а, — протянула она, обводя неторопливым взглядом письменный стол у одного из узких окошек, тахту, стенные полки с мрачными, беспорядочными рядами книг, несколько красочных литографий на стене, какие-то химические приборы по углам. Не в ее привычках было задавать вопросы. Так и теперь она спокойно — только, пожалуй, чересчур пристально — посмотрела на него.
— Очевидно, мне придется заботиться о цветах.
Он привлек ее к себе.
— Ты хорошая, — без улыбки сказал он, — лучше девушек не бывает. За это я буду по вечерам угощать тебя здесь замечательными салатами, а зимой мы будем поджаривать на печке ломтики хлеба.
— Хорошо, так оно и будет, — торжественно произнесла Рита.
Они расхохотались и подняли веселую возню, а потом усталые лежали рядом в ожидании ночи. Весна вступала в свои права под резкий свисток паровоза, который долго звучал над речной долиной и заглох где-то вдали. Чердачная комнатка вместе со всем хламом и с обоими своими обитателями превратилась в гондолу гигантских качелей, которые были подвешены к какой-то точке иссиня-черного небосвода и раскачивались такими широкими, равномерными взмахами, что ощутить их можно было, только закрыв глаза.
Оба закрыли глаза.
Вот они взлетели к первым звездам и вслед за тем чуть не коснулись городских огней дном своей гондолы, а потом взвились сквозь мрак к тоненькому желтому серпу месяца. С каждым взмахом в небе становилось все больше звезд и больше огней на земле, и этому не было конца, пока у них не закружились головы; тогда они ухватились друг за друга и, по примеру всех влюбленных на свете, молчаливыми ласками старались друг друга успокоить.
Мало-помалу внизу погасли огни, за ними вверху погасли звезды, и под конец от багрово-серой утренней зари поблек месяц.
Они стояли вдвоем у окна, ветер обдувал их. Сверху они видели, как медленно выплывает из сумрака ночи кусок города, купа деревьев, полоска реки… Они тоже вынырнули из сумрака ночи, посмотрели друг на друга и улыбнулись.
Произведения
Критика