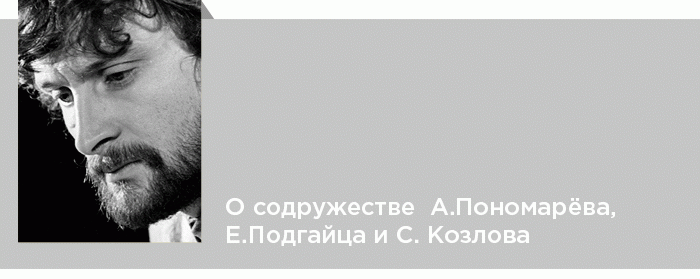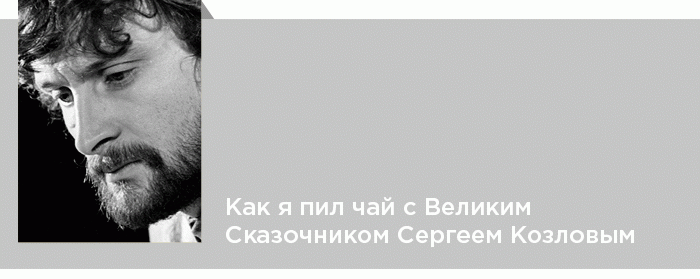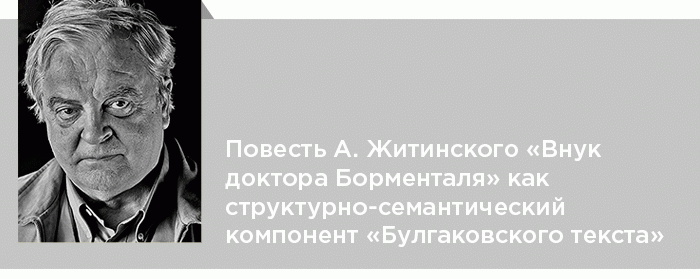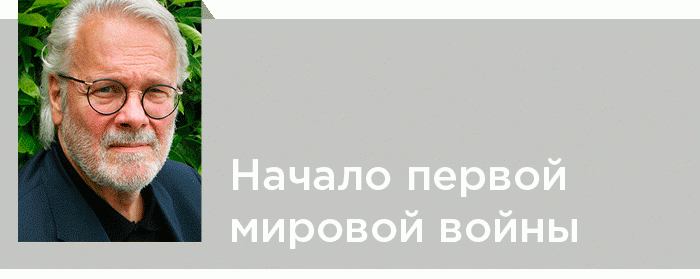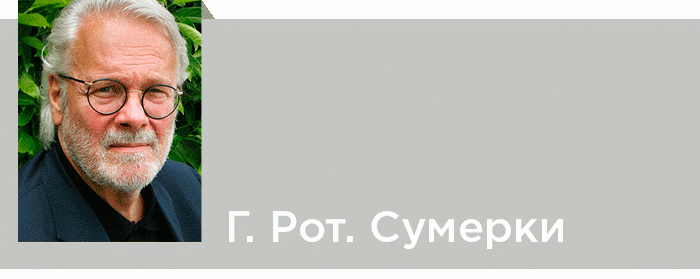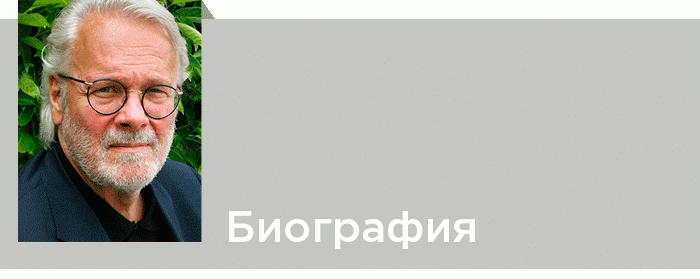Герхард Рот. Тихий океан
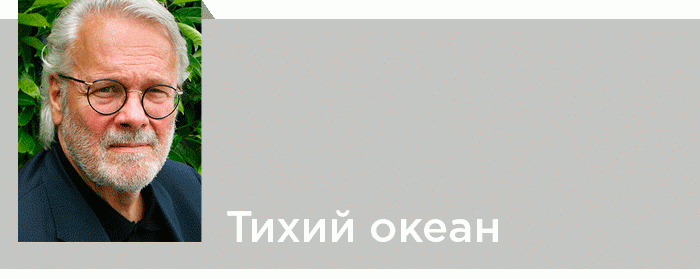
(Отрывок)
Теперь, когда все укутано снегом, здесь, в сельской глуши, мне кажется, будто я в открытом море. По утрам, встав с постели, я смотрю из окна точно из иллюминатора в Атлантическом океане.
Герман Мелвим «Дневники»
1
Ашер проснулся после тревожной ночи (в темноте он вскакивал за мотыгой, которую накануне нашел на чердаке в куче кукурузных початков, и положил ее у кровати), и взгляд его упал на еще не распакованный чемодан. Он вспомнил, что малодушно принял приглашение хозяина дома на фазанью охоту, и мысль об этом терзала его до вечера, но теперь, при свете дня, он как-то с нею примирился. В конце концов, хоть познакомится с жителями деревни и будет избавлен от необходимости лгать каждому по отдельности. Одеваясь, он мимолетно подумал о жене и дочери, а потом вышел из дома. В тумане он не видел ничего дальше ближайшей яблони. Он зашагал по улице к вершине холма, где ему встретился какой-то прохожий с рюкзаком на спине, и спросил у него, как найти дом распорядителя охоты, но не понял объяснений, однако по тому, в какую сторону тот махнул рукой, заключил, что идет в нужном направлении.
Как раз когда он входил во двор, который искал, охотник в широкополой шляпе вытащил из багажника машины оленя и поволок его на кучу листьев. Олень был уже серый, зимней масти. Теперь Ашер разглядел сквозь плотный туман и других охотников. Насколько он уловил по их пренебрежительным замечаниям, человека, что привез оленя, звали Август Роги. Ашер пришел с намерением познакомиться с местными, и потому особенно старался запомнить их имена. Кто-то принес синее эмалированное ведро с горячей водой и тряпку, и охотник бросил куртку на траву и принялся свежевать оленя. Подошел хозяин дома по имени Цайнер, взглянул на оленью тушу и, заметив Ашера, со скучающим видом сообщил, почтительно и не без напускной таинственности, что Ашер — биолог из Германии, из Института Макса Планка, и что здесь он будет поправлять здоровье после перенесенного вирусного заболевания, которым заразился во время исследований, пока не окрепнет настолько, что сможет вернуться в Германию. Это объяснение охотников вполне удовлетворило.
Окрестности окутывал бурый, пронизанный лучами солнца туман. Охотники затянули на животе патронташи. Над вершинами холмов висела золотистая дымка.
«Значит, я здесь застряну надолго», — безрадостно подумал Ашер. На красной блестящей корморезке лежало ружье.
— А ружьецо недурное будет, — сказал Рога, взяв его в руку.
Они сели в машины и сначала поехали в долину, в Унтерхааг, как, по словам Цайнера, называлась деревня. По дороге там и сям возвышались груды кукурузы, пирамидальными тенями выделявшиеся на солнце. Кроны фруктовых деревьев тоже сияли в золотистой дымке или темными силуэтами вздымались на фоне серого неба.
На стенах сеновалов, хлевов и конюшен виднелись предвыборные плакаты с портретами политиков. На плакатах Народной партии красовался глава земельного правительства, на плакатах Социал-демократической партии — заместитель главы земельного правительства вместе с федеральным канцлером.
— Кто на выборах-то победит? — осведомился Хофмайстер.
— Социалисты проиграют, — ответил Ашер.
— Он потому и спрашивает, что сам — член общинного совета Народной партии, — пояснил Цайнер, указывая на Хофмайстера.
— А вы вообще политикой интересуетесь? — спросил Хофмайстер.
— Я социал-демократ.
Они помолчали. Потом Хофмайстер добавил:
— Да ладно, чего там, каждый имеет право голосовать, как ему заблагорассудится.
Ашер украдкой взглянул на Хофмайстера. Первое, что бросалось в глаза, — это его гнилые зубы. Среднего роста, стройный, вот только с небольшим брюшком. Бледный, с морщинками в уголках глаз, с потрескавшимися бескровными губами, Хофмайстер говорил, непроизвольно помогая себе всем телом. Когда он смеялся, изгибался, когда задавал вопрос, поднимал брови, когда без слов выражал свое согласие с кем-нибудь, — закрывал глаза и несколько раз кряду быстро кивал, когда успокаивал собеседника, — хмурился, опускал голову, держа ее несколько набок, когда задумывался, — стоял, откинув плечи назад, выпятив брюшко, а когда снова вступал в разговор, внезапно подавался вперед. Однако на это Ашер обратил внимание только во время охоты. Хофмайстер владел небольшой усадьбой, женат был на сестре Цайнера и имел троих сыновей. Он работал посменно на кирпичном заводе под Гассельсдорфом, принадлежащем брату покойного главы земельного правительства. У Цайнера были густые темные волосы, нос картошкой и большие удивленные глаза. Ладони у него были широкие, а сам он — приземистый, коренастый. Цайнер, как догадался Ашер по нескольким фразам, которыми он с ним обменялся, за словом в карман не лез и насмешник был каких поискать. Запястье у Цайнера было забинтовано, он пять или шесть лет проработал шофером грузовика и теперь пытался выхлопотать себе под предлогом артрита небольшую пенсию, чтобы хозяйствовать без помех. На шее у него сидели пять едоков, а ферма ему, как и Хофмайстеру, досталась маленькая: кукурузные поля, несколько кустов красной смородины, две или три коровы, свиньи и лошадь.
Они свернули с дороги и пересекли речушку Заггау, медленно струившую под мостом темные воды. За мостом в тумане они остановились подождать других охотников, миновав две деревни, жители которых с корзинами овощей и фруктов собирались на праздник урожая. В тумане издалека доносилась музыка, наигрываемая маленьким оркестром. Ашер разглядывал проходящих мимо празднично одетых сельчан: они — кто в национальных нарядах, кто одетый по-городскому — шли по улице к деревенской пожарной части.
Он снова вспомнил о жене и дочери. Жена недавно поступила на службу в страховую компанию. Поначалу работа ей претила, и она постоянно сетовала, но под конец о ее работе они уже и не заговаривали. Скрепя сердце жена посоветовала ему перебраться в деревню. Впрочем, он пообещал ей беречь себя. Между тем музыка умолкла, а охотники, стоя без дела, стали совещаться, как быть дальше. В наступившей тишине один из них предложил подождать.
Ашер поднял глаза к солнцу, ярким пятном расплывавшемуся в дымке тумана. Снова заиграла музыка, потом зазвонили церковные колокола.
Наконец в тумане послышался шум приближающегося автомобиля.
Под желтыми кронами дубов они двинулись к лугу с возвышающимися на нем стогами сена, — за ним раскинулись кукурузные поля. К опорам моста водой прибило всякий хлам. «Следующего наводнения мост уж точно не переживет», — предрек Цайнер.
Сначала они прошли по недавно убранному полю, испятнанному пожухлыми кукурузными метелками, потом по перепаханным пшеничным полям, чередовавшимся с охряными кукурузными, и, наконец, по бесконечному жнивью. Откуда-то из тумана до Ашера донесся зов одинокого рожка, но охотники и бровью не повели. Тотчас после этого они уткнулись в заросли первого кукурузного поля и, оцепив его, спустили собак. Те в несколько высоких прыжков исчезли меж шуршащих стеблей, и охотники стали науськивать их, натравливать и бранить почем зря. Сами охотники расположились на расстоянии двадцати шагов друг от друга с ружьями в руке, подняв стволы. Где-то щебетали птицы. Как только собак спустили на дичь, Ашеру невольно пришла на ум собственная невеселая судьба. С другой стороны, сейчас он был в безопасности. Ну, кому он тут нужен-то? Неужели из-за какой-нибудь нелепой случайности все откроется? До города отсюда больше пятидесяти километров, и они с женой договорились, что она не станет его навещать, ни к чему пересуды. Только тут он заметил, что распорядитель охоты уже во второй раз спрашивает его о чем-то. О чем именно, он не уловил, поэтому просто улыбнулся и кивнул в ответ. Охотники перестали кричать «ату», чтобы не охрипнуть, и вместо этого стали понукать собак свистом. После того как собаки прочесали первое поле, к облегчению Ашера, не подняв ни одной птицы, охотники окружили цепью следующее. Размышляя в последние недели о своем будущем, он внезапно осознал, что более всего завидует тем, кто живет себе и живет, не мучимый бесконечной рефлексией. Вот и эти крестьяне такие же, незлобивые. Незлобивость эта у них, наверное, в крови.
Перепаханные поля лежали под паром. На проволочных изгородях висели гирлянды прозрачных водяных капель, на ржавых — даже розоватых. Тяжело ступая, они двигались по кукурузному полю, сжатому комбайном, утопая в стеблях до колен и волей-неволей так высоко поднимая ноги, что казалось, будто это марширует воинская часть; только марширует как-то вразброд, думал Ашер. На берегу Заггау торчали сухие, безлистные побеги арники, сплошь увитые паутиной.
Снова проехав немного на машинах, они остановились у лесопильни. По случаю воскресенья рабочих там не было. Они шагали по черной, рыхлой земле, слева и справа были уложены штабеля теса. Заггау, журча, перекатывалась через плотину. В сарае возле стальной пилорамы стоял старый, ржавый трактор. Дорога вела немного в гору, между фруктовыми деревьями и ульями, вдоль опушки осеннего, яркого лиственного леса. Ашер бездумно шел следом за охотниками и наслаждался. На холме собаки вновь исчезли среди зарослей кукурузы. Тотчас же раздался выстрел, и из-за края поля показался охотник с добычей. Ашер, снедаемый любопытством, двинулся ему навстречу. Кольца вокруг глаз у фазана были красные, темя — зелено-синее, воротник на шее — белый с черной и фиолетово-синей оторочкой, сама шея отливала золотисто-коричневым, на ней выделялись темно-зеленые кончики перьев, крылья, которые во всю ширину расправил для него охотник, — светло-коричневые и шелковисто-желтые, кончики крыльев — в бурых, серых и белых крапинках. Охотник невозмутимо протягивал ему убитого фазана. Птица будто вдруг сама далась в руки и заснула, только и всего. Ашер осторожно дотронулся до нее, и тогда охотник выдернул у нее несколько перьев и вложил их ему в ладонь. Ашер замялся, охотник, вероятно, неправильно истолковал его колебания, предположив, что Ашер не решается принять подарок.
— Да чего там, пустяки, — сказал он, ободряя Ашера.
Остальные уже ушли дальше. Туман рассеялся, засияло солнце, в небе ясно обозначилась оберхаагская колокольня. В условленном месте сбора распорядитель охоты откупорил двухлитровую бутыль вина и пустил ее по кругу. Потом они проехали еще через несколько деревень к следующему кукурузному полю. Какие-то музыканты примостились со своими инструментами на обочине дороги, заглядывали в проезжающие мимо машины словно в поисках знакомых и долго смотрели им вслед, когда они уже исчезали из виду. В одной деревне им пришлось остановиться, пропуская торжественную процессию, направляющуюся на благодарственный молебен по случаю сбора урожая. Возглавлял ее оркестр, игравший «Вознесем мольбы» … Ашер улыбнулся. «И от злой судьбы», — наигрывал оркестр дальше. В сущности, он завидовал этим людям, — как-никак, у них есть вера. «У меня-то ничего нет, кроме моей рефлексии, — думал он, — а она разъедает душу». Поэтому, сравнивая себя с другими, он вечно ощущал себя предателем, притворщиком и обманщиком. А сейчас чувство вины мучило особенно, ведь окружающие ему доверяли. «В конце концов, итог моего самосозерцания и сейчас такой же, как всегда, — бездействие». «Нас Господь спасет», — доносилось до него пение сельчан, издалека похожее на простой непринужденный разговор. Только сейчас он сумел разобрать слова, до того их заглушала слишком громкая музыка. Он вспомнил, как много лет прожил, не испытывая никакой потребности в религии, как потом втайне пытался обрести веру и как эти попытки терпели жалкий крах, ведь в то самое мгновение, когда он уже был готов сказать себе, что уверовал, его вера рассеивалась словно дым. «Праведных оплот», — допели участники процессии. И теперь, при виде развешанных на стенах домов и на деревьях предвыборных плакатов с гигантскими лицами, мимо которых шествовала торжественная процессия, он думал, что, если бы он был жертвой, и притом жертвой невинной, все это казалось бы ему прекрасным. К тому же тогда его поддерживало бы неизбежное сознание собственной беззащитности и необходимости смирения. Но жертвой он не был.
— Ну, вот, еле тащатся, нога за ногу, — раздраженно бросил Хофмайстер.
— Да уж, — согласился Цайнер.
Он как раз обгонял процессию, сворачивавшую с дороги к церкви. Ашер украдкой взглянул на хоругвь и балдахин из шелка и парчи, который несли на шестах четверо мужчин, — под ним выступал приходский священник с реликварием в руках.
— Видели женщину? Вон там! — спросил Хофмайстер, тыча пальцем. — Двадцать два года тому назад я за ней ухаживал. А жила она во-о-он в том доме.
Ашер послушно выглянул из окна.
— Вон на той стороне, — уточнил Хофмайстер.
Они как раз проезжали мимо фруктовых деревьев с обмазанными известью стволами.
Тщетно оцепив еще одно кукурузное поле, — двое охотников упустили взлетевшего фазана, который, тяжело взмахивая крыльями, проплыл у них над головами, — они по широкому, скошенному лугу мимо почти облетевших деревьев и кустарников вернулись к Заггау. Внезапно раздались выстрелы. Охотники крикнули: «Фазан!», — Ашер быстро повернулся к просеке, откуда поднялся на крыло фазан, а Цайнер, оказавшийся рядом с ним, на лету сбил птицу, так что перья закружились в воздухе. На какую-то долю секунды выстрелом фазана подбросило вверх, после чего он рухнул на землю, словно в наказание за дерзкие попытки летать. У Ашера возникло странное чувство, будто фазан сейчас там, где ему и надлежит быть. Дробь пробарабанила рядом с ним по листьям. Ашер вспомнил об этом как о чем-то бесконечно далеком. Кукурузное поле, с которого взлетел фазан, отделял от него маленький ручей. Поблизости стоял дом, в открытом окне покачивался вывешенный для проветривания костюм. Потом им встретились две пригожие девочки в бело-голубом. Ашер предположил, что они возвращаются с процессии. Одна из них была лет восьми, значит, ровесница его дочери Катарины. Сидит сейчас, поди, бедняжка, дома и мучается от скуки.
Несколько охотников слонялись под фруктовыми деревьями и выстрелами сбивали яблоки. Ашер устал, однако не подавал вида. Прочесав последнее кукурузное поле, распорядитель охоты прокричал: «Ну, все, конец!» На обратном пути Ашера немного подвезли, а остаток дороги он прошел пешком.
2
К середине дня сильно потеплело. Яблоки с шорохом падали с веток и стукались о землю. Когда накануне он выезжал из города, в садике за домом еще дотлевал пепел, у крыльца стояла металлическая лейка и грабли дворника. Потом жена отвезла его на вокзал.
— Значит, уезжаешь, — сказала она.
— Да, уезжаю, — откликнулся он.
Прощание выдалось не из легких. Поезд, которым ему предстояло добраться до места, носил название «Красная молния». Несколько раз в день он курсировал по маршруту «Кёфлах — Грац — Виз» и обратно. Красный-то красный, но вот сравнение с молнией он никак не оправдывал. Тащился как трамвай и подолгу стоял на каждой крошечной станции. Выходили чаще всего два-три пассажира, а входили и того меньше. Дело было после полудня, и Ашер сидел среди фабричных практиканток, школьников и пенсионеров. Более всего его терзало, что поезд так полз, — поэтому ему никак не удавалось подавить в себе ощущение утраты. Глядя на школьников, он невольно начинал беспокоиться о Катарине. В школу и из школы ее никто не провожает, вдруг с ней по дороге что-нибудь случится? Да и жена из-за нее волновалась. Перед сном они обычно, лежа в темноте в постели, рассказывали друг другу, как прошел день. Часто разговаривали о дочери, а он любил слушать, как жена описывает во всех подробностях, что же она делала без него. Но в последнее время жена работала в страховой компании, а дочка часов до трех сидела дома одна и сама разогревала себе обед. Ашер ужасно страдал от мысли, что она каждый день предоставлена самой себе и присмотреть за ней некому.
Поезд выехал на равнину. Кукуруза на полях, среди которых он сейчас катил, казалось, совсем засохла. Осень выдалась без дождей, но в городе Ашер этого не замечал. В смешанных лесах лиственные деревья желтыми пятнами выделялись на фоне темной зелени хвойных. Чемодан у Ашера был такой большой, что не поместился на багажной полке, он поставил его в проходе и всякий раз поднимал его на колени, когда поезд останавливался и кому-то требовалось пройти.
На маленькой железнодорожной станции Гляйнштеттен Ашера уже поджидали Цайнер и его зять Голобич. Накануне Ашер отправил по железной дороге сундук с книгами и медикаментами, и Цайнер с Голобичем помогли ему донести сундук до машины. Потом ему рассказали, что Голобич жил с невесткой Цайнера, вдовой его покойного брата, кровельщика, который года три-четыре тому назад сорвался с крыши при строительстве собственного дома и погиб. Если бы Голобич на ней женился, она потеряла бы право на вдовью пенсию, а они никак не могли себе этого позволить, ведь Голобич перебивался случайными заработками и продал соседу уже почти все свое достояние: лес, луга и пашню. Да и дом его, где поселился Ашер, теперь принадлежал Цайнеру. Однако деньги, о чем Ашера уже предупредили, у Голобича никогда не задерживались. В общей сложности у него перебывало восемь мотоциклов, а прочему добру он счет не вел. Детали мотоциклов еще валялись где-то на чердаке, который Цайнер по-прежнему разрешал ему использовать. Голобич хранил там и кукурузу, которую выращивал на маленьком поле перед домом и целыми мешками увозил на мотоцикле на корм свиньям. Он был среднего роста, крепкого сложения. Волосы надо лбом у него поредели, он зачесывал их назад. Он всегда носил коричневую замшевую шляпу, низко надвинув на глаза. Лоб у него был широкий, выпуклый, глаза — серо-голубые. На разбитом белом «опеле» Цайнера они выехали из Гляйнштеттена и покатили по равнине, сплошь засаженной кукурузой.
— Когда-то, тысячи лет тому назад, — сказал Ашер, — здесь было озеро.
Когда перед ними пролетела цапля, Цайнер рассказал, что вот тесть-де его видал однажды, как прямо на этом самом месте упал аэроплан, а построил этот аэроплан наш, местный фермер, молодой парень из Пёльфинг-Брунна. Это был моноплан с низко расположенным крылом, с мотором в тридцать лошадиных сил и со съемным винтом. Вылетел он из замка Гляйнштеттен, сделал круг над Хаслахом и вдруг так и рухнул камнем с неба. Авиатор не пострадал, но в первые минуты не мог вымолвить и слова, а когда тесть вытащил его из обломков, просто улегся на траву. Месяц-два прошло, глядь, — а он снова летает. Потом в Первую Мировую погиб на западном фронте. Ашер внезапно подумал: «Человечество предается мечтам. А какой-то части человечества даже выгодно, чтобы другая часть безмятежно предавалась мечтам, и она делает все, чтобы мечтатели не очнулись». В поезде Ашер впервые услышал, как один их местных жителей упомянул о бешенстве. Цайнер пояснил, что в двух соседних районах введен карантин. Надлежит отстреливать всех кошек, которые убегут со двора, и всех собак, которых спустят с поводка и за которыми не уследят хозяева. Да и лис требуют отстреливать, если попадутся.
— Да что там, вы биолог, и так все сами знаете, — сказал Цайнер.
А потом спросил, правда ли, что человека от бешенства не спасти, сразу каюк?
Ашер подтвердил. Тогда Цайнер полюбопытствовал, как происходит заражение. Ашер ответил, что инкубационный период длится от тридцати до пятидесяти дней. Первые симптомы заболевания у человека — беспокойство и лихорадка. Беспокойство постепенно перерастает в неконтролируемое возбуждение, сопровождающееся обильным слюноотделением и мучительными судорогами в мышцах глотки и гортани. Смерть наступает обычно спустя три-пять дней в результате удушья, истощения или судорог и общего паралича.
Ашер нашел дом Цайнера по объявлению в газете в разделе «Сдаю», так что Цайнер и Ашер уже несколько раз встречались. Однажды Ашер даже доехал на автобусе до Пёльфинг-Брунна, откуда Цайнер забрал его на машине.
Дом, где он теперь поселился, был невелик: кухня с маленькими окошками и выложенной кирпичом печкой, маленькая комнатка и чердак. С потолка свисала облупившаяся штукатурка. Ашер заплатил за год вперед и за две недели до поселения успел съездить к Цайнеру еще раз, специально чтобы все проверить.
3
Весь следующий день Ашер разбирал вещи и устраивался в доме. Внутренние рамы на чердаке, где он спал, еще не вставили, плита в кухне была выложена кирпичами неплотно и, когда он попытался развести огонь бумагой, нещадно задымила, щели между стенами и деревянными полами предстояло законопатить стекловатой от мышей. Из деревянного ящика он достал микроскоп, который упаковала жена, и гистологический атлас. Он открыл атлас и погрузился в созерцание ярких изображений: вот увеличенная в двести сорок раз клетка вентрального корешка спинного мозга теленка, окрашенная кислотным фуксином, — она представлялась Ашеру красным полипом со спутанными щупальцами в мутной красноватой жидкости. Вот, в шестидесятикратном увеличении, пигментный эпителий сетчатки лошадиного глаза, клетки которого, даже неокрашенные, имели теплый, под стать меду, желтоватый цвет и шестиугольной формой напоминали пчелиные соты. Вот клетки гладких мышц мочевого пузыря кролика, окрашенные хромотропом и гематоксилин-эозином, которые в трехсотвосьмидесятикратном увеличении казались Ашеру чередой зародышей мальков в алой воде. Вот полученный методом прижизненной инъекции препарат печени кролика, в котором вену, чтобы показать все русло сосуда, закрасили синим раствором желатина, отчего она превратилась во множество маленьких протоков, петляющих по рыже-бурой земле и, наконец, впадающих в реку, дельта которой испещрена бесчисленными островками. Вот импрегнированные азотнокислым серебром капилляры жёлчного протока — черные веточки, отчетливо виднеющиеся в ярко-желтом тумане. Вот окрашенный азокармином по Гейденгайну срез плоского эпителия, взятого с эпидермиса крыла носа человека, — ни дать ни взять тектонические слои вулкана, в самом верху пылающе-красные, ниже — розовые, а в самом низу — переходящие в голубоватую воду. Вот неокрашенный плоский эпителий перитональной оболочки кошки, — при увеличении в двести сорок раз он чрезвычайно напоминал сухой, ярко-желтый суглинок в каком-нибудь индийском штате, на который обрушились полчища саранчи, и он сплошь покрылся трещинами, словно глазурь на обожженном кувшине. Ашер медленно переворачивал страницы. Вот нервная клетка вентрального корешка спинного мозга собаки в трехсотвосьмидесятикратном увеличении — сине-красный бумажный змей в облачном небе, вырвавшийся из рук мальчишки и, точно чешую, сбрасывающий клочки бумаги. Вот нерв кошки, без окрашивания увеличенный в сто пятьдесят раз, — он напоминал Ашеру чахлую траву на изрыгающем пузыри болоте. Срез слизистой оболочки языка в шестидесятикратном увеличении представал в его воображении завязью экзотического растения, цветы которого казались языками пламени, над которыми плясали светло-голубые облачка дыма. Ему вспомнился переливающийся всеми цветами радуги мертвый фазан, которого он видел накануне и который теперь ассоциировался для него с иллюстрациями в атласе. Вот увеличенный неполный поперечный срез человеческой трахеи, похожий на фиолетовую радугу. Клетки почек оборачивались странными водяными зверьками с прозрачными тельцами. Одни изображения представали перед ним срезами ярких граненых минералов, другие — просвечивающими листьями или очертаниями континентов на географической карте. Увеличенный в сорок пять раз срез коры головного мозга своим яростным пурпуром напоминал взрывы на Солнце, тогда как срез мозжечка мнился глянцевитым, блестящим растением с прозрачно-белыми прожилками. Импрегнированные азотнокислым серебром дендриты при стапятидесятикратном увеличении виделись ему желтыми, окаменевшими стеблями ископаемого бамбука. А еще красные и белёсые ночные бабочки спинного мозга, продольный срез спинального ганглия собаки, — просто голова дикой утки, плещущейся в мутной воде, да и только. В контурах евстахиевой трубы он различал фрагмент арабской мозаики на полу мечети, в очертаниях клеток глаза — яркие, разноцветные сады, в абрисе нерва — желто-красный цветок, сплошь состоящий из мясистых перепонок. Ашер ощущал то же любопытство, что и четверть века тому назад, в студенческие годы, только иллюстрации воспринимал иначе. Тогда они казались ему одновременно непонятными и притягательными, теперь они были связаны, составляли бесконечную, неразрывную цепь образов, каждый из которых переходил в другой. В этих крошечных клетках и скоплениях клеток таились леса, озера, растения, горы и облака, камни и раковины, насекомые, ракообразные и рыбы, птицы и цветы. Он достал микроскоп, взял иглу, уколол палец и нанес каплю крови на стеклянную пластинку, одну из тех, что нашел в жестяном пенале. А еще в сундуке, дожидаясь своего часа, лежали препарационные иглы, стеклянные трубочки для размешивания жидкостей, бритва, которой он делал срезы, принадлежавшая еще его отцу, предметные стекла со шлифованными кромками, флакончики с раствором едкого кали для препарирования насекомых, глицериновый желатин, объективы в кожаном футляре, волосяные кисточки, пипетки, бритвенные лезвия, покровные и часовые стекла и различные красящие растворы. Некоторое время он разглядывал каплю своей крови в окуляр, потом выдернул вилку микроскопа. В желтой деревянной шкатулке, много лет почивавшей в ящике письменного стола, он нашел свой анатомический набор; распаковал и учебники, которые давно хотел перечитать. Однако пока он поставил их в среднее отделение кухонного буфета, под застекленную полку. Накануне он звонил жене и дочери из магазина, расположенного в четверти часа ходьбы по улице. (Это было большое, полупустое помещение, в котором на металлических полках громоздились продукты и школьные тетради, конфеты, сигареты, карманные фонарики, ножи, пластмассовые ведра, швабры и всякая всячина). В соседнем помещении за двумя широкими столами на скамьях вдоль стен местные крестьяне пили пиво. Когда Ашер проходил мимо них к телефону, они на минуту подняли головы от пивных кружек. Ему было приятно услышать голоса жены и дочери.
Часть вещей он снова запихнул в ящик, а потом перетащил его на чердак. Микроскоп поставил на подоконник, предметные стекла убрал в комод. Отнес в сени купленные в магазине резиновые сапоги и, вместе с пузырьками лекарств, флакончиками с дезинфекторами, перекисью водорода, одноразовыми шприцами, набором игл и коробками стеклянных ампул, убрал в шкаф. В доме не было водопровода, поэтому он вышел во двор помыть руки под колонкой и промочил ноги. Потом вернулся в дом и уселся на кухне.
К полудню приехал на мотоцикле Голобич, слез и прислонил его к стене свинарника. Аккуратно сгреб граблями паданцы с улицы. Ашер следил за ним в бинокль и заметил, что Голобич разговаривает сам с собой. На багажнике мотоцикла Ашер различил какой-то предмет и решил, что это ружье, укутанное мешковиной. Покончив с паданцами, Голобич взял мешок и направился в дом. В мешке и правда оказалось ружье «монтекристо», а в придачу Голобич дал ему коробку патронов, да еще предложил купить у него «вальтер». Ашер захотел сначала опробовать оружие и патроны, но Голобич отсоветовал: мол, сосед Туррахер еще поднимет шум.
С тех пор как он попросил Цайнера продать ему оружие, Ашера терзали сомнения, стоило ли это делать. Однако, как только Голобич положил оружие и патроны на кухонную скамейку, ему сразу стало спокойнее.
— Ружьецо бьет — заглядение, — продолжал Голобич, — только целик чуть-чуть над мушкой приподнимайте, — и за сто шагов можно человека убить. Это я так, к слову пришлось, — добавил он.
Ему не терпелось заключить с Ашером выгодную сделку.
— Ну, что, взять ружье в овраг? — спросил он. — Там на пробу и постреляете, и из ружья, и из «вальтера», а если выберете что, тогда и цену обговорим.
Ашер не возражал.
— Наденьте-ка вы лучше сапоги. Мне еще надо спустить рыбный пруд, а то все дно заилилось да закисло.
Его заботливость тронула Ашера. Он не стал спорить и надел зеленые резиновые сапоги на шнурках. Как хорошо, что можно хоть с кем-то поговорить.
Голобич смотрел, как он зашнуровывает сапоги.
— За магазином одна вдова живет с сыновьями и с теткой. Если хотите, можете у нее столоваться.
Он сунул ружье и пистолет в мешок, и Ашер подумал: бывают мгновения, когда вроде бы ничего не происходит, а ты точно знаешь, что запомнишь их навсегда, на всю жизнь. Он замешкался в сенях, а Голобич, темным силуэтом выделяясь в дверном проеме, вышел во двор, держа в руках мешок с оружием. Вот и он сам, Ашер, однажды выходил так из здания суда, когда завершилось слушание дела. Из зала появилась его мать и растерянно спросила, что же теперь будет, и Ашеру вдруг стало ее жалко. В тот день она надела туфли без каблуков, словно от стыда хотела сделаться меньше ростом и смешаться с толпой. У выхода она случайно столкнулась с какой-то дальней родственницей и попрощалась с ней. Ашер солгал, что спешит. День тогда был солнечный… Вот и сейчас им овладело то же чувство, что и тогда, по окончании слушания. И сейчас поля и холмы вокруг освещало солнце. В такие мгновения жизнь казалась ему исполненной потаенной гармонии, доброй и прекрасной. Поэтому, садясь позади Голобича на мотоцикл, он на какую-то долю секунды испытал необъяснимый страх: а что если они разобьются?
Они свернули с проезжей дороги и, подскакивая на рытвинах и ухабах, покатили мимо заброшенной крестьянской фермы. Стены жилого дома и хозяйственных построек облупились, расшатанные ставни криво свисали в петлях, кирпичи были красно-коричневые, «как та капля крови под микроскопом», вспомнилось Ашеру. Вместо крыши торчали обломанные балки стропил. Там и сям в стенах зияли дыры, — кто-то уже успел растащить кирпичи.
— Вчера под Ляйбнитцем застрелили бешеного хорька, — прокричал Голобич. — Скоро бешенство и до нас доберется.
Лощина, по которой они сейчас ехали, была сплошь усыпана яблоками. Они завернули за деревянный забор и остановились во дворе перед домом. Всех строений во дворе и было, что одноэтажный деревянный дом с черепичной крышей, на коричневой двери красовалась оставшаяся от последнего Крещения надпись «К + М + В 78». Еще не до конца осознав, что это за надпись, Ашер почувствовал, будто волхвы хранят и его тоже. У стены перед домом валялся всякий хлам: испорченный комод, разбитые горшки, стул без спинки, — весь этот мусор так побурел от непогоды, что по цвету уже не отличался от стен дома. На плетях виноградной лозы, буйно разросшейся на передней стене, висели синие ягоды. Пока Голобич ставил мотоцикл в сарай, Ашер попробовал виноград. Мякоть оказалась сладкой и ароматной, но кожура настолько жесткой, что ягоду пришлось выплюнуть. Во дворе возвышалась целая гора тыкв. Беззубая крестьянка, высокая и стройная, в узорчатом платке на пышных седых волосах, выпрямилась и посмотрела на него. Голобич объяснил ей, кто такой Ашер, и она заторопилась было в дом, «чтобы приодеться», как она выразилась. За тыквенной горой виднелся деревянный свинарник с откидными дверцами, которые открывали, когда кормили свиней. На склоне холма примостилась маленькая пристройка с давильным прессом и погребом, напротив на гумне теснились брошенные тележки, старая мебель, отслужившие свое матрацы, инструменты и утварь. Голобич сказал ей, что они сию минуту идут в овраг, а значит, и прихорашиваться ни к чему. Ашер пожал ее холодную руку. Она что-то произнесла, но он почти ничего не понял. Она явно пошутила, потому что засмеялась, широко разинув рот, словно разверзлась черная дыра. Во дворе кудахтали куры. Из дома доносился собачий лай. Возле дома лежал дохлый крот с розовыми лапками. Крестьянка подняла его, завернув в лист бумаги, и кинула в мусорную кучу. Ашер долго смотрел, как она тяпкой разрубает тыкву за тыквой, поставив их меж босых ступней, потом, сидя на бочке и зажав половинку тыквы между колен, руками выскребает из нее семена и бросает мякоть в зеленую металлическую миску. Семена она потом выкладывала на оберточную бумагу и пристраивала под скатом крыши, чтобы они сушились на солнце. Из сушеных семян выжимали масло. Выдолбленные корки крестьянка мелко крошила и бросала свиньям, а потому не торопилась управиться со всеми тыквами сразу: куда ж ей такая пропасть-то, свиньям столько не съесть. Потом, в овраге, Голобич пояснил ему, что тыквенные корки скармливают свиньям многие крестьяне, но есть и те, кто их оставляет на полях как удобрение. Ашеру показалось, будто он перенесся лет на сто в прошлое. Вот так же он стоял и сотню лет тому назад, вот так же крестьянка чистила тыкву.
Его охватило странное чувство, словно он окаменелость, ископаемая улитка. Вот в доме снова залаяла собака. Мысленно он стал перечислять геохронологические эры. Сколько же ненужного вздора скопилось у него в памяти! И все-таки он наслаждался, созерцая игру своего воображения и ощущая, как слово или мысль, точно начертанная в воздухе надпись, предстают перед его внутреннем взором, как одно воспоминание влечет за собой другое, словно металлические стружки, одна за другой притягивающиеся к магниту. Голобич одолжил у кого-то грабли и косу и вместе с Ашером спустился к пруду. Сначала он скосил высокую траву у стока, чтобы на следующий день, когда из пруда уйдет вся вода, пересадить туда рыбу. Трава у пруда совсем засохла, выгорела на солнце до серебристого и золотистого оттенка и стояла высокая — все лето ее не косили. Вокруг пруда буйно разрослись камыш, рогоз и частуха, черная, непрозрачная вода отливала зеленью. Если долго вглядываться, можно было заметить, как плавают лягушки и жабы, ныряют юркие жуки-водолюбы и время от времени всплескивает рыбка. При каждом шаге сухая трава шуршала под ногами. Покачиваясь на узенькой доске, Голобич осторожно наклонился к стоку и попробовал вытащить деревянную затычку, подцепляя ее граблями, надетыми на деревянный шест. Однако затычка застряла так плотно, что Голобич, пытаясь ее вытащить, сломал шест, и грабли канули в темную воду. Ашер не отходил от мешка с оружием и наблюдал за Голобичем. Он по-прежнему не мог отделаться от ощущения, что он — живое ископаемое. Много лет тому назад он видел в Чехословакии образец горной породы с отпечатком болотного кипариса — taxodium dubium. В ту пору ему бы и в голову не пришло, что он когда-нибудь сам покажется себе такой окаменелостью. Отпечатки листьев ископаемого дуба и древовидных папоротников ему тоже приходилось видеть. Он наклонился за ружьем, вынул из коробки один патрон для «монтекристо», вставил его в патронник, взвел курок и прицелился в дерево. Выстрел прозвучал глухо; Голобич, который разделся до трусов и майки и примеривался, как бы войти в воду, повернул голову и проследил глазами в том направлении, куда должна была улететь пуля.
— Не попали? — спросил он.
— Нет.
Голобич пожал плечами и полез в ледяную воду, поеживаясь от холода. Ашер зарядил ружье и стал ждать, пока на берег не выпрыгнет лягушка, в которую он мог бы прицелиться. Но тут же отогнал эту мысль. Он не имел права убивать, он, ископаемый рак, придавленный бременем своей истории, то есть тектоническими слоями воспоминаний. Свое прошлое он оставил где-то далеко-далеко. Здесь, в глуши, на берегу маленького пруда, все было не важно. Голобич, который улегся на решетку стока и шуровал обломанным шестом в воде, молча свесился по грудь в пруд и, изогнувшись, принялся с усилием выдергивать пробку. Над водой с жужжанием промелькнула большая стрекоза, где-то защелкал черный дрозд, и в то же мгновение, когда он наконец выдернул ослабевшую затычку, едва не опрокинувшись на спину, со дна пруда с шумом хлынул и устремился в сторону леса поток бурой, грязной воды. Голобич поспешно выбрался на берег. В одной руке он сжимал обломанные грабли, в другой — большую деревянную пробку со стальным кольцом. От налипшей земли и влаги пробка позеленела, если местами не почернела, кольцо заржавело. Голобич уложил под перемычку на дно голый, без веток, тяжелый сук, а потом нарубил сосновых лап и воткнул их в землю перед стоком, чтобы они пропускали воду, но удерживали рыб.
Тут Ашер заметил, что к ним подходит молодой парень в шляпе, с сигаретой в зубах. Он молча встал рядом с Ашером и уставился в пруд. Голобич спросил у него, не хочет ли он пострелять, и тогда парень взял у Ашера ружье, зарядил его и поискал, во что бы пальнуть. Из древесной кроны выпорхнула стайка птиц. Парень тщательно прицелился, но, когда он выстрелил, ни одна птица не упала. Он положил ружье на джутовый мешок. «Без дроби в птиц разве попасть», — вынес он суждение. Он еще постоял немного, а потом направился к холму, за которым, как он сообщил, стоял его трактор. Голобич подождал, пока он не исчезнет из виду, потом оделся и показал Ашеру, как обращаться с пистолетом. Объяснять дважды ему не пришлось. Ашер на пробу пострелял по листьям, веткам и метелкам травы, после чего они по нескошенному лугу поднялись на холм. Голобич нес грабли и косу, Ашер — мешок с оружием. На лугу они нашли скорлупу фазаньего яйца. Лучи света, пробиваясь сквозь кроны деревьев, чертили на земле причудливые узоры.
Когда они вернулись на ферму, во дворе никого не было. Голобич прислонил косу и грабли к колонке. На стрехе Ашер заметил поблескивающую паутину и с удивлением ощутил, как далеко ушла от него вся его прежняя жизнь.
Критика