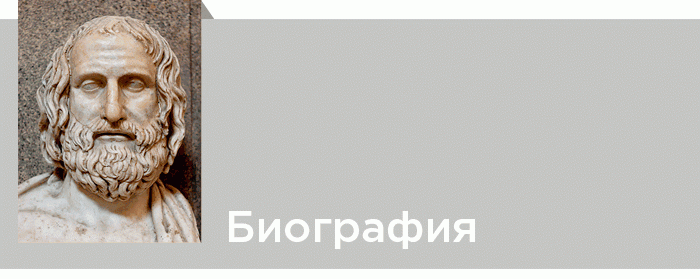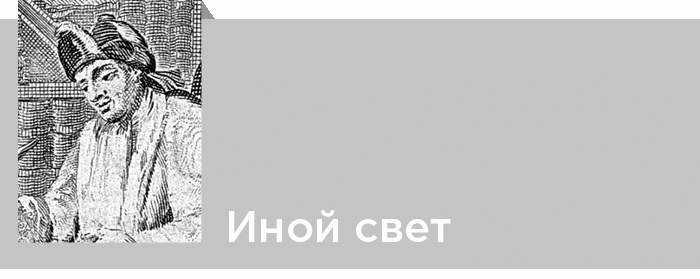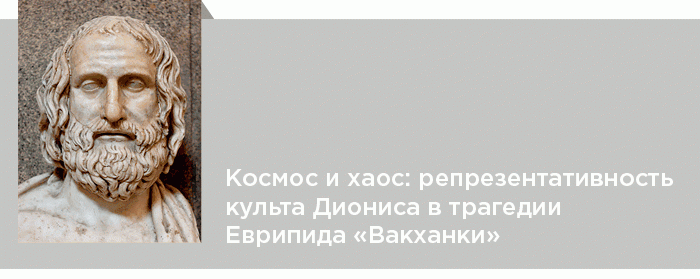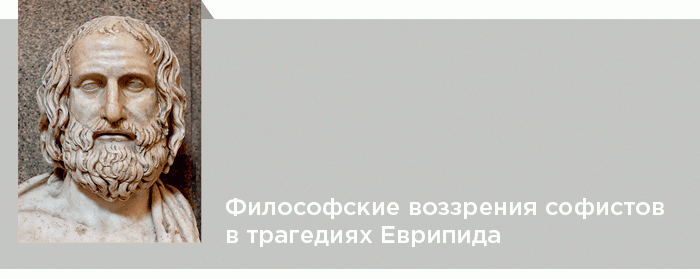Перевоспитание дочери, жены и матери в трагедии Еврипида «Медея»
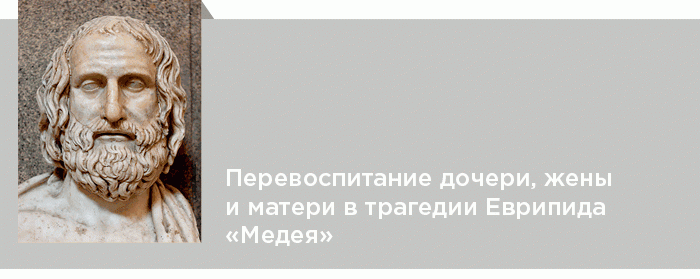
В. К. Пичугина
Волгоградский государственный социально- педагогический университет
VICTORIA PICHUGINA
Volgograd State Socio-Pedagocical University
RE-EDUCATING OF A DAUGHTER, WIFE AND MOTHER IN EURIPIDES’ MEDEA
ABSTRACT. By comparison of separate dialogues in the Medea we isolate passages where Euripides inform us about contemporary educational reality. In his Medea, Euripides presents the hierarchy of virtues, which has to be accepted by any ‘educated’ person. Having changed the mythological plot and highlighted these changes by a number of innovative artistic touches, Euripides shows process and result of re-education of Medea-daughter, Medea-wife and Medea-mother who seeks to make understand others and bring herself to reason, being placed in the circumstances which force her to divide between the «one’s own» and the «others».
KEYWORDS: re-education, the hierarchy of virtues in old Greek drama.
* Работа над статьей поддержана грантом РГНФ 14-06-00315а.
«Медея» – особая трагедия Еврипида. Бесславность поставки в 431 г. до н. э. с лихвой окупилась той славой, которая сопровождает «Медею» через века. Секретов очарования «Медеи» много, но один из главных заключен в противоречивой привлекательности главной героини, которая страдает и приносит страдания. Ранимая и жестокая, искренняя и коварная, жаждущая правды и виртуозно обманывающая Медея демонстрирует незаурядные интеллектуальные способности и уровень образования, которым могли позавидовать многие мужчины того времени. Вопрос о том, зачем Еврипид наделил ими женщину варварских кровей, никогда не найдет однозначного ответа, сколько бы его не ставили исследователи разных научных школ и направлений. Однако уже сама его формулировка предполагает выход за пределы понимания трагедии как манифеста, требующего от граждан изменения отношения к негражданам. Существует достаточно оснований рассматривать «Медею» как критический взгляд поэта на современную ему образовательную систему. Пространство театра было для древнегреческих драматургов образовательным пространством, где содержание трагедий позволяло зрителям извлекать уроки из военных конфликтов, расширять свои знания по географии и культуре других народов, быть в курсе последних веяний в литературе и искусстве. Для большинства простых горожан образование завершалось достаточно рано, и театр был для них местом, где можно было его продолжить в кругу сверстников и более старших политов. Однако «Медея» Еврипида ставит целью не столько повысить уровень образования граждан, сколько продемонстрировать им проблемы и ближайшие перспективы афинского образования. Драматурга интересуют особенности взаимоотношений в системе «наставник – ученик», которые возникают, когда бессмертный наставляет смертного или смертный наставляет смертного, будучи гражданином или негражданином.
Мифология, драматургия и педагогика «Медеи». Каждое обращение античных авторов к Медее и ее истории – это новая Медея и новая история. Медея у Пиндара, Аполлония Александрийского, Сенеки и Овидия очень разная, но позволяющая лучше понять Медею Еврипида. Авторские интерпретации одного и того же мифологического сюжета создают некую историческую лестницу «восхождения» к Медее, для которой «раньше» и «позже» достаточно относительны и иногда, парадоксальным образом, одновременны. Еврипид, в отличие от Пиндара и Аполлония Александрийского, не описывает перипетии экспедиции за золотым руном и не демонстрирует роль Медеи в ее успешности. Ему, напротив, интересно только то, что происходит после обретения золотого руна. Его повествование трагично именно совместной семейной жизнью Медеи и Ясона, а не обстоятельствами обретения друг друга. Эту же линию повторяет и Сенека, для которого «Медея» Еврипида была образцом и у которого встречаются текстуальные совпадения с ней. Однако от него, как и для Овидия, далеки древнегреческие реалии и Медея живет и действует не «здесь и сейчас», а «там и тогда».
Еврипид начинает трагедию рассказом кормилицы о прошлом Медеи и Ясона, цель которого напомнить зрителю основное содержание мифа о героическом плавании аргонавтов за золотым руном. Это напоминание выстроено особым образом: внезапно вспыхнувшая любовь между предводителем аргонавтов Ясоном и дочерью владеющего руном царя колхов Медеей, тяжкие преступления Медеи против родных во имя любви, побег в Коринф, завоевание расположение горожан, измена Ясона, горестные сожаления Медеи о покинутом доме и нарастающая ненависть к детям. Древнегреческая мифология не изобиловала описаниями деяний женщингероев. Но, когда таковые все же появлялись рядом с мужчинами и становились им близкими, их отношения никогда не были долгими и счастливыми. С одной стороны, существует пример с Тесеем, покинувшим Ариадну, несмотря на ее роль в его успехе и любовь, а с другой – уровень помощи и поддержки, которые оказала Медея Ясону не сравним с традиционным уровнем женщин-помощниц героев. Пиндар обходит стороной то, что Ясон отказался от Медеи, а Еврипид, напротив, акцентирует на этом внимание, превращая разрушение их отношений в отправную точку трагедии. Зритель сразу понимает, что трагизм в «Медее» достигается не только за счет основной сюжетной линии, но и за счет побочной. Это не просто трагедия обманутой жены. Это трагедия обладающей сверхъестественными способностями колхидской царевны, славное прошлое которой оказывается под угрозой бесславного будущего. Еврипид дает свою интерпретацию мифа об аргонавтах и вносит в него новые элементы: его Медея прочно связана с Коринфом, вмешивается в историю рождения Тесея, убивает своих детей и убегает в солнечной колеснице с их телами. Каждое из этих изменений, обрамленное целым рядом художественных приемов, дает особую педагогическую линию (я подробно остановлюсь на каждой из них ниже), которые в таком количестве не сопровождают историю о Медее ни до, ни после Еврипида.
В «Медее» Еврипида зафиксированы представления о современной драматургу педагогической реальности, которая существует в виде педагогических явлений, событий, процессов, феноменов и имеет характерные способы восприятия, описания и конструирования и в которой сосуществуют «свои» и «чужие». Парадоксальным является то, что героями трагедий Еврипида выступали боги, правители, герои, мужчины-граждане и неграждане (женщины, дети, рабы, чужеземцы), но только в «Медее» главная героиня являет собой удивительный синтез всех этих категорий горожан, права и обязанности которых в городе и семье существенно отличаются. Медея внучка Гелиоса и имеет божественное происхождение, дочь царя колхов и наделена сверхъестественными способностями, полноправная участница славной экспедиции аргонавтов за золотым руном и герой для эллинов, прекрасная женщина-варварка с мужским характером и ребенок в душе. Еврипид строит трагедию таким образом, что все герои центрированы на Медее, которая старается выступать наставницей для них и самой себя.
Волшебное знание, которым располагает Медея, изображено Еврипидом как не всегда легкая ноша для его носителя. У главной героини есть интересный опыт его использования как на благо, так и во вред: на благо чужому городу и во вред родному, на благо образовавшейся семьи с Ясоном и во вред семьи, во главе которой стоит отец Медеи. Соблазн использовать волшебное знание не на благо, а для мщения оказывается для колхидской царевны сильнее мудрости. В таком развороте сюжетной линии видится проблема, поставленная Цицероном много лет спустя, когда он образно представляет мудрость как фонарь, освещающий для образованного человека те сферы, в которых он предоставлен самому себе, свободен в выборе решения и может даже пойти на преступление, зная, что наказание не последует. Таким своеобразным образом Цицерон обозначает область, где бездействует власть, но действует воспитание (DL 1.14.41, Off. 32.118). Медея Еврипида оказывается под этим своеобразным фонарем задолго до римских реалий, в которых Цицерон призывает всех жить в городе «по праву и закону». Праведная месть для греков и для римлян была отнюдь не одним и тем же, что и нашло отражение в «Медеи», написанной Сенекой. Еврипиду важно не столько то, кто прав, а кто виноват, сколько особое понимание героиней правоты и виновности (своей и чужой).
Оппозиция «свои – чужие» у Еврипида сильнее, чем у других драматургов. Его повышенное внимание к чужим среди эллинов (и особенно умным и независимым женщинам, оказавшимся в дали от дома) не могло нравиться зрителям-афинянам, часто лишавшим Еврипида первого места в театральных агонах. Еврипид обозначает местом действия Коринф, с которым у Афин накануне Пелопоннесской войны нарастает напряжение, дополнительно акцентируя, что его главная героиня продемонстрирует достаточно непростой взгляд со стороны. В логике Еврипида, Медея совершила достаточно деяний, чтобы стать «своей среди чужих» и рассуждать о «своих» и «чужих» в современном ей образовании, центром которого являются Афины при взгляде именно из Коринфа, известного своими вольнодумцами.[1]
Медея-Аспазия и Медея-Геракл: «свои» и «чужие» между πόλις и οἶκος. Учитывая то, что «Медея» была поставлена, когда рядом с афинским лидером Периклом находилась образованная чужачка и гетера Аспазия, трагедия Еврипида обретает особое звучание. Драматург ставит вопрос о нормальности положения женщины в греческом обществе и достаточности того образования, которое она получает. Этот вопрос продолжает оставаться одним из главных и в трагедии Еврипида «Ипполит», где главный герой обличает женщин гинекея, косвенно утверждая, что показная скромность и покорность результат их отлучения от образования (Hipp. 615–667). Он называет их куклами с «фальшивым блеском» и утверждает, что мужчинам остается только мечтать, чтобы им досталось «ничтожное творенье, чтоб ни злого, ни доброго придумать не могла» (Hipp. 616, 631, 638–639; пер. И. Анненского). Если же женщина от природы хоть немного умна, то управлять собой она не в состоянии и дом с ней (и даже город) не будет жить спокойно. Медея Еврипида именно такая, она примеряет на себя множество нестандартных ролей: жестокой матери, мстящей жены, расчетливой убийцы. И все же Медея – это не среднестатистическая и отлученная от образования женщина гинекея и даже не выделяющаяся на их фоне Аспазия. Еврипид помещает Медею в Коринф и подчеркивает ее особую связь с городом, в котором, согласно мифу, она предъявила свои права на трон как единственная оставшаяся в живых из детей Эета. По общеизвестному мифу, горожане признали Ясона царем и, благодаря Медее, он царствовал в Коринфе десять лет. Еврипид не сообщает об этом, но дает понять, что Коринф не просто принял изгнанную Медею, а признал ее героическое прошлое и дал ей особый статус в полисе. Искусно пользуясь положением, которое было у Медеи-дочери на родине, Медея-жена и Медея-мать удивительным образом упрочила свои позиции, находясь в изгнании.
Не всегда легко понять, что в данный момент движет Медеей, но ее решительность и ум не могут не удивлять. Равно как и то, как и в каких обстоятельствах зрителю демонстрируется такая главная героиня. Еврипид не начинает действие в центре полисной власти во дворце Креонта (там Медея окажется потом). Трагедия начинается перед домом Медеи и Ясона, где существуют свои властные отношения. Медея не сразу, но покидает дом и выходит в город на суд коринфских женщин со словами: «О дочери Коринфа, если к вам / И вышла я, так потому, что ваших / Упреков не хочу» (Med. 210212; здесь и далее пер. И. Анненского). Зрители Еврипида могли уловить в этом противостоянии едва заметный намек на суд над Аспазией, который состоялся за год до постановки «Медеи». По афинскому законодательству Аспазия не могла защищать себя на суде, в ее защиту выступил Перикл, разжалобивший судей. Медея же очень эмоционально защищает себя сама, утверждая, что у мужчины-мужа есть все – и город, и дом – а удел женщиныжены лишь платить за мужей и очень недешево. Последнее замечание главной героини Еврипида особенно остро, если учесть, что суд против Аспазии был, по сути, судом против Перикла, который пошел против города, взяв в дом уроженку Милета. Хотя в Медее течет варварская кровь, она, как и Аспазия, демонстрирует «потрясающую, если не демоническую пластичность» – она рассуждает и ведет себя как мог бы это делать греческий аристократ V в. до н. э. (Lloyd 2006, 115).
Медея вызывает у хора коринфских женщин одновременно симпатию и страх, поскольку взывает к справедливости, намеренно покинув ойкос и смело шагнув в полис. Она демонстрирует чисто мужское умение держать речь перед аудиторией в пространстве города – умение, которое приобретается годами и является индикатором уровня образования мужчины. Во времена Еврипида именно этому умению настойчиво предлагают обучить любого желающего софисты. Медея предстает как «продукт» иной, не софистической педагогики, поскольку демонстрирует полису иной тип мудрости. Ее речь, обращенная к Коринфу, является первым отражением позиции Еврипида по отношению к наставникам-софистам и их ученикам – позиции, которая еще несколько раз будет обозначена в трагедии. На этот вопрос о том, что же Еврипид считает альтернативой софистике, если не разделяет взглядов представителей этого педагогического движения, отчасти отвечает И. Анненский. Он указывает на аналогию между «Медеей» и рассказом Плутарха о наставнике Еврипида Анаксагоре, обладающем тайным знанием и живущем в чужих для него Афинах: «Вообще сквозь горечь гонимой Медеи нам чудится привкус чего-то не только глубоко продуманного, но и пережитого. Впервые появившись на сцене, Медея жалуется коринфским гражданам на то, что ее любовь к уединению и независимости возбудила против нее подозрение толпы» (Анненский 2007, 25). Если согласиться с И. Анненским, то Еврипид, раскрывая тему «своих» и «чужих», включает в трагедию небольшой фрагмент описания своего пути ученичества и опыта общения с Анаксагором – изгнанным из Афин уроженцем Клазомен. Медее еще только предстоит испытание изгнанием из античного города, который, согласно Симониду Кеосскому, «учит человека». И Еврипид как будто репетирует это изгнание, заставляя героиню шагнуть за пределы пространства дома и напоследок немного попоучать горожан.
A. Тесситоре видит эту сложную проблематизацию пространства в особом свете и утверждает, что Еврипид начинает трагедию с «разжигания костров героической добродетели»: сочувствуя Медее, на которую нападают жители Коринфа, афиняне тоже не хотят терпеть бесчестие от ее врагов. Еврипиду удалось уловить эти настроения в Афинах накануне войны и показать горожанам «потенциально разрушительную силу этих настроений» (Tessitore 1991, 596). В таком понимании не столько Медея является разрушительницей Коринфа, сколько сами жители города своим отношением к ней и ситуации, в которой они вместе с ней оказались, разрушают его. В самом начале Пелопонесской войны Еврипиду удается предугадать ее итог: целенаправленное культивирование в афинянах «героической добродетели» (A. Тесситоре называет это «spiritedness» – мужественность, граничащая с одержимостью), как покажет время, приведет Афины к упадку. Медея Еврипида, оказавшись между полисом и ойкосом, запускает некие «чисто женские» механизмы их разрушения, которые не в силах остановить мужчины. При этом снова всплывает аналогия с Аспазией, которую Аристофан в «Ахарнянах» весьма своеобразным образом обвинял в разжигании Пелопонесской войны. По его мнению, «дела домашние» и похищение мегарцами служанок Аспазии стали причиной «распри междуэллинской» и большой проблемы для города (Ach. 520-530; пер. А. Пиотровского). «Ахарняне» были поставлены через шесть лет после «Медеи», что вполне позволяет увидеть аналогию между разожженными Медеей и Аспазией кострами «героической добродетели».
Полубожественная Медея у Еврипида наделена человеческими чертами, которые все же нельзя в полной мере назвать женскими, поскольку аналогии между бессмертными и смертными для древнего грека затруднительны. Находясь между полисом и ойкосом, она плачет, жалуется, гневается, требует, спорит, просит и карает, но не демонстрирует всей полноты своих волшебных способностей. Еврипид как будто забывает о происхождении Медеи, отказываясь от «канонической генеалогии», сформированной Гесиодом, который назвал ее внучкой бога Гелиоса, и Диодором, который сделал Медею сестрой мстительной колдуньи Кирке и дочерью, умеющей пользоваться ядовитыми травами богини Гекаты (Graf 1997, 31). Только испробовав все доступные смертным пути и способы выхода из сложившейся ситуации, Медея начинает действовать как бессмертная. Преуменьшение Еврипидом сверхъестественных способностей Медеи не дает возможность однозначно ответить на вопрос о том, могла или не могла такая героиня, хотя бы отчасти, выступать образцом для смертных женщин того времени. Бросив вызов гендерным и социальным нормам, Медея Еврипида все же достигает своей цели с помощью способностей из арсенала Кирки и Гекаты и улетает на колеснице бога Солнца, чтобы избежать расплаты за содеянное. Если предположить, что Медея особым образом борется за расширение прав женщин, открыто демонстрируя своим (домашним) и чужим (горожанам) решительность в решениях и действиях, то эту битву она проигрывает. Такая образованная женщина не нужна полису и события, развернувшиеся в Коринфе, однозначно показывают это. Еврипид представляет Медею женщиной, героическое прошлое которой задает особый ритм для ее внутреннего маятника «полис – ойкос». Для древнего грека правильная организация полиса начиналась с правильного построения ойкосов – домохозяйств, совокупность которых и образовывала полис. Эта «правильность» достигалась плавным перетеканием пространства города, в котором горожанин получал наставления, в пространство дома, где он выступает наставником для жены, детей и рабов. Возможно, Еврипиду важно показать, что современные ему полисы не такие уж и правильные, если не готовы быть совокупностью ойкосов, в которых есть женщины-Медеи. И это и есть его понимание необходимости перемен в положении женщины, которая способна разрушить ойкос и полис, хотя и имеет в них больше обязанностей, чем прав.
Если «Медея» и являет собой борьбу полов, то эта борьба у Еврипида приобретает педагогическое измерение. Драматург дает понять, что миф о Медее в том числе может быть понят как миф о перевоспитании Медеидочери, Медеи-жены и Медеи-матери, которая находится между полисом (своим и чужим) и ойкосом (своим и чужим). На первый взгляд, линия Медеи-дочери является самой слабой в трагедии: Еврипид не вспоминает прошлую семью Медеи во главе с ее отцом Эетом – это потребовало бы ее соотнесения с родным городом, для которого она была не героем, а преступницей. Драматург опускает важную часть мифа о Медее, который требует описания ее родных, мучительного процесса отказа от них и убийства брата. Его интересует не процесс, а результат перевоспитания колхидской царевны, которая находится в статусе признанного героя. Пиндар же, напротив, интересуется именно процессом и говорит о «птице безумия», посланной с Олимпа, «чтобы отнялась у Медеи дочерняя любовь», «по желанной Элладе охватил ее жар» и ею с Ясоном был дан обет «слиться в сладком единении брака» (Pyth. 4.218–223; здесь и далее пер. Л. М. Гаспарова). Согласно мифу, у Медеи почитание отца сменяется почитанием будущего мужа не без божественного вмешательства. Пиндар целенаправленно акцентирует на этом внимание: Гера – одна из влиятельнейших богинь греческого пантеона – помогает перевоспитать варварку в интересах Эллады. Методом этого перевоспитания Медеи-дочери является введение в заблуждение, а результатом – неестественное желание пойти против отца. Еврипид начинает трагедию много позже этих событий, демонстрируя зрителю только перевоспитание Медеи-жены и Медеи-матери, как будто соглашаясь со своим современником Геродотом в оценке похищения Медеи-дочери: «…мудрым является тот, кто не заботится о похищенных женщинах. Ясно ведь, что женщин не похитили бы, если бы те сами того не хотели» (Herod. 1.4; пер. Г. А. Стратановского). Это утверждение позволяет дать однозначную оценку всем преступлениям-похищениям с такой точки зрения: они инициируются женщинами и являются проверкой на мудрость для главы семьи. В греческом мире легитимность во всех сферах начинается с согласия отца, все остальное настолько нелегитимно, что даже не стоит об этом заботиться. Возможно, именно поэтому зрители Еврипида не видят похищения Медеи и все, что было с ним связано, но знают об этом в интерпретации Пиндара. И эта интерпретация, судя по всему, близка Еврипиду, поскольку кормилица в самом начале пьесы говорит о том, что ничего бы не случилось, если бы не любовь, заставившая Медею отправиться вслед за Ясоном. Эта фраза кормилицы включена в достаточно скупое и нейтральное повествование о жизни Медеи до Коринфа. Даже упоминание о том, что она в свое время «научала» «нежных Пелиад» убить их отца выглядит как снятие с нее ответственности за преступление (Tessitore 1991, 589): доверчивые дочери Пелия во всем виноваты сами. Напомнив об убийстве Пелия – событии, когда введенные Медеей в заблуждение дочери идут против главы семьи – Еврипид тонко намекает на то, что когда-то в таком же положении была и сама Медея, но не вдается в детали. Тем самым на первый план им выдвинут вопрос о том, что есть семейная добродетель для обычных граждан и героев, к которым граждане Коринфа безоговорочно причислили Медею-жену и Медею-мать.
Будучи мастером театрального диалога, Еврипид включает в трагедию диалоги Медеи с Креонтом и Ясоном, где герои то обмениваются короткими содержательными репликами, то позволяют себе длинные монологичные рассуждения. Эти взаимосвязанные диалоги являются столкновением разных представлений о семейной добродетели, на которые, с точки зрения Еврипида, не самым лучшим образом влияют странствующие учителя – софисты. В первом диалоге царь, защищая свою семью, оказывается в плену софистических речей Медеи, а во втором – в аналогичный плен попадает сама Медея, вступая в спор с Ясоном. Показательно, что Еврипид помещает диалог с Креонтом перед диалогом с Ясоном, как будто давая Медее возможность в некотором смысле снова стать Медеей-дочерью, не просто получив наставления от годящегося ей в отцы Креонта, а Креонта-царя, который имел тот же статус, что и отец Медеи. Именно поэтому Креонт говорит с Медеей, то отстраняясь от ее семейных проблем и выступая наставником всех граждан города, то по-отечески вникая в них и становясь ее личным наставником. Медея пытается доказать, что Креонт боится ее мудрости – той самой отличной от других софии – и это недоразумение создает отчуждение (Lloyd 2006, 127). Напомнив о Пелии и его дочерях и введя в трагедию линию Креонта и его дочери, желающей построить семью с Ясоном, Еврипид дает особое педагогическое видение проблемы отцов и детей через призму мудрости.
В долгом споре с Креонтом Медея пытается объяснить ему, что не будет мстить его дочери и изменнику-Ясону. Креонт попадает в ее софистическую сеть, где идет жонглирование понятиями и правда с ложью меняются местами. Царь колеблется, указывая на слухи, которые ходят по городу о Медее. Она с грустью сообщает – это все потому, что горожане считают ее слишком умной, и неожиданно разражается обличительной речью против софистов и их учения: «Если смыслом / Кто одарен, софистов из детей / Готовить он не будет. Он не даст / Их укорять согражданам за праздность...» (Med. 293–296). В этой долгой речи Медея утверждает, что ее преследует ненависть толпы, потому что эта толпа состоит из учеников софистов, которых новым способом учат быть мудрыми. Для таких людей, говорит Медея, любой по-настоящему умный будет считаться опасным тунеядцем. Понимая, что Креонта не переубедить, и она рано или поздно будет изгнана из города, Медея вступает в диалог с Ясоном. Их диалог начинается с того, что Ясон называет справедливой ценой утрату города и дома за гордыню жены и ее неповиновение воле царей. Вопрос об изгнании Медеи представлен им как уже решенный и необходимо лишь убедить ее в правильности этого решения. Это убеждение выстроено таким образом, что Ясон предстает учеником софистов, педагогические идеалы которых не принимаются Медеей. На нее не действуют его речи, в которых за красотой слога спрятан обман. Медея своеобразно реагирует на реплики Ясона, убеждающего жену в правильности его измены софистическим способом. Мудрая Медея иногда не находит слов, чтобы остановить это увещевание о том, как всем, и ей в том числе, будет хорошо, если Ясон бросит ее и их детей и женится на дочери царя. Завершая убеждать жену в том, что ей следует считать «за благо», Ясон произносит фразу: «Кто не рожден оратором, тому / Теперь беда» (Med. 522–523).
Медея убеждает Ясона не делать изгнанниками ее детей: «Из города сама хочу уйти; / Но сыновей ты в дом к себе возьми / И воспитай» (Med. 940– 941). На чужбине дети лишатся гражданских прав, а значит и права на образование. Медея просит софиста-Ясона не лишать их этого, даже понимая, что он, скорее всего, даст им такое же образование, какое получил сам. Позиция Ясона по «детскому вопросу» очень прагматична. Обосновывая свой уход из семьи, Ясон говорит Медее, что ему в принципе достаточно и тех детей, которых она родила ему, но он не против и детей от нового брака. Они помогут ему и старшим братьям занять лучшее место в жизни: «Твоих же я хотел достойно рода / Поднять детей, на счастие себе, / Чрез братьев их, которые родятся. / Зачем тебе еще детей? А мне / Они нужны для пользы настоящих» (Med. 562–566). Еврипид демонстрирует софистику в действии: собственное образование и образование своих детей Ясон сводит к успешности и безбедному существованию. То, что Медея не разделяет его суждений, Ясон списывает на ревность и недальновидность. Ответ Медеи снова демонстрирует отношение Еврипида к софисту-Ясону: «Но есть изъян и в мудрости, увы!..» (Med. 583). Ни о какой домашней педагогике в традиционном ее понимании не может быть и речи: Медея сама может наставлять Ясона, но она хочет не сохранить, а разрушить их дом, а затем и город. Еврипид в данном отрывке не останавливается подробно на педагогических талантах и провидческом даре Медеи, но дает понять, что она способна убеждать, побуждать и переубеждать. Пиндар же не обходит вниманием то, как аргонавты слушали порицательные речи этой особой «дельфийской пчелы»: «Недвижно и молча / Цепенели герои, равные богам, / Внимая сгусткам ее мудрости» (Pyth. 4. 57-58). Очевидно, что постоянно рвущемуся к власти Ясону очень трудно делать это в городе, будучи главой ойкоса с такой женой как Медея. Еврипид акцентирует внимание на этой очевидности, тонко ставя вопрос – имеет ли Ясон право поучать Медею? – и пытается ответить на него, показывая как каждый из них разжигает свой костер «героической добродетели».
Значительную часть диалога Медеи и Ясона занимает описание их общего героического прошлого, смешанного с потоком взаимных обвинений. Еврипид расставляет особые акценты, связанные с мужественностью Медеи и женскостью Ясона, демонстрируя то, что экспедиция за золотым руном в версии Медеи существенно отличается от версии Ясона. Он пытается наставлять жену, напоминая ей о ее варварском происхождении: «Вопервых, ты в Элладе / И больше не меж варваров, закон / Узнала ты и правду вместо силы, / Которая царит у вас. Твое / Здесь эллины искусство оценили, / И ты имеешь славу, а живи / Ты там, на грани мира, о тебе бы / И не узнал никто» (Med. 534–541). Ясон дословно говорит: «Ἕλληνες σοφὴν καὶ δόξαν ἔσχες…», подразумевая, что большего счастья для варварки, чем признание греками ее мастерства или даже (практической) мудрости (σοφία) и славы (δόξα), быть не может (Med. 539–540). И слава, как утверждает Ясон, пришла к ней только благодаря ему и его деяниям. Вмешательство Медеи в его экспедицию за золотым руном произошло с его согласия, все ее деяния были от его имени, а значит и ее слава не так уж велика. Продолжая свою мысль, Ясон утверждает, что богатство и талант (даже, например, такой прекрасный голос как у Орфея) ничто, по сравнению с широким общественным признанием какого-то достижения. Для него важнее прочное положение в глазах других, пусть и чужих людей, чем в глазах своих близких, просто потому, что первых больше. Ясон упоминает Орфея, также участвовавшего в походе аргонавтов за золотым руном, чтобы подчеркнуть, что его талантами, равно как и магией Медеи, греков не удивить. В речи Ясона просматривается намек на то, что наличие сверхъестественных способностей у варваров еще не гарантирует такого купания в лучах славы, которые довелось познать ему. Отчасти он позиционирует себя как мудрого предводителя аргонавтов, сумевшего грамотно наставить свою команду, в том числе Орфея и Медею, и добиться успеха. М. Р. Меззаботта считает, что иронию Ясона по поводу Орфея можно понимать не только как желание Еврипида продемонстрировать специфичность оценки, которую дает ученик софистов любым достижениям, приносящим славу (Mezzabotta 1994, 47–48). Возможно, Еврипид иронизирует и над самим Ясоном, который в споре с обманутой женой совершенно неуместно рассуждает об Орфее, известном как искренний и любящий супруг. Остается загадкой, на что именно хотел указать зрителям/читателям Еврипид: на поверхностность знаний Ясона или на его самолюбие, затмевающее разум. М. Р. Меззаботта утверждает, что миф об Орфее, который не побоялся спуститься в Аид за умершей женой, был хорошо известен аудитории Еврипида. Скрытое напоминание о супружеской жизни Орфея и Эвридики задает «тон» диалогу Ясона и Медеи, имеющих разное представление о супружеской добродетели. Они оба понимают, что в свое время Ясон, подобно Орфею, увел Медею из дома, заворожив не кифарой, а своими речами. Однако не сдержал обещаний в вечной любви, и Медеяжена оказалась далеко не такой счастливой как Эвридика. Структура трагедии такова, что Медея дает оценку диалогу с Ясоном и всей их совместной жизни не сразу, а после ряда событий. Еврипид дает зрителю возможность сопоставить разные точки зрения перед тем как Медея произнесет: «О, зачем / Я верила обманам, покидая / Отцовский дом, и эллину себя / Уговорить позволила?» (Med. 299–302). Эта фраза вновь позволяет увидеть Медею-дочь, которая возлагает вину за свое вынужденное перевоспитание на софиста-Ясона. То, что было ранее простроено зрителем на уровне аналогий, теперь вложено в уста самой героини, определившей методом перевоспитания – введение в заблуждение, а его результатом – неестественное желание пойти против отца.
Трагедия в доме Ясона во многом стала следствием желания Медеи взять на себя роль мужчины – гражданина, главы семьи и воина, способного защищать свою часть с мечом в руках и имеющего в этом деле достаточный опыт. Зрители Еврипида, возможно, еще помнили, что вопрос, кто является героем – Медея или Ясон – был поставлен еще Пиндаром. В «Пифийские песнях» он демонстрирует, что героическая добродетель Ясона была основана на женской поддержке.[2] Подробно описав «властительницу колхов» Медею, Пиндар дал понять, что Ясон мог добиться ее любви только чудом. Без коварного вмешательства богини Геры, враждовавшей с дедом Медеи Гелиосом, такой союз просто был бы невозможен. Ее божественное происхождение, положение, красота, мудрость, пророческий дар и магические способности уж слишком ярко контрастируют с талантами Ясона, который хоть и смел, но беден и вынужден скитаться, правдами и неправдами стараясь добиться власти. Ясон не совсем вписывается в греческие каноны героизма и мало сопоставим с Гераклом или Персеем, поскольку они демонстрировали кровавую, а он хитрую силу. Пиндар дает понять, что только будучи наставленным Медеей, он «вытрудил, мощный, отмеренный урок» (Pyth. 4.236–237) и сумел добыть золотое руно, удивив сына Солнца. Еврипид развивает эту мысль, демонстрируя, что мудрость Ясона – это мудрость Медеи, и пока она была на его стороне это не было так сильно заметно окружающим. Медея пытается вести себя как герой не только в статусе дочери, но и в статусе жены и матери.
Чтобы окончательно закрепить полное соответствие Медеи греческим канонам героизма, Еврипид меняет миф, и Медея убивает своих детей. Традиция детоубийства восходит к богам и героям, и это деяние Медеи в трагедии Еврипида не «выход за пределы смертных стандартов поведения» (Mackay 2011, 33), а обозначение для нее иных пределов. Медея полностью уподобляется Гераклу, который убил своих детей в безумном приступе, также возникшем по воле богини Геры. Только приступ Медеи был длительнее по времени, и ослеплена она была безумной любовью к Ясону. Причислением Медеи к величайшим греческим героям Еврипид объяснил ее боязнь остаться в памяти потомков обесчещенной и жаждущей кровавой расправы с врагами.
Педагогический подтекст этого причисления становится очевидным, если оставить за скобками моральную тяжесть родительского преступления Геракла и Медеи по отношению к собственным детям и определить содеянное просто как насилие. Б. М. Роджерс, поднимая проблему насилия по отношению к учителям или ученикам, анализирует краснофигурную вазу 480 г. до н. э., где молодой Геракл убивает своего учителя Лина стулом (Rogers 2005, 55–56). Эта ваза, по мнению Б. М. Роджерса, интересна тем, что такое отношение ученика к учителю не было нормой в классической Греции. Смертные воспринимали деяния богов и героев как особые, выходящие за рамки нормы. Им можно было удивляться, но не копировать. Демонстрируя зрителю Медею, которую в Коринфе приняли как героя, Еврипид превращает этот город в пространство, где ей разрешено жить по своим законам и не быть ограниченной в мыслях и поступках. Когда Медея чинит домашнее насилие, почти неважно, что она девушка от шестнадцати до двадцати лет (Race 2008, 275), поскольку пол и возраст для героев, как и для богов, не так уж сильно определяли их жизненный путь. Еврипид представляет Медеюмать, копирующую линию поведения Геракла, снова обращаясь к теме «свой – чужой».
Медея-Прометей и Медея-Клеопатра: «свои» и «чужие» между µελέτη и ὕβρις. Линия «своих детей» у Еврипида является достаточно традиционной. В древнегреческих трагедиях наличие богатого дома и здоровых детей всегда служило проверкой для человека. Рано или поздно перед ним вставал нравственный выбор, от которого зависела сохранность этой «полной чаши». Ясон впал в искушение построить новую семью с дочерью коринфского царя и иметь детей-внуков царя, забыв о том, что все это у него уже есть. Его отказ от дочери царя Колхиды в пользу дочери царя Коринфа и есть тот самый нравственный выбор, который делает глава семьи. Обманутая Медея не находит более страшного наказания для мужа, чем убить их общих детей и его новую возлюбленную, лишив его надежды на продолжение рода. Еврипид умышленно меняет миф, который положен в основу «Медеи», чтобы показать: социальная смерть для Ясона оказалась страшнее, чем реальная смерть. Версий о том, как именно дети Медеи были убиты в Коринфе, так же много, как и версий о том, какова роль жителей этого города в появлении в трагедии Еврипида именно «коринфской истории» с такой версией убийства (см., напр., Johnston 1997, 44–70; Graf 1997, 34–63). Не останавливаясь на этом подробно, подчеркну лишь, что Еврипид не один, а два раза меняет миф относительно «детского вопроса». В тени изменения мифа относительно детей Медеи находится изменение мифа о Тесее, на которое Еврипид идет, чтобы показать, что Медея-мать к своим и реальным детям относится не так трепетно, как к чужим и потенциальным.
Забота о необходимости оставаться верными тому пути, который был проложен предками, всегда была связана с опасностью максимальной степени озабоченности чем-либо или кем-либо (в т. ч. и самим собой), т. е. тем самым вредом, который мог быть причинен себе, своей семье и детям. Для античных мыслителей понятие «забота» (ἐπιµέλεια, µελέτη и др.) несло позитивный посыл и позволяло выстраивать траекторию развития человека с позиции «не навреди себе и другим». Максимальная степень озабоченности чем-либо или кем-либо (в т. ч. и самим собой), т. е. тот самый вред, который мог быть причинен самому себе, был связан с понятием «ὕβρις», которое в древнегреческом тезаурусе означало свойство характера, близкое по сути к дерзости, гордыне, высокомерию, избыточному самолюбию, одержимости страстями или желаниями (Шевцов 2014). В «Медее» Еврипида достаточно четко просматривается соотнесение этих понятий, которые не так часто употребляются, но контекстуально проявляются, когда герои стремятся образумить других и образумиться сами.
После диалогов Медеи с Креонтом и Ясоном, Еврипид включает в трагедию диалог Медеи-матери с Эгеем, предлагая зрителю новую версию рождения его сына Тесея. Одержимый желанием скорее обзавестись детьми, афинский царь внимает словам варварки, которая замышляет убийство своих детей. Это оказание помощи взамен на покровительство выглядит столь своеобразно, что трудно понять, как два впавших в гюбрис человека могут заботиться друг о друге. Не употребляя слов «µελέτη» и «ὕβρις», Еврипид демонстрирует, каким образом варварка и афинский царь находят точки соприкосновения, пытаясь опереться на свой и чужой опыт.
В этом диалоге ярко проявляется то, что колхидская царевна обладает провидческим даром. Во многих древнегреческих трагедиях появляются провидцы, от которых добивались знания о будущем и которые выступали наставниками для всех внимавших их речам. Чаще всего ими выступали смертные, вмешивающиеся в непростые отношения героев с богами. В двух трагедиях Эсхила эту роль взяли на себя не совсем обычные герои: в «Агамемноне» пророчествует и наставляет смертная варварка и дочь троянского царя Кассандра, а в «Прометее прикованном» – бессмертный титан Прометей. Художественным изобретением Еврипида стало не только объединение в «Медее» провидца, наставника, варвара, царского и божественного потомка в один женский персонаж, но и превращение этого персонажа в главный. Возможность такого превращения была открыта Еврипиду Пиндаром, который много раньше написал о Медее как о бессмертной и видящей будущее женщине: «Сбылось вещанье, / Которое выдохнула из несмертных уст / Мощная духом Медея, / Дочь Эета, властительница колхов» (Pyth. 4. 9–11). В отличие от Пиндара, который постоянно подчеркивает ее провидческий дар, Еврипид косвенно указывает на него всего два раза. В середине трагедии в диалоге с Эгеем Медея ведет себя подобно Кассандре, перемежавшей наставления с откровениями и жалобами, а в конце трагедии в диалоге с Ясоном – подобно Прометею, боровшемуся за справедливость и поучающему с опорой на знание о будущем.
Эгей жалуется Медее на бездетность, находит сочувствие и просит у «дельфийской пчелы» помочь расшифровать пророчество о возможности стать отцом. Эгей не понимает того, что очевидно зрителям Еврипида: пророчество означает, что он не должен вступать в связи с женщинами пока не вернется в Афины. В этом эпизоде Медея, помещенная Еврипидом в Коринф, становится для афинского царя некой заботливой Пифией: она не расшифровывает уже данное ему пророчество, а дает ему новое через двусмысленные ответы вопрошающему. Медея не делится с Эгеем знаниями о будущем, потому что оно ему не понравится. Она формирует для него некое новое будущее, очень осторожно заменяя данное ему ранее пророчество на новое, свое. Внутри Медеи идет напряженная работа по замене своего будущего на новое, без Ясона и детей. Еврипид демонстрирует афинскому зрителю пророчицу, слова которой доносятся из Коринфа и меняют судьбу Афин. Накануне Пелопоннесской войны такой ракурс выглядит как наставление, данное Еврипидом родному городу в том, что многое можно изменить, если прислушаться к другим, позаботиться о себе и не впадать в «ὕβρις».
Медея-дочь наставляет на немедленное возвращение в отчий дом, и Эгей отказывается от похода в Трезен к царю Питфею. Он окрылен ее заверениями в его скором отцовстве, и обещает поддержку, выслушав жалобы на неверность Ясона и рассказ о бедственном семейном положении. Согласно Еврипиду, вскоре после этого разговора в Афинах у него родится сын от законной супруги без всякого вмешательства в это бога Посейдона, который, согласно мифу, тоже мог быть отцом Тесея. Такой ход событий не может не радовать Медею-жену, но все, что описывает Еврипид, противоречит сообщению Плутарха о рождении Тесея вне брака. «Мифическая аномалия» (Kovacs 2008, 298), когда афинский царь Эгей идет за разъяснениями относительно пророчества не в Трезен к Питфею, а в Коринф к Медее, возникает в трагедии Еврипида не случайно. Переживания о бездетности Эгея, поведанные им Медее, помогают ей окончательно оформить план мести Ясону и выбрать орудием детей. Еврипид продолжает демонстрировать зрителям / читателям особенности перевоспитания Медеи, в которой то борются, то уживаются дочь, мать и жена.
Диалог Медеи с Эгеем становится точкой невозврата. Постоянно сожалеющая об отказе от своей семьи, главная героиня определилась с приоритетами и решилась на убийство детей. Хор коринфских женщин, так горячо поддержавших Медею в начале трагедии, начинает активно протестовать против этого решения. Хор поет об Афинах – городе, где Медея хочет укрыться – как о «доме всех добродетелей» (Tessitore 1991, 591) и выражает сомнение, что ее там примут после содеянного. Главная героиня подавляет материнские чувства, поскольку этого требует поддержание ее чести. Коринф начинает изгонять Медею, сожалеть о том, что в свое время принял ее,[3] и сочувствовать Афинам, которым это еще предстоит. Партии хора, обрамляющие второй и лицемерный диалог Медеи и Ясона и контрастирующий с ним искренний диалог Медеи с воспитателем детей, наполнены тревогой и надеждой на возможность иного исхода.
После того как Медея заходит в дом с детьми, Еврипид включает в трагедию монологи Корифея и Вестника, рассуждающих о мудрости и образовании, отцах и детях, знании и незнании, счастье и несчастье. Эти монологи особым образом резюмируют ту проблематизацию пространства между полисом и ойкосом, которая началась, когда Медея вышла из дома к хору коринфских женщин. В начале трагедии шагнув из дома в полис, Медея не просто старалась преодолеть отчуждение и соответствовать существующим реалиям, но и проявить заботу о себе и других. Она обращает внимание на группу коринфских граждан «οἱ δ᾽ ἀφ᾽ ἡσύχου ποδὸς, чья непричастность интерпретируется как… равнодушие, апатия, лень» (Med. 217–218), но это упрек афинянам в «отсутствии заботы о делах полиса», в «безразличии к полисной общине, которое несло негативную политическую коннотацию в последней трети пятого века» (Lloyd 2006, 122). Все дальнейшие слова и поступки главной героини столь ярко контрастируют с беззаботной жизнью большинства граждан, что Коринф любезно отказывается от такой заботы о нем, и Медея принимает решение отправиться в Афины после реализации плана мести. Тема рождения и допустимой заботы, поднятая Корифеем, переходит в тему смерти и недопустимой заботы у Вестника, но оба они говорят о мудрости ойкосов, которые живут и чувствуют пристальное внимание к ним со стороны полиса. Эти два диалога представляют собой некое продолжение диалога Эгея и Медеи, где афинский царь был озабочен проблемой рождения, а Медея – проблемой убийства.
Корифей, подчеркивает, что ойкосы с детьми безусловно счастливы, но обременены заботой («µελέτη»), связанной с неопределенностью того, растят ли отцы «достойных людей иль негодных» (Med. 1099). Страшным горем является горе родителей от результатов неправильной стратегии воспитания ребенка (Med. 1100–1114), но еще страшнее горе от его утраты. Вестник рассказывает Медее о том, что такое горе постигло дом Креонта: за смертью дочери последовала смерть самого царя. В Медее, которая тоже дочь отца, знающего что такое терять своих детей, нет жалости и грусти, она торжествует как воин на поле битвы. Видя это, Вестник произносит: «Так они / Там и лежат – старик и дочь, – бездушны / И вместе... А о тебе что я скажу? Сама / Познаешь ты весь ужас дерзновенья...» (Med. 1219–1223). Он определяет эту трагедию как следствие гюбриса Медеи, но не употребляет понятия «ὕβρις» по отношению к ней. Традиционным для древнегреческой трагедии было то, что суровое наказание в виде прерывания родовых линий за гордость, глупость, жестокость или подлость – это удел смертных. Такое наказание никогда не было случайным, оно закономерно и даже предвосхищаемо теми, кто впал в «ὕβρις». Решившийся проявить высшую степень заботы о чем-либо (себе, доме, детях, богатстве и т. д.) неизбежно пострадает, поскольку только страдание способно его образумить.
Однако Еврипид дает понять, что это правило не совсем применимо к имеющей божественное происхождение Медее, соединяя в своей трагедии распространенную художественную линию потери детей с достаточно редкой линией детоубийства. Его «Медея» резко контрастирует, например, с поставленной ранее Эсхилом «Ниобой», где главной героиней является мать, потерявшая детей из-за того, что хвасталась их красотой и многочисленностью перед богиней Лето, родившей только двоих – Аполлона и Артемиду. В отличие от пассивной Ниобы, которая приняла кару богов, Медея берет на себя их функции и сама карает Креонта и Ясона, отнимая у них детей. По сравнению с Медеей, которая сыпет проклятиями, говоря о доме и детях, преступление молчаливой Ниобы кажется несущественным, если не знать, что первая бессмертна, а вторая смертна.[4]
Вестник выражает позицию смертных, считая Медею впавшей в «ὕβρις» и виновной во всем. Сама же главная героиня считает, что в «ὕβρις» впали все остальные и ее миссия образумить их, проявив некоторую особую заботу о себе и своей семье. Готовясь к убийству детей, Медея в трагедии у Сенеки говорит фразу, которая не могла бы быть произнесена Медеей у Еврипида: «…такое этот день свершит, / Что все века запомнят. На богов пойду, / Низвергну все!» (Med. 423–425; пер. С. Ошерова). Медея у Еврипида не выше богов как Ниоба, а на стороне богов. Если Креонт и Ясон не захотели жить с Медеей, то они будут жить Медею помня. Деля на «своих» и «чужих», Медея в трагедии Еврипида наказывает всех, кто считает главной заботой («µελέτη») не заботу о детях, а заботу об упрочении своего статуса через них.
Еврипид в очередной раз осторожно вводит в трагедию военную нотку, демонстрируя, что между Коринфом и Афинами происходит причинение боли невинным из-за желания взыскать с виновных. И оценка этого деяния не так однозначна как может показаться. Хор старается донести до зрителя мысль о том, что героическое прошлое обеспечивает Медее божественное покровительство, но не снимает с нее осуждения со стороны смертных за убийство детей (Med. 1267–1270). «Крайняя одержимость» Медеи приводит к ужасающим последствиям, не только обнажая «поле боя в ее душе», но и придавая ей «авторитет среди самых славных греческих героев» (Tessitore 1991, 594–595). Трагедия Еврипида заканчивается тем, что Медея улетает из Коринфа в Афины в солнечной колеснице. Дед Медеи Гелиос спасает внучку от преследования, прощая и то зло, которое она причинила его сыну Эету, и даже убийство его правнуков. В этом прощении отражено греческое понимание героической добродетели, которая всегда выше семейной и любой иной добродетели: Гелиос признает, что слава Медеи намного больше славы его сына, и спасает внучку, которая отомстила человеку, угрожавшему запятнать ее честь, а значит честь всей семьи.
Интересным художественным приемом является то, что последняя встреча зрителя с Медей происходит там же, где и первая – перед домом Медеи и Ясона. Однако если в начале Медея делает решительный шаг из дома в пространство города, чтобы противостоять обвинениям граждан, то в конце Ясон должен сделать обратное. В последнем диалоге с женой Ясон называет Медею детоубийцей и произносит фразу: «За детские жизни казнит / Тебя Эриния кровавая и Правда!» (ἀλλά σ᾽ Ἐρινὺς ὀλέσειε τέκνων φονία τε ∆ίκη) (Med. 1389–1390). Здесь у Еврипид сопоставляет то, что у Гомера традиционно было разделено (Ярхо 1958, 32–33). Необходимость послушания (группа слов вокруг слова «δίκη») и возможность своеволия (вторая группа слов вокруг слова «ὕβρις») у Гомера существовали как две параллельные планеты, а у Еврипида взаимообусловлены. Ясон говорит Медее о том, что богиня мщения Эриния накажет ее за гордыню («ὕβρις»), потому что справедливость («δίκη») на его стороне. Медея отвечает мужу, что он клятвопреступник, а значит, боги его не услышат. Она ведет последний диалог с мужем из колесницы бога Солнца, что как нельзя лучше демонстрирует, на чьей стороне боги. Еврипид совершенно четко не считает Ясона и Коринф божественным наказанием для Медеи-матери и Медеи-жены за «ὕβρις» Медеи-дочери в прошлом, поскольку опускает ту часть мифа, которая могла бы дать возможность такой интерпретации. Его Медея живет, следуя за линиями божественных, а не людских мнений и решений.
Медея говорит Ясону: «В чертог воротись…» (στεῖχε πρὸς οἴκους) (Med. 1394). Через это демонстративное указание Медея-жена проявляет некую заботу о муже, которому после всего произошедшего лучше укрыться от города в ойкосе. Это не столько как «µελέτη» – забота-попечение о сохранении его жизни (одна из целого ряда забот о близких людях, к которым Медея уже не относит Ясона), сколько забота как «ἐπιµέλεια» – забота-наставление его в дальнейшей жизни (особая забота, которая предполагает действия с опорой на знание). То, что софист-Ясон рассматривал как справедливость и порядок (той самой «δίκη») оказалось иллюзией, и ему нужно позаботиться о том, чтобы спасти самого себя. Предлагая мужу шагнуть в дом, Медея намекает, что его удел теперь жить в совсем иной системе координат «полис-ойкос» и набираться мужества, чтобы шагнуть от незнания к знанию, но уже без нее и детей. В этом эпизоде Медея еще сильнее напоминает Прометея из трагедии Эсхила, который старательно объясняет, что дар предвидения дает право демонстрировать свою мудрость и становиться наставником для окружающих иногда против их воли.
Сильной женщине божественного происхождения, указывающей мужчине что делать и манипулирующая детьми во имя сохранения чести, еще только предстоит сойти со страниц «Медеи» Еврипида и появится на исторической арене как Клеопатра. Клеопатра отождествлялась с египетской богиней Исидой и, как и Медея, заявляла о божественном происхождении от бога солнца Гелиоса, имела царственное происхождение и была связана с мужчиной, который был многим ей обязан – Марком Антонием. «Римляне, которые долго и упорно всматривались в Клеопатру, никогда не видели в ней жену. Они увидели необычную и нескромную женщину…» (Tyldesley 2008, 170). Это настороженное отношение к образованной женщине с героическим прошлым, до которого далеко окружающим ее мужчинам, поразительно напоминает реакцию граждан Коринфа на Медею, которую Еврипид так старательно описал в своей трагедии. Клеопатра для римлян такая же чужачка, живущая за пределами их мира, но настойчиво вторгающаяся в него с целями, которые лежат между заботой и гюбрисом. В этом удивительном продолжении «коринфской истории» Клеопатра стала Медеей, вынужденной под влиянием римского Ясона делить на «своих» и «чужих». Доказывая свою способность стоять во главе государства, Марк Антоний старательно демонстрировал римлянам, что способен не просто триумфально вернуться в Рим в статусе его правителя, но и вернуться с покоренной им женщиной царских кровей.
Использование женщины как некой разменной политической валюты было свойственно восточным культурам и в особенности Египту. Неслучайно Пиндар в «Пифийских песнях» представил Медею не столько как греческую, сколько как египетскую женщину, которые славились владением магией с использованием трав и ядов. Описывая Медею как одну из тех самых сильных и «чернооких колхов» (Pyth. 4. 212), Пиндар напоминает «о египетском происхождении и огромной культурной разнице между людьми Медеи и людьми Ясона» (O'Higgins 1997, 118). Именно такую Медею воспринял и демонстрирует своему зрителю Еврипид, строя трагедию на противоречии между «своими» и «чужими». Парадоксальным образом через несколько столетий именно такую «Медею» воспринял и демонстрирует своему народу Марк Антоний, играя на том же самом противоречии, но стараясь не допустить трагедии. Нет оснований утверждать, но можно предполагать, что Клеопатра могла видеть трагедию Еврипида, поскольку Александрия того времени была центром греческого образования и культуры (Tyminski 2014, 35). Так или иначе, ей удалось проиграть на сцене жизни театральную постановку Еврипида, где рядом с мужчиной появляется образованная женщина, которая пришла издалека, помогала ему удерживать власть, а затем снова была вынуждена удалиться.
Подводя итог вышесказанному, отмечу, что в трагедии Еврипида «Медея» мифологический сюжет из героического прошлого превращается для зрителя / читателя в ключ к пониманию педагогического настоящего. Демонстрируя процесс и результат перевоспитания Медеи-дочери, Медеижены и Медеи-матери, Еврипид предлагает зрителю подумать в театре над тем, что такое мудрость и добродетель, осознанно заходя, тем самым, на педагогическую территорию. Затронутые в статье вопросы открывают широкие перспективы для дальнейшего исследовательского поиска, поскольку позволяют снять некоторые ограничения с нашего мышления относительно «Медеи» как источника. «Медея» у Еврипида является не только многое сказавшим историческим и художественным текстом, но и историкопедагогическим текстом, который еще очень многое способен сказать.
Библиография
- Graf, F. (1997) “Medea, the enchantress from afar remarks on a well-known myth,” Clauss J. J. and Johnston S. I., eds. Medea: Essays on Medea in Myth, Literature, Philosophy, and Art. Princeton, 21–43.
- Johnston, S. I. (1997) “Corinthian Medea and the cult of Hera Akraia,” Clauss J. J. and Johnston S. I., eds. Medea: Essays on Medea in Myth, Literature, Philosophy, and Art. Princeton, 44–70.
- Kovacs, D. (2008) “And Baby Makes Three: Aegeus’ Wife as Mother to Be of Theseus in Euripides’ Medea,” Classical Philology 103 (3), 298–304.
- Lloyd, Ch. (2006) “The Polis in Medea: Urban Attitudes and Euripides' Characterization in "Medea" 214-224,” The Classical World 99(2), 115–130.
- Mackay, M. A. (2011) Medeia: Maiden, Mother, Monster: a Biopoetic Analysis. Unpubl. Diss, the University of Otago.
- Mezzabotta, M. R. (1994) “Jason and Orpheus: Euripides Medea 543,” The American Journal of Philology 115(1), 47–50.
- O'Higgins, D. M. (1997) “Medea as muse: Pindar's Pythian,” Clauss J. J. and Johnston S. I., eds. Medea: Essays on Medea in Myth, Literature, Philosophy, and Art. Princeton, 103–126.
- Race, W. H., ed. (2008) Apollonius Rhodius. Argonautica. Cambridge.
- Rogers, B. M. (2005) Before Paideia: Representations of Education in Aeschylean Tragedy. Unpubl. Diss., Stanford University.
- Tessitore, A. (1991) “Euripides' "Medea" and the Problem of Spiritedness,” The Review of Politics 53(4), 587–601.
- Tyldesley, J. (2008) Cleopatra: Last Queen of Egypt. New York.
- Tyminski, R. (2014) “The Medea Complex – Myth and Modern Manifestation,” Jung Journal: Culture & Psyche 8(1), 28–40.
- Анненский, И. (2007) «Еврипид и его время», Гитин, В., сост. Театр Еврипида. Санкт-Петербург, 15–38.
- Анненский, И., пер., Гаспаров, М. Л., Ярхо, В. Н., сост. (1999) Еврипид. Трагедии. В 2-х тт. Москва.
- Гаспаров, М. Л, пер. (1980) Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты. Москва.
- Ошеров, С., пер. (1986) Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Трагедии. Москва.
- Пиотровский, А., пер., Ярхо, В. Н., сост. (2008) Аристофан. Комедии. Фрагменты. Москва.
- Стратановский, Г. А., пер. (2001) Геродот. История. Москва.
- Шевцов, С. П. (2014) «К вопросу о значении термина hybris в архаический период», ΣΧΟΛΗ (Schole) 8.2, 399–417. Ярхо, В. Н. (1958) Эсхил. Москва.
[1] Старший современник Еврипида Пиндар характеризует Коринф через три не очень славных вехи в истории города, связанных с деяниями живших в нем. Он упоминает хваткого «в уменьях» Сизифа, спасительницу аргонавтов Медею, выбравшую «брак вопреки отцу» и воинов, уроженцев Коринфа, храбро сражавшихся как на стороне греков, так и на стороне троянцев в одной и той же войне (Pind. Olymp. 13.50–60). Это упоминание о Медее очень в стиле Пиндара, умеющего дать короткую характеристику через сплав похвалы и порицания.
[2] В дальнейшем эту линию продолжает Сенека, изображающий Ясона в своей «Медее» беспомощным перед Креонтом и ищущим утешения у покинутой им же жены, и Овидий, включивший в «Героиды» письмо Ипсипилы Ясону как напоминание о поддержке, которую ему оказала царица Лемноса и все женщины этого острова.
[3] Сходная линия есть у Эсхила в «Просительницах», где Аргос поддерживает справедливое сопротивление Данаид насилию Египтиадов, потому что видит в этом проявление героической добродетели, пока они не начинают демонстрировать пренебрежение к браку в целом. Это нежелание создавать семью вменяется им в вину, и город начинает сомневаться в правильности решения о предоставлении им защиты.
[4] В этом неупотреблении слова «ὕβρις» по отношению к бессмертным Еврипид повторяет Эсхила, который в «Прометее прикованном» также избегает этой характеристики для титана. В трагедии Эсхила намечена тема заботы о себе через заботу о других с опорой на знание: решивший позаботится о людях Прометей, наказан Зевсом за эту дерзость изгнанием. Медея, как и Прометей, обладает провидческим даром, и находится под угрозой изгнания из полиса.