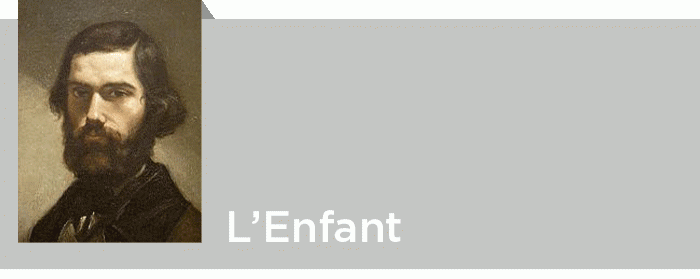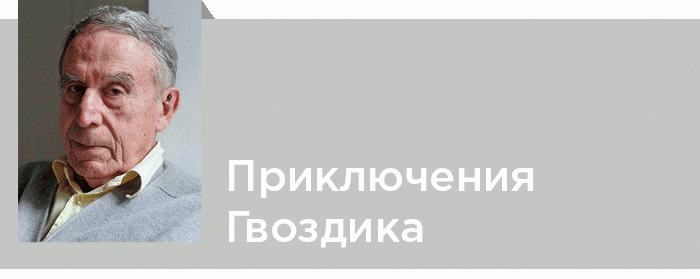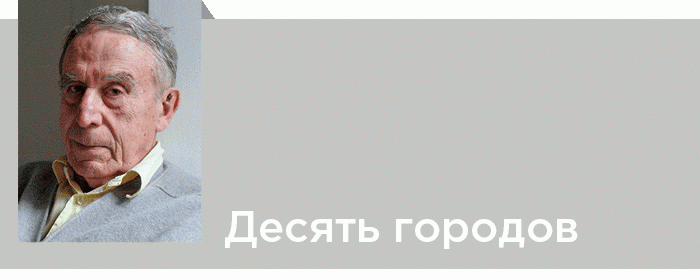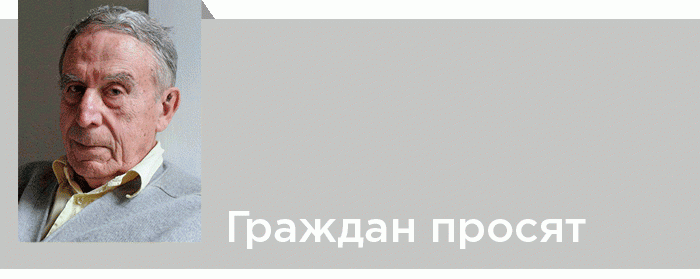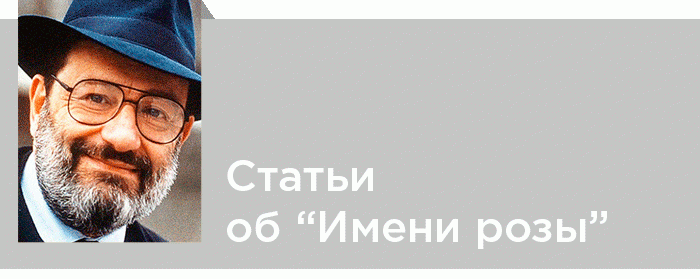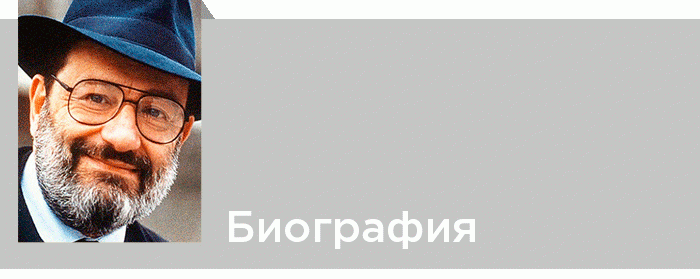Умберто Эко. Имя розы
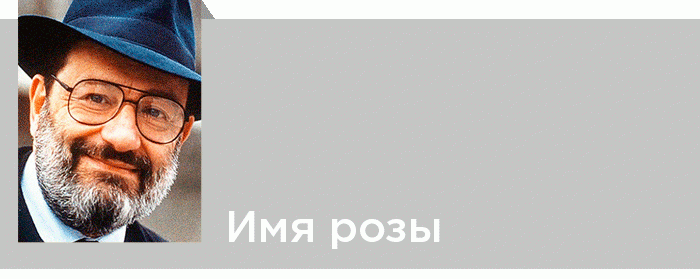
(Отрывок)
Разумеется, рукопись
16 августа 1968 года я приобрел книгу под названием «Записки отца Адсона из Мелька, переведенные на французский язык по изданию отца Ж. Мабийона» (Париж, типография Ласурсского аббатства, 1842). Автором перевода значился некий аббат Балле. В довольно бедном историческом комментарии сообщалось, что переводчик дословно следовал изданию рукописи XIV в., разысканной в библиотеке Мелькского монастыря знаменитым ученым семнадцатого столетия, столь много сделавшим для историографии ордена бенедиктинцев. Так найденный в Праге (выходит, уже в третий раз) раритет спас меня от тоски в чужой стране, где я дожидался той, кто была мне дорога. Через несколько дней бедный город был занят советскими войсками. Мне удалось в Линце пересечь австрийскую границу; оттуда я легко добрался до Вены, где, наконец, встретился с той женщиной, и вместе мы отправились в путешествие вверх по течению Дуная.
В состоянии нервного возбуждения я упивался ужасающей повестью Адсона и был до того захвачен, что сам не заметил, как начал переводить, заполняя замечательные большие тетради фирмы «Жозеф Жибер», в которых так приятно писать, если, конечно, перо достаточно мягкое. Тем временем мы оказались в окрестностях Мелька, где до сих пор на утесе над излучиной реки высится многократно перестраивавшийся Stift. Как читатель, вероятно, уже понял, никаких следов рукописи отца Адсона в монастырской библиотеке не обнаружилось.
Незадолго до Зальцбурга одной проклятой ночью в маленьком отеле на берегах Мондзее разрушился наш союз, прервалось путешествие, и моя спутница исчезла; с нею улетучилась и книга Балле, в чем безусловно не было злого умысла, а было лишь проявление сумасшедшей непредсказуемости нашего разрыва. Все, с чем я остался тогда, — стопка исписанных тетрадей и абсолютная пустота в душе.
Через несколько месяцев, в Париже, я вернулся к разысканиям. В моих выписках из французского оригинала, среди прочего, сохранилась и ссылка на первоисточник, удивительно точная и подробная:
Vetera analecta, sive collectio veterum aliquot operum & opusculorum omnis generis, carminum, epistolarum, diplomaton, epitaphiorum, &, cum itinere germanico, adnotationibus aliquot disquisitionibus R. P. D. Joannis Mabillon, Presbiteri ac Monachi Ord. Sancti Benedicti e Congregatione S. Mauri. — Nova Editio cui accessere Mabilonii vita & aliquot opuscula, scilicet Dissertatio de Pane Eucharistico, Azimo et Fermentatio, ad Eminentiss. Cardinalem Bona. Subjungitur opusculum Eldefonsi Hispaniensis Episcopi de eodem argumento Et Eusebii Romani ad Theophilum Gallum epistola, De cultu sanctorum ignotorum, Parisiis, apud Levesque, ad Pontem S. Michaelis, MDCCXXI, cum privilegio Regis.
Vetera Analecta я тут же заказал в библиотеке Сент-Женевьев, но, к моему величайшему удивлению, на титульном листе открылось по меньшей мере два расхождения с описанием Балле. Во-первых, иначе выглядело имя издателя: здесь — Montalant, ad Ripam P. P. Augustianorum (prope Pontem S. Michaelis). Во-вторых, дата издания здесь была проставлена на два года более поздняя. Излишне говорить, что в сборнике не оказалось ни записок Адсона Мелькского, ни каких-либо публикаций, где бы фигурировало имя Адсон. И вообще это издание, как нетрудно увидеть, состоит из материалов среднего или совсем небольшого объема, в то время как текст Балле занимает несколько сотен страниц. Я обращался к самым знаменитым медиевистам, в частности к Этьену Жильсону. чудесному, незабываемому ученому. Но все они утверждали, что единственное существующее издание Vetera Analecta — это то, которым я пользовался в Сент-Женевьев. Посетив Ласурсское аббатство, располагающееся в районе Пасси, и побеседовав со своим другом отцом Арне Лаанештедтом, я стопроцентно уверился, что никакой аббат Балле никогда не публиковал книг в типографии Ласурсского аббатства; похоже, что и типографии при Ласурсском аббатстве никогда не было. Неаккуратность французских ученых в отношении библиографических сносок общеизвестна. Но этот случай превосходил самые дурные ожидания. Становилось ясно, что в руках у меня побывала чистая фальшивка. Вдобавок и книга Балле теперь оказывалась вне досягаемости (в общем, я не видел способа получить ее обратно). Я располагал только собственными записями, внушавшими довольно мало доверия.
Бывают моменты крайне сильной физической утомленности, сочетающейся с двигательным перевозбуждением, когда нам являются призраки людей из прошлого («en me retraçant ces details, j’en suis á me demander s’ils sont réels, ou bien si je les al rêvés»). Позднее я узнал из превосходной работы аббата Бюкуа, что именно так являются призраки ненаписанных книг.
Если бы не новая случайность, я, несомненно, так и не сошел бы с мертвой точки. Но, слава богу, как-то в 1970-м году в Буэнос-Айресе, роясь на прилавке мелкого букиниста на улице Коррьентес, недалеко от самого знаменитого из всех Патио дель Танго, расположенных на этой необыкновенной улице, я наткнулся на испанский перевод брошюры Мило Темешвара «Об использовании зеркал в шахматах», на которую уже имел случай ссылаться (правда, из вторых рук) в своей книге «Апокалиптики и интегрированные», разбирая более позднюю книгу того же автора — «Продавцы Апокалипсиса». В данном случае это был перевод с утерянного оригинала, написанного по-грузински (первое издание — Тбилиси, 1934). И в этой брошюре я совершенно неожиданно обнаружил обширные выдержки из рукописи Адсона Мелькского, хотя должен отметить, что в качестве источника Темешвар указывал не аббата Балле и не отца Мабийона, а отца Атанасия Кирхера (какую именно его книгу — не уточнялось). Один ученый (не вижу необходимости приводить здесь его имя) давал мне голову на отсечение, что ни в каком своем труде (а содержание всех трудов Кирхера он цитировал на память) великий иезуит ни единого разу не упоминает Адсона Мелькского. Однако брошюру Темешвара я сам держал в руках и сам видел, что цитируемые там эпизоды текстуально совпадают с эпизодами повести, переведенной Балле (в частности, после сличения двух описаний лабиринта никаких сомнений остаться не может). Что бы ни писал впоследствии Беньямино Плачидо, аббат Балле существовал на свете — как, соответственно, и Адсон из Мелька.
Я задумался тогда, до чего же судьба записок Адсона созвучна характеру повествования; как много здесь непроясненных тайн, начиная от авторства и кончая местом действия; ведь Адсон с удивительным упрямством не указывает, где именно находилось описанное им аббатство, а разнородные рассыпанные в тексте приметы позволяют предполагать любую точку обширной области от Помпозы до Конка; вероятнее всего, это одна из возвышенностей Апеннинского хребта на границах Пьемонта, Лигурии и Франции (то есть где-то между Леричи и Турбией). Год и месяц, когда имели место описанные события, названы очень точно — конец ноября 1327; а вот дата написания остается неопределенной. Исходя из того, что автор в 1327 году был послушником, а во время, когда пишется книга, он уже близок к окончанию жизни, можно предположить, что работа над рукописью велась в последнее десяти— или двадцатилетие XIV века.
Не так уж много, надо признать, имелось аргументов в пользу опубликования этого моего итальянского перевода с довольно сомнительного французского текста, который в свою очередь должен являть собой переложение с латинского издания семнадцатого века, якобы воспроизводящего рукопись, созданную немецким монахом в конце четырнадцатого.
Как следовало решить вопрос стиля? Первоначальному соблазну стилизовать перевод под итальянский язык эпохи я не поддался: во-первых, Адсон писал не по-староитальянски, а по-латыни; во-вторых, чувствуется, что вся усвоенная им культура (то есть культура его аббатства) еще более архаична. Это складывавшаяся многими столетиями сумма знаний и стилистических навыков, воспринятых позднесредневековой латинской традицией. Адсон мыслит и выражается как монах, то есть в отрыве от развивающейся народной словесности, копируя стиль книг, собранных в описанной им библиотеке, опираясь на святоотеческие и схоластические образцы. Поэтому его повесть (не считая, разумеется, исторических реалий XIV века, которые, кстати говоря, Адсон приводит неуверенно и всегда понаслышке) по своему языку и набору цитат могла бы принадлежать и XII и XIII веку.
Кроме того, нет сомнений, что, создавая свой французский в неоготическом вкусе перевод, Балле довольно свободно обошелся с оригиналом — и не только в смысле стиля. К примеру, герои беседуют о траволечении, ссылаясь, по-видимому, на так называемую «Книгу тайн Альберта Великого», текст которой, как известно, на протяжении веков сильно трансформировался. Адсон может цитировать только списки, существовавшие в четырнадцатом столетии, а, между тем, некоторые выражения подозрительно совпадают с формулировками Парацельса или, скажем, с текстом того же Альбертова травника, но в значительно более позднем варианте, — в издании эпохи Тюдоров. С другой стороны, мне удалось выяснить, что в те годы, когда аббат Балле переписывал (так ли?) воспоминания Адсона, в Париже имели хождение изданные в XVIII в. «Большой» и «Малый» Альберы, уже с совершенно искаженным текстом. Однако не исключается ведь возможность наличия в списках, доступных Адсону и другим монахам, вариантов, не вошедших в окончательный корпус памятника, затерявшихся среди глосс, схолий и прочих приложений, но использованных последующими поколениями ученых.
Наконец, еще одна проблема: оставлять ли латинскими те фрагменты, которые аббат Балле не переводил на свой французский — возможно, рассчитывая сохранить аромат эпохи? Мне не было резона следовать за ним: только ради академической добросовестности, в данном случае, надо думать, неуместной. От явных банальностей я избавился, но кое-какие латинизмы все же оставил, и сейчас боюсь, что вышло как в самых дешевых романах, где, если герой француз, он обязан говорить «parbleu!» и «la femme, ah! la femme!».
В итоге, налицо полная непроясненность. Неизвестно даже, чем мотивирован мой собственный смелый шаг — призыв к читателю поверить в реальность записок Адсона Мелькского. Скорее всего, странности любви. А может быть, попытка избавиться от ряда навязчивых идей.
Переписывая повесть, я не имею в виду никаких современных аллюзий. В те годы, когда судьба подбросила мне книгу аббата Балле, бытовало убеждение, что писать можно только с прицелом на современность и с умыслом изменить мир. Прошло больше десяти лет, и все успокоились, признав за писателем право на чувство собственного достоинства и что писать можно из чистой любви к процессу. Это и позволяет мне рассказать совершенно свободно, просто ради удовольствия рассказывать, историю Адсона Мелькского, и ужасно приятно и утешительно думать, до чего она далека от сегодняшнего мира, откуда бдение разума, слава богу, выдворило всех чудовищ, которых некогда породил его сон. И до чего блистательно отсутствуют здесь любые отсылки к современности, любые наши сегодняшние тревоги и чаяния.
Это повесть о книгах, а не о злосчастной обыденности; прочитав ее, следует, наверное, повторить вслед за великим подражателем Кемпийцем: «Повсюду искал я покоя и в одном лишь месте обрел его — в углу, с книгою».
5 января 1980 г.
Примечание автора
Рукопись Адсона разбита на семь глав, по числу дней, а каждый день — на эпизоды, приуроченные к богослужениям. Подзаголовки от третьего лица с пересказом содержания глав скорее всего добавлены г-ном Балле. Однако для читателя они удобны, и, поскольку подобное оформление текста не расходится с италоязычной книжной традицией той эпохи, я счел возможным подзаголовки сохранить.
Принятая у Адсона разбивка дня по литургическим часам составила довольно существенное затруднение, во-первых, оттого, что она, как известно, варьируется в зависимости и от сезона, и от местоположения монастырей, а во-вторых, оттого, что не установлено, соблюдались ли в XIV веке предписания правила Св. Бенедикта точно так, как сейчас.
Тем не менее, стремясь помочь читателю, я отчасти вывел из текста, отчасти путем сличения правила Св. Бенедикта с расписанием служб, взятым из книги Эдуарда Шнайдера «Часы Бенедиктинцев», следующую таблицу соотношения канонических и астрономических часов:
Полунощница (Адсон употребляет и более архаичный термин Бдение) — от 2.30 до 3 часов ночи.
Хвалитны (старинное название — Утреня) — от 5 до 6 утра; должны кончаться, когда брезжит рассвет.
Час первый — около 7.30, незадолго до утренней зари.
Час третий — около 9 утра.
Час шестый — полдень (в монастырях, где монахи не заняты на полевых работах, зимой, это также час обеда).
Час девятый — от 2 до 3 часов дня.
Вечерня — около 4.30, перед закатом (по правилу, ужинать следует до наступления темноты).
Повечерие — около 6. Примерно в 7 монахи ложатся.
При расчете учитывалось, что в северной Италии в конце ноября солнце восходит около 7.30 и заходит примерно в 4.40 дня.
Пролог
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Вот что было в начале у Бога, дело же доброго инока денно и нощно твердить во смирении псалмопевческом о том таинственном непререкаемом явлении, чрез кое неизвратимая истина глаголет. Однако днесь ея зрим токмо per speculum et in aenigmate, и оная истина, прежде чем явить лице пред лице наше, проявляется в слабых чертах (увы! сколь неразличимых!) среди общего мирского блуда, и мы утруждаемся, распознавая ея вернейшие знаменования также и там, где они всего темнее и якобы пронизаны чуждою волею, всецело устремленною ко злу.
Близясь к закату греховного существования, в сединах одряхлевая, подобно этой земле, в ожидании, когда ввергнусь в бездну божественности, где одно молчание и пустыня и где сольешься с невозвратными лучами ангельского согласия, а дотоле обременяя тяжкой недужною плотию келью в любимой Мелькской обители, приуготовляюсь доверить пергаменам память о дивных и ужасающих делах, каковым выпало мне сопричаститься в зеленые лета. Повествую verbatim лишь о доподлинно виденном и слышанном, без упования проницать сокрытый смысл событий и дабы лишь сохранились для грядущих в мир (Божиею милостью, да не предупреждены будут Антихристом) те знаки знаков, над коими пусть творят молитву истолкования.
Сподобил меня Владыка небесный стать пристальным свидетелем дел, творившихся в аббатстве, коего имя ныне умолчим ради благости и милосердия, при скончании года Господня 1327, когда император Людовик в Италию готовился, согласно промыслу Всевышню, посрамлять подлого узурпатора, христопродавца и ересиарха, каковой в Авиньоне срамом покрыл святое имя апостола (сие о грешном душой Иакове Кагорском, ему же нечестивцы поклонялись как Иоанну XXII).
Дабы лучше уяснили, в каких делах я побывал, надо бы вспомнить, что творилось в начале века — и как я видел все это, живя тогда, и как вижу сейчас, умудрившись иными познаниями, — если, конечно, память справится с запутанными нитями из множества клубков.
В первые же годы века папа Климент V переместил апостольский престол в Авиньон, кинув Рим на грабеж местным государям; постепенно святейший в христианстве город стал как цирк или лупанарий; победители его разрывали; республикой именовался, но ею не был, преданный на поруганье, разбой и мародерство. Церковнослужители, неподсудные гражданской власти, командовали шайками бандитов, с мечом в руках бесчинствовали и нечестиво наживались. И что делать? Столица мира, естественно, стала желанной добычей для тех, кто готовился венчаться короною священной империи римской и возродить высшую мирскую державу, как было при цезарях.
На то и избрали в 1314 году пять немецких государей во Франкфурте Людовика Баварского верховным повелителем империи. Однако в тот же день на противном берегу Майна палатинский граф Рейнский и архиепископ города Кельна на то же правление избрали Фредерика Австрийского. На одну корону два императора и один папа на два престола — вот он, очаг злейшей в мире распри.
Через два года в Авиньоне был избран новый папа Иаков Кагорский, старик семидесяти двух годов, и нарекся Иоанном XXII, да не допустит небо, чтобы еще хоть один понтифик взял это мерзкое благим людям имя. Француз и подданный французского короля (а люди той зловредной земли всегда выгадывают для своих и неспособны понять, что мир — наше общее духовное отечество), он поддержал Филиппа Красивого против рыцарей-храмовников, обвиненных королем (полагаю, облыжно) в постыднейших грехах; все ради их сокровищ, кои папа-вероотступник с королем присвоили. Вмешался и Роберт Неаполитанский. Чтобы сохранить свое правление на итальянском полуострове, он уговорил папу не признавать ни одного из двоих немцев императором и сам остался главным военачальником церковного государства.
В 1322 году Людовик Баварский разбил своего соперника Фредерика. Испугавшись единственного отныне императора еще сильнее, чем боялся двух, Иоанн отлучил победителя, а оный в отместку объявил папу еретиком. Надо знать, что именно в тот год в Перудже собрался капитул братьев францисканцев, и их генерал Михаил Цезенский, склонив слух к требованиям «мужей духа» — «спиритуалов» (о последних еще расскажу), провозгласил, как истину веры, положение о бедности Христа, который со своими апостолами, если и владел чем-либо, то только usus facti. Достойнейшее утверждение, признанное оберечь добродетель и чистоту братства. Папа же был недоволен, вероятно почуяв угрозу своим притязаниям, ибо готовился, как единоличный глава церкви, воспретить империи избирать епископов, при этом сохранивши за собою прерогативу коронования императоров. Так или иначе, в 1323 году он восстал против доктрины францисканцев в своей декреталии Cum inter nonnullos.
Людовик, видимо, тогда же разглядел во францисканцах, отныне враждебных папе, мощных соратников. Провозглашая бедность Христа, они усиливали позиции имперских богословов — Марсилия Падуанского и Иоанна Яндунского. И за несколько месяцев до событий, кои будут описаны, Людовик, заключив с разбитым Фредериком союз, вступил в Италию, принял корону в Милане, подавил недовольство Висконти, обложил войском Пизу, назначил имперским наместником Каструччо, герцога Луккского и Пистойского (и напрасно, думаю, ибо не встречал более жестокого человека — кроме Угуччона из Фаджолы), и быстро пошел на Рим, куда призывал Шарра Колонна, господина той области.
Такова была пора, когда я, приняв послушание в бенедиктинской обители в Мельке, был взят из монастырской тишины волею отца, бившегося у Людовика в свите и не последнего меж его баронами, каковой рассудил везти меня с собою, дабы узнал чудеса Италии и в будущем наблюдал бы коронацию императора в Риме. Но как сели под Пизой, привело ему отдаться воинской заботе. Я же, оным побуждаясь, и от досуга и ради пользы новых зрелищ осматривал тосканские города. Однако, по мнению батюшки и матушки, житье без занятий и уроков не годствовало юноше, обещанному к созерцательному служению. Тогда-то, по совету полюбившего меня Марсилия, и был я приставлен к ученому францисканцу Вильгельму Баскервильскому, отправлявшемуся в посольство по славнейшим городам и крупнейшим в Италии аббатствам. Я сделался при нем писцом и учеником и никогда не пожалел, ибо лицезрел дела, достойные увековечения — ради чего и тружусь ныне — в памяти тех, кто придет за нами.
Я тогда не знал, чего ищет брат Вильгельм, по правде говоря — не знаю и сейчас. Допускаю, что и сам он не знал, а движим был единственной страстью — к истине, и страдал от единственного опасения — неотступного, как я видел, — что истина не то, чем кажется в данный миг. Впрочем, к главнейшим своим занятиям, развлеченный тяжкими заботами эпохи, он тогда не прикасался. Поручение его мне было неизвестно до конца путешествия, то есть Вильгельм о нем не говорил. Только слыша урывками его беседы с аббатами монастырей, я догадывался о роде его задач. Но подлинные цели мне открылись в конце путешествия, о чем скажу позже. Двигались мы на север, однако не прямым путем, а от монастыря к монастырю. Поэтому мы отклонились к западу (хотя цель лежала на востоке), а затем пошли вдоль гребня гор, тянущихся от Пизы до перевала Св. Иакова, покуда достигли земли, коей имя ныне, в преддверии рассказа о бывших там ужасах, воздержусь называть, но скажу все же, что тамошние правители были верны империи, и местные аббаты нашего ордена, объединившись, противились еретику и святокупцу папе. Всего пути вышло две недели, и с такими событиями, в которых я смог лучше узнать (хотя все же недостаточно) нового учителя.
Впредь не займу сии листы описанием внешности людей — кроме случаев, когда лицо, либо движение предстанут знаками немого, но красноречивого языка. Ибо, по Боэцию, всего мимолетней наружность. Она вянет и пропадает, как луговой цвет перед осенью, и стоит ли вспоминать, что его высокопреподобие аббат Аббон взором был суров и бледен ликом, когда и он и все с ним жившие — ныне прах, и праха цвета, смертного цвета их тела. (Только дух, волею Господней, сияет в вечно негасимом свете.) Вильгельма все же я опишу раз и навсегда, так как обычнейшие черты его облика мне казались дивно важными. Так всегда юноше, привязавшемуся к старшему и более умудренному мужчине, свойственно восхищаться не только умными его речами и остротой мысли, но и обликом, дорогим для нас, как облик отца. От него мы перенимаем и повадку, и походку, ловим его улыбку. Но никакое сладострастие не пятнает сию, возможно единственную чистую, разновидность плотской любви.
В мое время люди были красивы и рослы, а ныне они карлики, дети, и это одна из примет, что несчастный мир дряхлеет. Молодежь не смотрит на старших, наука в упадке, землю перевернули с ног на голову, слепцы ведут слепцов, толкая их в пропасть, птицы падают не взлетев, осел играет на лире, буйволы пляшут. Мария не хочет созерцательной жизни, Марфа не хочет жизни деятельной, Лия неплодна, Рахиль похотлива, Катон ходит в лупанарии, Лукреций обабился. Все сбились с пути истинного. И да вознесутся бессчетные Господу хвалы за то, что я успел восприять от учителя жажду знаний и понятие о прямом пути, которое всегда спасает, даже тогда, когда путь впереди извилист.
Видом брат Вильгельм мог запомниться самому рассеянному человеку. Ростом выше обыкновенного, он казался еще выше из-за худобы. Взгляд острый, проницательный. Тонкий, чуть крючковатый нос сообщал лицу настороженность, пропадавшую в моменты отупения, о коих скажу позже. Подбородок также выказывал сильную волю, хотя длиннота лица, усыпанного веснушками — их много у тех, кто рожден меж Гибернией и Нортумбрией, — могла означать и неуверенность в себе, застенчивость. Со временем я убедился: то, что казалось в нем нерешительностью, было любопытством и только любопытством. Однако сперва я не умел ценить этот дар, считая его проявлением душевной развращенности. Тогда как в разумную душу, думал я, любопытству нет доступа, и она питается лишь истиной, которая, как я был убежден, узнается с первого взгляда.
Меня, мальчишку, сразу поразили клочья желтоватых волос, торчавшие у него в ушах, и густые светлые брови. Он прожил весен пятьдесят и, значит, был очень стар. Однако телом не ведал устали, двигаясь с проворством, не всегда доступным и мне. В периоды оживления его бодрость поражала. Но временами в нем будто что-то ломалось, и вялый, в полной прострации, он лежнем лежал в келье, ничего не отвечая или отвечая односложно, не двигая ни единым мускулом лица. Взгляд делался бессмысленным, пустым, и можно было заподозрить, что он во власти дурманящего зелья, — когда бы сугубая воздержанность всей его жизни не ограждала от подобных подозрений. Все же не скрою, что в пути он искал на кромках лугов, на окраинах рощ какую-то траву (по-моему, всегда одну и ту же), рвал и сосредоточенно жевал. Брал и с собою, чтоб жевать в минуты высшего напряжения сил (немало их ждало нас в монастыре!). Я спросил его, что за трава, он засмеялся и ответил, что добрый христианин, бывает, учится и у неверных. Я хотел попробовать, но он не дал со словами, что как в речах к простецам различаются paidikoi, ephebikoi и gynaikoi, так и с травами: что здорово старику францисканцу, негоже юному бенедиктинцу.
Пока мы были вместе, суточный распорядок исполнять не удавалось. Даже в монастыре мы бдели ночью, а днем валились от усталости и к отправлениям службы Божией являлись нерегулярно. В дороге он все же после повечерия бодрствовал редко. В привычках был умерен. В монастыре днями пропадал на огороде, рассматривал травы, как рассматривают хризопразы и изумруды. А в крипте, в сокровищнице походя глянул на ларец, усыпанный изумрудами и хризопразами, как будто на дикую шалей-траву в поле. Целыми днями он листал рукописи в большом зале библиотеки — можно подумать, только для удовольствия (а кругом в это время все множились трупы зверски убитых монахов). Я застал его гуляющим в саду без всякой видимой цели, как если б он не был обязан отдавать отчет Господу во всех действиях. В братстве учили иначе расходовать время, о чем я ему и сказал. Он же отвечал, что краса космоса является не только в единстве разнообразия, но и в разнообразии единства. Сей ответ я принял за невежливый и полный эмпиризма. Лишь позже я осознал, что люди его земли любят описывать важнейшие вещи так, будто им неведома просвещающая сила упорядоченного рассуждения.
Пока мы жили в аббатстве, руки его были вечно перепачканы книжной пылью, позолотой невысохших миниатюр, желтоватыми зельями из лечебницы Северина. Он как будто мыслил руками, что на мой взгляд пристало скорее механику (меня же учили, что всякий механик — moecus, прелюбодей, изменяющий умственной жизни, с коей чистейшим сочетавался браком). Но руки его, когда он трогал что-то непрочное — свежайшие, еще сырые миниатюры или съеденные временем листы, ломкие, как опресноки, — двигались с необыкновенной ловкостью, и так же он трогает свои орудия. Ибо в дорожном мешке он хранил особые предметы, кои звал «чудными орудиями». Орудия, говорил он, родятся от искусства, которое обезьяна натуры и в новых формах воссоздает различные действия природы. Так он объяснил мне чудотворные свойства часов, астролябии и магнита. Однако сперва я боялся, что это нечисто, и прикидывался спящим в ясные ночи, когда он с помощью таинственного треугольника следил за звездами. Прежде я встречал францисканцев в Италии и в моей земле, и это были простые, часто неграмотные люди. Я сказал Вильгельму, что восхищен его образованностью. Он со смехом ответил: «У нас на островах францисканцы из особого теста. Рогир Бэкон, наш чтимый наставник, учил, что в некий день промысел Господен обратится к механизмам, они же суть орудия природной священной магии. Тогда из природных средств создадутся орудия судоходства такие, коих силою корабль пойдет под водительством одного лишь человека, притом пуще нежели ходят под парусом или на веслах. Явятся и повозки “без тварей борзо влекомы нутряным напором такожде махины на воздусех плывущи ими же муж воссед правит дабы крыла рукотворны били бы воздух по образу летучих птах”. И малейшие орудия, способные подъять несметный груз, и колесницы, странствующие по дну морскому».
Я спросил, где же эти орудия, на что он ответил: «В древности они были сделаны, а иные и в наше время, за вычетом воздухоплавательной махины, каковую ни я не видал, ни кто-либо из людей мне встречавшихся. Но знаю ученого мужа, об оной махине помышляющего. Можно выстроить и мост через всю реку без свай и иных опор, и прочие неслыханные сооружения. Ты не тревожься, что доселе их нет. Это не значит, что их и не будет. Я скажу тебе: Господу угодно, чтобы были они, и истинно уже существуют они в Его помысле, хотя мой друг Оккам и отрицает вероятность подобного существования идей. Но отрицает не оттого, что отгадывать помыслы Божии предосудительно, а напротив, оттого, что число отгадок неограниченно». Это было не первое противоречивое высказывание Вильгельма. Даже и ныне я, постарев и умудрившись, все-таки не могу понять, почему он, столь ценя суждения своего друга Оккама, одновременно преклонялся и перед доктринами Бэкона. Хотя следует признать, что в ту неспокойную пору умному человеку приходилось думать, бывало, взаимоисключающие вещи.
Вот, рассказал я о брате Вильгельме — видимо, бестолково. Хотелось в начале повести собрать обрывки разрозненных наблюдений, сделанных по дороге в аббатство. Кто был Вильгельм и чем интересовался, ты, о добрый читатель, лучше выведешь сам из его действий в те дни в монастыре. Не сулил и не сулю тебе исчерпывающей картины. Могу дать лишь перечень фактов, но предивных и престрашных, это несомненно.
Таким-то образом, день ото дня узнавая учителя и провождая бесконечные переходы в длительнейших с ним беседах (их вспомяну при случае), я вдруг обнаружил, что путь наш скончался и впереди высится гора, а на ней то самое аббатство. Ступай же вперед и ты, моя повесть, и да не дрогнет перо, прикасаясь к рассказу обо всем, что случилось затем.
Аббатство
День первый
Первого дня
ЧАС ПЕРВЫЙ,
где описано прибытие к подножию аббатства, причем Вильгельм проявляет величайшую проницательность
Было ясное утро конца ноября. Ночью мело, но не сильно, и слой снега был не толще трех пальцев. Затемно, отстояв хвалитны, мы слушали мессу в долинной деревушке. Потом двинулись в гору навстречу солнцу.
Мы подымались по крутой тропе, огибавшей гору. Вдруг аббатство встало перед нами. Меня поразила не толщина стен — такими стенами огораживались монастыри во всем христианском мире, — а громадность постройки, которая, как я узнал позже, и была Храминой. Восьмиугольное сооружение сбоку выглядело четырехугольником (совершеннейшая из фигур, отображающая стойкость и неприступность Града Божия). Южные грани возвышались над площадью аббатства, а северные росли из склона горы и отважно повисали над бездной. Снизу, с некоторых точек, казалось, будто не постройка, а сама каменная скала громоздится до неба и, не меняя ни материала, ни цвета, переходит в сторожевую башню: произведение гигантов, родственных и земле, и небу. Три пояса окон сообщали тройной ритм ее вертикали, так что, оставаясь на земле физическим квадратом, в небе здание образовывало спиритуальный треугольник. Подойдя ближе, я увидел, что на каждом углу квадратного основания стоит башня-семигранник, из семи сторон которой пять обращены вовне, так что четыре стороны большого восьмигранника превращены в четыре малых семигранника, которые снаружи представляются пятигранниками. Не может быть человек равнодушен к такому множеству священных числ, полных, каждое, тончайшего духовного смысла. Восемь — число совершенства любого квадрата, четыре — число евангелий, пять — число зон неба, семь — число даров Духа Святого. Величиной и планом Храмина походила на виденные мной позднее в южных краях Италии замок Урсино и замок Даль Монте, но была еще неприступнее, и робость охватывала всякого идущего к аббатству путника. Добро еще в то ясное утро у постройки был не такой мрачный вид, как в ненастную погоду.
Однако не скажу, чтоб она выглядела приветливо. Мною овладел страх, и появилось неприятное предчувствие. Бог свидетель, что не от бредней незрелого разума, а оттого, что слишком заметны были дурные знаки, проявившиеся на тех камнях еще в давние времена, когда они были во власти гигантов. Задолго, задолго до того, как упрямые монахи взялись превратить проклятые камни в святое хранилище слова Божия.
Наши мулы вскарабкались на последний уступ взъезда. Отсюда расходились три тропы. Вдруг учитель остановился и осмотрелся, кинув взгляд и на кромку дороги, и на дорогу, и поверх дороги, где несколько вечнозеленых пиний, сойдясь, касались кронами, образуя что-то вроде седого от снега навеса.
«Богатое аббатство, — сказал он. — Аббату нравится хорошо выглядеть на людях».
Я так привык к неожиданности его суждений, что не удивился и ничего не спросил. И некогда было спрашивать: за поворотом послышались крики, и навстречу высыпала возбужденная толпа монахов и челяди. Один, завидев нас, отделился от остальных, свернул с пути и любезно приветствовал:
«Пожалуйте, отец мой, — сказал он, — и не удивляйтесь, что я знаю, кто вы, ибо о вашем приезде известили. Я — Ремигий Варагинский, келарь этого монастыря. Если вы тот самый, кем я вас счел, то есть брат Вильгельм из Баскавиллы, надо доложить настоятелю. Ты, — обратился он к кому-то из свиты, — ступай наверх и объяви, что ожидаемый гость вступает в стены обители!»
«Благодарю, отец келарь, — учтиво ответил учитель, — и тем более тронут, что вижу: ради меня вы прервали погоню. Но не огорчайтесь. Конь действительно поскакал в эту сторону и свернул на правую тропку. Далеко уйти он не должен: добежит до помойки и остановится. С откоса спускаться не будет — слишком умен».
«Вы когда его видели?» — спросил келарь.
«А мы его не видели, верно, Адсон? — Вильгельм повернулся ко мне с лукавой усмешкой. — Но это неважно, так как ваш Гнедок именно там, где я говорю».
Келарь помялся, взглядывая то на Вильгельма, то на тропу, и в конце концов не выдержал: «Откуда вы знаете, как его зовут?»
«Уж знаю, — ответил Вильгельм. — Вы ищете Гнедка, это любимец настоятеля, лучший скакун на конюшне, темной масти, ростом без восьми вершков в сажень, хвост пышный, копыто малое и круглое, однако на скаку ровен. Голова некрупна, уши остры, глаза очень велики. Подался он направо, как я уже сказал, и в любом случае советую поторопиться».
На мгновение келарь застыл в полной растерянности, затем махнул остальным и бросился вниз по правой тропинке, а наши мулы снова затрусили в гору. Я был вне себя от любопытства, но Вильгельм знаком велел обождать и не задавать вопросов. И впрямь через минуту послышались ликующие вопли и из-за поворота вывалились монахи и служки, удерживая в поводу жеребца. Они обогнали нас, очумело озираясь, и скрылись в воротах аббатства. Допускаю, грешным делом, что Вильгельм мешкал не случайно, а давая им время рассказать о происшествии. Я ведь видел уже и ранее, что учитель, во всем прочем образец высочайших добродетелей, попускает одному своему пороку — славолюбию, особенно когда показывает проницательность. Зная его тончайший дипломатический ум, я понял также, что он хочет явиться в монастырь уже овеянный славой мудреца.
«А теперь откройте, — не утерпел я, — как вы догадались?»
«Добрейший Адсон, — отвечал учитель, — всю поездку я учу тебя различать следы, по которым читаем в мире, как в огромной книге. Сказал же Алан Лилльский:
всей вселенной нам творенье —
будто бы изображенье,
книга или зеркало, —
и судил о неисчерпаемом обилии символов, коими Господь чрез посредство творений своих глаголет к нам о вечной жизни. Однако вселенная еще красноречивей, чем казалось Алану, и говорит не только о далеких вещах (о них всего туманней), но и о самых близких, и о них — яснее ясного. Даже стыдно повторять все то, что ты сам обязан был увидеть. На развилке, на свежем снегу, были четкие следы копыт, уходившие на левую тропу. Отпечатки правильные, равномерно расположенные, копыто маленькое, круглое. Поскок ровный. А это означает, что лошадь чистокровная и шла спокойно, а не летела сломя голову. Далее. Там, где сросшиеся пинии образуют что-то вроде навеса, было сломано несколько ветвей — именно на высоте пяти футов, как я и сказал келарю. Ты видел ежевичник у развилки? Там конь свернул направо, помахивая своим пышным хвостом, и оставил на шипах несколько длинных черных-пречерных волос… Наконец, не скажешь же ты, что не догадывался про эту помойку. Мы ведь вместе видели на нижнем уступе горы поток нечистот, лившихся из-под восточной башни и пятнавших снег. А от развилки правая тропа может вести только туда».
«Да, — кивнул я. — Но маленькая голова, острые уши, большие глаза…»
«Не знаю, что там на самом деле. Но, безусловно, монахи должны в это верить. Сказано же Исидором Севильским, что лучшего коня “стать такова: невелика глава и плотно шкурою до кости облеплена, кратки и остры уши, очи зело громадны, широки ноздри, шея пряма, грива и хвост густы, подбитые копыта кругловидны”. Если бы жеребец, чей путь я выследил, не был и вправду лучшим на конюшне, как объяснить, что его ищут не только конюхи, но и сам отец келарь? А монах, когда он считает, что конь великолепен и превосходит все природные совершенства, видит в нем только то, что предписано видеть. Особенно если этот монах, — тут он иронически улыбнулся, явно по моему адресу, — если это ученый бенедиктинец».
«Ладно, — сказал я. — Но почему Гнедок?»
«Да ниспошлет Святой Дух в твою башку хоть капельку мозгов, сын мой! — воскликнул учитель. — Ну какое другое имя может носить эта лошадь, если даже сам великий Буридан, готовясь вступить в ректорскую должность в Париже и произнося речь об образцовом коне, не находит более оригинальной клички!»
Вот каков был учитель. Не только читал он великую книгу натуры, но умел угадать и то, что вычитывают другие в книгах культуры, и что они мыслят. Сия способность, как увидим, немало раз ему пригодилась в последующие дни. Что же до Вильгельмова доказательства, то к концу оно показалось мне настолько простым, что вместо стыда за свою недогадливость я ощутил гордость, как некий соучастник расследования, и почти готов был восхищаться собственной смекалкой. Таковы свойства всего истинного, которое, как и все доброе, легко находит путь в душу. И да славится святейшее имя Господа нашего Иисуса Христа ради сего чудесного ниспосланного мне открытия.
Но вернись к брошенной нити, моя повесть, ты, которую этот дряхлый монах задерживает, копаясь в маргиналиях! Лучше расскажи, как подошли мы к главным воротам аббатства, и как Настоятель встречал нас на пороге с двумя послушниками, поднесшими полную воды золотую мису, и как мы спешились, а он вымыл в мисе руки Вильгельму, и обнял, и поцеловал в уста, даруя святым благословением; а келарь в это время принимал меня.
«Я благодарен вам, Аббон, — сказал Вильгельм, — великая радость войти в обитель, осененную вашей властию и прославленную по обе стороны гор. Пилигримом я прихожу, во имя нашего Господа, и как таковой сподобился от вас немалых почестей. Однако в то же время я являюсь и от имени земного повелителя, о чем свидетельствует вручаемая при сем грамота, и от его имени также хотел бы выразить вам благодарность за теплый прием».
Беря письмо с имперскими печатями, аббат отвечал, что так или иначе о визите Вильгельма он был предупрежден членами своего братства (и это доказывало, отметил я с тайной гордостью, что бенедиктинского аббата невозможно застать врасплох). Затем Настоятель велел келарю показать нам отведенные помещения, конюхам — принять наших мулов, а сам удалился, обещав прийти позднее, когда мы отдохнем и восстановим силы, и нас повели на поместительное подворье, где монастырские постройки тянулись по бокам и по середине гладкого луга, устилавшего чашеобразную впадину (альпу), которой оканчивалась вершина горы.
Внутреннее расположение аббатства я еще буду иметь случай описать не однажды и во всех подробностях. Сразу из-под въезда (который, по всему судя, был единственною отдушиной в цельной стене) открывалась обсаженная деревьями дорога, приводившая к ступеням монастырской церкви. Слева от дороги шли овощные гряды, за ними, как мне объяснили потом, ботанический сад, укрывавший от глаз два строения — баню и больницу с травохранилищем, прижимавшиеся почти вплотную к выгибу стены. Еще дальше, по левую руку от церкви, возвышалась Храмина; между нею и церковью я заметил могильные кресты. Северный портал церкви смотрел прямо на южную башню Храмины, и очам новоприбывших путешественников первая появлялась ее западная башня, а рядом, чуть левее, стены Храмины врастали в монастырскую ограду и другие башни повисали над пропастью. Самую далекую, северную, с трудом было видно. Направо от церкви шли другие строения, повернутые к ней спиною и образовывавшие церковный двор: как заведено, почивальни, дом аббата и странноприимный дом, куда нас с Вильгельмом и доставили, проведя через роскошнейший фруктовый сад. Направо от дороги, на дальнем краю лужайки, вдоль южной стены и затем вдоль восточной, загибаясь за церковь, тянулись цепью службы и людские: конюшни, мельницы, маслодавильни, амбары и погреба, а также какое-то жилье, которое, по всей вероятности, должно было оказаться домом послушников. Ровность участка, всхолмленного совсем незначительно, позволяла древним созидателям этого богоугодного места соблюсти любые правила взаимной расстановки построек, лучше чем могли бы требовать от кого бы там ни было Гонорий Августодунский или Вильгельм Дуранский. По наклонению солнечных лучей на этот час дня я рассчитал, что большие въездные ворота, по-видимому, выходят строго на запад, а хор и алтарь — строго на восток. Таким образом, по утрам лучи зари прежде всего обращаются на почивальни и на стойла, пробуждая ото сна людей и животных. Никогда не доводилось мне видеть аббатства краше и соразмернее этого, хотя впоследствии я побывал и в Сан-Галло, и в Клюни, и в Фонтене, и в других, может быть, даже и более обширных, зато хуже устроенных. Особенно же отличалось это аббатство от всех прочих благодаря нависавшей над остальными строениями, ни с чем не сопоставимой громаде Храмины. Никогда не обучался я искусству каменщика, однако сразу понял, что Храмина древнее всех окружающих ее построек и была воздвигнута, надо полагать, ради совершенно иных нужд, а аббатство основалось около нее гораздо позже, но с таким умыслом, чтобы башни Храмины были соотнесены с пределами церкви, вернее наоборот, ибо из всех искусств архитектура отважнее всех стремится воссоздать собою миропорядок, который древние люди именовали kosmos, то есть изукрашенный, он целокупен, как некое громадное животное, поражающее совершенством и согласием во всех членах. И пребуди благословен Создатель, определивший, по свидетельству Августина для каждой вещи число, тяжесть и меру.
Произведения
Критика