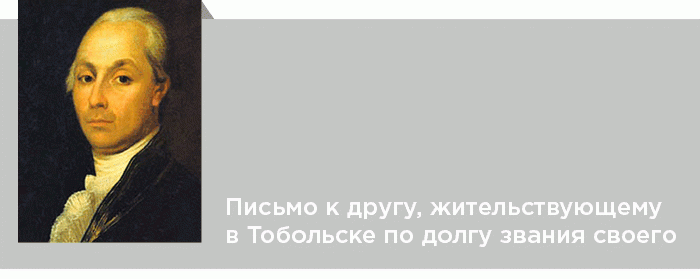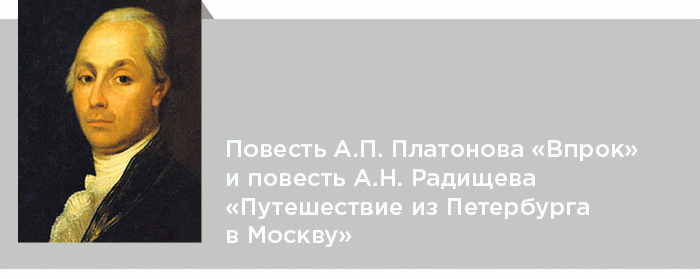Утопическое и реальное в художественном пространстве произведений М. Щербатова и А. Радищева

УДК 1 (09) (47) «17»
А. Ф. Оропай
Утопическое и реальное в художественном пространстве произведений М. Щербатова и А. Радищева
В данной статье автор рассматривает общественно-политические взгляды двух русских мыслителей XVIII в. и показывает, что их утопические построения связаны с реальными пространственными структурами России этой исторической эпохи. Автор приходит к заключению, что в деле конструирования альтернатив для общества особое значение имеют его периферийные зоны.
Ключевые слова: реальное пространство, художественное пространство, центр, периферия, утопия, пророчество, Щербатов, Радищев.
In this article the author examines the socio-political views of the two Russian thinkers of the XVIII century and shows that their utopian constructions are related to actual spatial structures of Russia of that historical epoch. The author concludes that in designing the alternatives to society its peripheral zones are of particular importance.
Key words: real space, artistic space, center, periphery, utopia, prophecy. Scherbatov, Radischev.
Историк и публицист князь Михаил Михайлович Щербатов(1733– 1790) и писатель и философ Александр Николаевич Радищев(1749– 1802) в своих социально-политических воззрениях занимают противоположные позиции. Общее у них – негативно-критическое отношение к реалиям переживаемого времени и стремление к конструированию утопических проектов. А. И. Герцен, издавший наиболее известные произведения этих мыслителей в одном переплёте, дал им следующую характеристику:
«Князь Щербатов и А. Радищев представляют собой два крайних воззрения на Россию времён Екатерины. Печальные часовые у двух разных дверей, они, как Янус, глядят в противуположные стороны. Щербатов, отворачиваясь от распутного дворца сего времени, смотрит в ту дверь, в которую вошёл Петр I, и за нею видит чинную, чванную Русь Московскую – скучный и полудикий быт наших предков кажется недовольному старику каким-то утраченным идеалом. А. Радищев смотрит вперёд, на него пахнуло сильным веянием последних лет XVIII века. Никогда человеческая грудь не была полнее надеждами, как в великую весну девяностых годов, все ждали с бьющимся сердцем чего-то необычайного; святое нетерпение тревожило умы и заставляло самых строгих мыслителей быть мечтателями» [6, с. V–VI].
Слово утопия (в наиболее распространённом переводе с греческого – место, которого нет) имеет множество смыслов. Наиболее известными представляются следующие: а) некая идеализированная в познавательных целях реальность, например, лапласовская «детерминистическая утопия», в которой утверждается однозначная связь проистекающих из прошлого причин и направленных в будущее действий; б) некое оторванное от реальности мечтание, приносящее неисчислимые бедствия при попытке его осуществления; в) общественный суперпроект, который в принципе может и осуществиться («воплощённая утопия» – оксюморон, широко используемый с лёгкой руки Ж. Бодрийара [3, с. 149]). Во втором и третьем вариантах смысл термина, очевидно, связан с образом будущего, причём во втором случае этот смысл явно оценочно-негативный. Во всяком случае, соотношение реального и искусственно сконструированного в утопии не столь однозначно, как это обыкновенно считается.
В нашем случае актуально рассмотрение утопии не только со стороны содержания, но и со стороны литературной формы. В утопии могут выражаться как прогностические, так и пророческие (профетические) образы будущего. При этом, разумеется, указанные образы имеют, помимо прочих, и литературно-художественное выражение. Не случайно утопия создателя самого этого термина, Томаса Мора, при всей её социально-философской насыщенности была художественным произведением. В свою очередь, произведение такого рода предполагает наличие в нём художественных пространства и времени.
Специфика утопии – в особой литературной форме, в которой выражается образ будущего, предполагающий подробную проработку последнего. Именно в таком виде утопия представлена у её литературного «крёстного отца» Т. Мора. У Аристотеля место («топос») неотделимо от предмета. В соответствии с таким пониманием и утопия – не фиктивное пустое пространство, лишённое определённостей, а предметное описание того, чего нет. Поскольку в пространстве утопии нет «пустоты», оно вполне сопоставимо с соответствующими пространственными характеристиками тех реалий, которые специфическим образом порождают потребность в утопиях. Коль скоро Щербатов и Радищев были современниками, эти реалии, по существу, были одни и те же для столь непохожих друг на друга мыслителей.
По утверждению А. И. Герцена, идеалы Радищева «были так же высоко на небе, как идеалы Щербатова – глубоко в могиле» [6, с. VI]. Действительно, М.М. Щербатоволицетворял патриархальноконсервативную реакцию на петровские преобразования. При этом он признавал их необходимость; он предпринял специальное «времяисчислительное» исследование, «во сколько бы лет… могла Россия сама собою, без самовластия Петра, дойти до того состояния, в котором она ныне есть в рассуждении просвещения и славы». И пришёл к выводу: при самых благоприятных обстоятельствах теперешнее состояние могло быть достигнуто около 1892 г. [11, с. 136]. Поэтому Щербатов не может не признать необходимости преобразований. Однако при этом он констатирует нравственный ущерб от реформ, «повреждение нравов в России». Созидание новых государственных порядков сопровождалось нравственной деградацией, которая, по его убеждению, явилась следствием секуляризации духовной жизни. Со своей стороны, моральная деградация населения способствует усилению деспотизма власти, росту фаворитизма и «сластолюбия», что влечет за собой пространственную локализацию дворянства в столице, просчеты во внутренней и внешней политике и в конечном счете расстройство государства и благополучия граждан.
Будучи идеологом дворянства, Щербатов выступал категорически против освобождения крестьян. Рассуждая в духе социологического натурализма Ш.Л. Монтескье, Щербатов утверждал, что холодный климат России порождает в людях сангвинический характер – «наглый и стремительный в предприятиях». Нравственные пороки, «происходящие от самого климата», должны быть удерживаемы крепчайшими преградами. Разоблачая «химеру равенства состояний», Щербатов привлекал даже идею из «Монадологии» Г. Лейбница о неповторимости монад: «а где несть такового подобия, тут нет и равности». Сама мудрая природа поставила дворян «быть правителями и начальниками», что затруднительно осуществить при отсутствии крепостнических порядков: вольных помещик «принужден будет обольщать, чтобы они от него не разошлись» [11, с. 151].
Религиозно-нравственные ценности кладутся Щербатовым в основание общественной жизни. Символы беспредельности и вечности, присутствующие в нравственных ценностях, обретают утопическую пространственную организацию в произведении «Путешествие в землю Офирскую г. С. швецкого дворянина». Указанная земля по своим географическим параметрам, естественно, близка России. И название столичных городов созвучны российским – Квамо (Москва) и Перегаб (Петербург). Главное отличие Офирской земли имеет нравственную природу; её народ, «трудолюбивый и добродетельный, чтит, во-первых, добродетель, потом закон, а после царя и вельмож» [9, с. 38]. Однако идеальная пространственная организация была в прошлом нарушена неверным политическим актом переноса центра власти из Квамо в Перегаб, в город, сооруженный на краю территории и «противу естества вещей». Эта ошибка (затем благополучно исправленная) повлекла за собой серьёзные политические и социальные последствия: власть утратила связь с центральными областями, а высшие сословия – со своими поместьями, т. е. с народом, что приводило к социальной напряженности. Урбанизация как таковая также, по мнению Щербатова, деформирует ткань пространства державы, поощряя социальную мобильность и образуя локусы химерического смешения сословий.
Щербатов в своем стремлении сгладить разрывы социального пространства даже невольно оказался провозвестником идеи печально знаменитых аракчеевских военных поселений. Обыкновенные солдаты, по его убеждению, – «отрезанные люди от государства». Тогда как «поселения полков» в Офире позволяют получить солдат не в виде «настроенных машин», а в качестве сознательных людей, способных биться с врагом «с той твёрдостию, каковую должен иметь гражданин, защищая отечество своё и собственность свою» [9, с. 59].
Критическая составляющая творчества Щербатова явно превосходила его позитивные социально-философские проекты, которые не простирались дальше монархии с московским государем, власть которого ограничена высшим дворянством.
Напротив, русский писатель и философ Александр Николаевич Радищев решительно выступил против самодержавия и крепостничества. В его «Путешествии из Петербурга в Москву» (1790), – политикофилософском трактате, стилизованном под дорожные заметки, – обе столицы фигурируют безо всяких условных наименований. В отличие от Щербатова, Радищев, по словам Герцена, «не стоит Даниилом в приемной Зимнего дворца, он не ограничивает первыми тремя классами свой мир», он погружён в российские реалии, «он едет по большой дороге, он сочувствует страданиям масс, он говорит с ямщиками, дворовыми, рекрутами, и во всяком слове его мы находим с ненавистью к насилью – громкий протест против крепостного состояния» [6, с.VI].
Кульминационный в идейном отношении «проект в будущем», о «совершенном уничтожении рабства» топографически привязан к Хотилову (город в современном Бологовском районе Тверской области), находящемуся примерно на равном удалении от обеих столиц. Этим подчеркивается и несправедливость власти (чем ближе к точке ее локализации, тем меньше правды), и то, что она не всесильна. Знаменитый эпиграф к книге Радищева «чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй» был понятен только тому, кто осилил тяжеловесные гекзаметры «Тилемахиды» В. Тредиаковского. В этой поэме рассказывается о зеркале истины, в которое в загробном мире глядятся властители и видят свой подлинный облик – в виде чудовищ, соединяющих в себе, в переложении Радищева, ядовитость стоглавой Гидры и злобность адского «преужасного пса Кервера» (Цербера).
А.С. Пушкин в своем публицистическом произведении «Путешествие из Москвы в Петербург» (1835), пародирующем (в обратном порядке) некоторые главы «Путешествия» Радищева, иронически замечает:
«Москва! Москва!.. – восклицает Радищев на последней странице своей книги и бросает желчью напитанное перо, как будто мрачные картины его воображения рассеялись при взгляде на золотые маковки Москвы белокаменной» [7, с. 186].
Ирония классика не вполне оправдана (и сама степень её искренности вряд ли может быть установлена): Радищев был чужд религиозной экзальтации, и картины, изображенные им, не были сплошь порождены его воображением (хотя знаменитый «сон» из главы «Спасская Полесть» вошёл в золотой фонд русской литературной утопии).
Радищев – философ-просветитель. В духе концепции общественного договора Ж.-Ж. Руссо он обосновывает противоестественность и противоразумность рабства. Если исключительно «собственное благо» может быть единственным «побуждением вступати в общество» и если «порабощение есть преступление» и «един злодей или неприятель испытует тягость неволи», то на фоне наличия крепостного состояния понятно, «колико отстоим ещё вершины блаженства общественного далеко» [8, с. 162]. «Проект» завершается грозным профетическим предупреждением о грядущем восстании рабов: «Смерть и пожигание нам будет посул за нашу суровость и бесчеловечие. И чем медлительнее и упорнее мы были в разрешении их уз, тем стремительнее они будут во мщении своем»[8, с. 168]. При этом Радищев реалистически оценивает деструктивный характер действий восставших масс, которые «искали паче веселие мщения, нежели пользу сотрясения уз» [8, с. 168].
А.С. Пушкин в статье «Александр Радищев» следующим образом описывает эффект книги, произведенный на императрицу:
«Екатерина была поражена. Несколько дней сряду читала она эти горькие, возмутительные сатиры. "Он мартинист, – говорила она Храповицкому (смотри его заметки), – он хуже Пугачёва, он хвалит Франклина". Слово глубоко замечательное. Монархиня, стремившаяся к соединению воедино всех разнородных частей государства, не могла равнодушно видеть отторжение колоний от владычества Англии» [7, с. 242–243].
Интересно, что в «Путешествии…» имеется косвенное упоминание о Пугачёве как об обольстителе угнетённых, «грубом самозванце» [8, с. 168]. Статс-секретарь Екатерины А.В. Храповицкий в своих заметках, на которые ссылался Пушкин, указывал, что императрица «говорили с жаром и чувствительностью» о том, что Радищев «в конце хвалит Франклина и себя таким же представляет» [7, c. 247] А.И. Герцен, со своей стороны, называет слова Екатерины «чрезвычайно глупыми». Действительно, Бенджамин Франклин (1706–1790), – американский политик, мыслитель и ученый, – был, помимо прочего, ещё и иностранным членом Российской академии наук. Таким образом, фигура эта – вполне легитимная. Единственное упоминание о Франклине в последней главе «Путешествия…» прежде всего связано с его научными достижениями, и лишь вскользь упоминается, что он исторг «скиптр из руки царей»: «Ломоносов умел производить электрическую силу, умел отвращать удары грома, но Франклин в сей науке есть зодчий, а Ломоносов рукодел» [8, с. 239]. И тем не менее в аспекте беспокоящей властный центр дискретности российского пространства фигура Франклина действительно становится знаковой, здесь Пушкин совершенно прав. Сам Искандер в «Былом и думах» отмечал непрозрачность пространства российской жизни, называя власть темным подземельем, «в котором куются судьбы бедного русского народа»:
«Самая власть царская, которая бьет как картечь, не может пробить эти подснежные, болотистые траншеи из топкой грязи. Все меры правительства ослаблены, все желания искажены; оно обмануто, предано, одурачено, продано – и все с видом верноподданнического раболепия и с соблюдением всех канцелярских форм» [4, с. 232].
Как отмечал историк Н.Я. Эйдельман, в конце XVIII в. Россия всё ещё – «страна огромная, медленная (в 30–40 раз медленнее и, стало быть, во столько же раз «больше», чем сегодня)» [12, с. 8]. Вследствие этой огромности город Иркутск присягнул новому императору только в декабре 1796 г., «больше месяца Иркутск жил под властью умершей Екатерины II. Камчатка же присягнёт только в начале 1797-го» [12, с. 8]. В этой связи Франклин, единственный изотцов-основателей, скрепивший своей подписью три основополагающих документа образовавшихся Соединённых Штатов (Декларацию независимости, Конституцию и Версальский мирный договор 1783 г.), знаменует собой идею выхода периферии изпод контроля центра. «Большая империя, – гласит один из афоризмов Франклина, – как и большой пирог, начинает крошиться с краев» [1].
Исследователь идейного наследия классиков марксизма Г.А. Багатурия отмечал в их творчестве своеобразные интуиции (без окончательных формулировок) закона периферийного развития. Суть его заключается в том, что «новая система возникает на периферии существующей» [3, с. 41]. Например, в сфере общественного сознания действие закона выражается, в частности, в том, что революционные идеи возникают на периферии господствующей идеологии. В гносеологической сфере проявление закона выражается в движении познания от периферийных явлений к центральным сущностям. Интуиции такого рода присущи и пророкам. Соответственно, пространственная периферия должна считаться значимым фактором в профетической деятельности. Знаменитая, зафиксированная во всех четырех Евангелиях, мудрость «нет пророка в своем отечестве», очевидно, подчеркивает этот пространственный аспект. Библейские пророки (не присяжные «прорицатели» при правителях), полагающие временной предел центральной «вечной власти», вытесняются в периферийные зоны. С другой стороны, сами эти зоны в известном смысле стимулируют умонастроения о временной ограниченности властного центра.
Немецкий философ Л. Фейербах (1804–1872) отмечал зависимость временных и пространственных границ в собственно философскохудожественном творчестве, выходящем за пределы описания настоящего. По его мнению, существует негласный договор между писателями и читающей публикой относительно того, чтобы писатели сочиняли только то, что угодно публике, получая взамен материальное и моральное поощрение.
«Таким путем желает достопочтенная современность получать от своих философов не что иное, как письменное уверение в совершенной правоте своих взглядов и мнений, а от своих поэтов только такие сочинения, к которым она уже заранее расположена и которые вполне подходят для её теперешнего настроения духа. Писатели, не подписывающие этого контракта, немилосердно высылаются по этапу за границу, как бродяги, которые не могут надлежащим образом удостоверить свою личность» [10, с. 453–454].
Слово «граница» в данном случае не следует понимать в строгом политико-юридическом смысле. В данном случае – это метафора окраины некого властного (идеологического, политического, экономического и т. п.) поля, которая предоставляет определённые социальные и гносеологические возможности для формулирования альтернатив.
При этом нельзя не видеть существенных различий в позициях двух рассмотренных нами мыслителей. Щербатов, по выражению Герцена, – Даниил (т. е. «пророк») при Зимнем дворце; ему как «честному человеку должна была древняя Русь показаться чистой и доблестной в сравнении с этим бесстыдным развратом, с этим переходом Руси допетровской в новую Русь – через публичный дом» [6, c. XI]. Сам этот переход, по его мнению, и порождал ту самую дискретность в пространстве империи, которая была столь успешно преодолена в утопической «империи Офирской». Его утопия имеет основание в золотом веке, идеализированном прошлом времени. Только опрометчивые реформаторские мероприятия, по его мнению, внесли разлад в фактически осуществлённый идеал.
У Радищева, напротив, разрывы и складки пространства центральной власти содержат в себе упования на будущее. Для него, в отличие от Щербатова, это реальное пространство не тождественно идеальному; подлинный образ реального пространства «отражён» в том самом зеркале истины из «Тилемахиды». В незаконченной автобиографической повести, написанной в тюрьме и названной при издании (по начальным словам) «Положив непреоборимую преграду…», он фактически осознанно указал на связь пространственных границ («преград») и напряжения «томящегося воображения» [8, с. 250]. Отверженность личная и социальная накладываются одна на одну. Отсюда такая устремлённость в будущее. Нельзя не согласиться с А.Ф. Замалеевым, который отмечал, что Радищев «внёс в политическое сознание идею повторяемости революций… Это позволило ему легко перейти в XIX и XX век и, кто знает, возможно, он уже говорит с нами из будущего» [5, с. 137].
Список литературы
- Афоризмы: Бенджамин Франклин
- Багатурия Г. А. Социально-политическая концепция Маркса и Энгельса. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2011.
- Бодрийар Ж. Америка. – СПб.: Владимир Даль, 2000.
- Герцен А. И. Былое и думы. – Минск: Нар. асвета, 1971.
- Замалеев А. Ф. Лекции по истории русской философии. – СПб.: Изд-во СПбУ,1995.
- «О повреждении нравов в России» князя М. Щербатова и «Путешествие» А. Радищева с предисловием Искандера. Факсимильное издание. – М.: Наука, 1983.
- Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 10 т. – Л.: Наука, 1978. Т. 7.
- Радищев А. Н. Избранные сочинения. – М.; Л.: Гослитиздат, 1949.
- Русская литературная утопия. – М.: Наука, 1986.
- Фейербах Л. История философии // Собр. произв.: в 3 т. – М.: Мысль, 1978. Т. 1.
- Щербатов М.М. Избранные труды. – М.: РОСПЭН, 2010.
- Эйдельман Н. Я. Грань веков. Политическая борьба в России. Конец XVIII – начало XIX столетия. – М.: Мысль, 1982.