Матео Алеман. Гусман де Альфараче
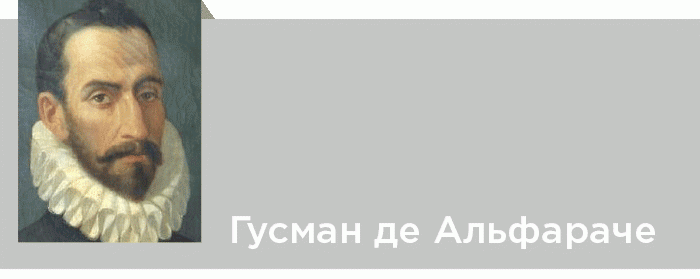
(Отрывок)
КНИГА ПЕРВАЯ
ГЛАВА I,
в которой Гусман де Альфараче рассказывает, кто был его отец
Такое желание охватило меня поведать тебе, любознательный читатель, историю своей жизни и так я спешил ввести тебя в самую ее суть, что хотел было не задерживаться на некоторых предметах, о коих положено говорить вначале, ибо они важны для повествования и доставляют немалое удовольствие читателям. Но потом я спохватился: а не оставлю ли я тем самым некую лазейку, через которую, того и гляди, проберется какой-нибудь буквоед и станет упрекать меня в невежестве, вменяя в вину то, что у меня определяемое оказалось без определения и что, прежде чем рассказывать о своей жизни, я не доложил, кто были мои родители и при каких обстоятельствах я родился? И то сказать, вздумай я описывать жизнь своих родителей, книга, спору нет, получилась бы куда занимательней и больше пришлась бы тебе по вкусу, нежели история собственной моей жизни. Так и быть, скажу о них самое главное, опуская то, о чем мне говорить не подобает: пусть и другие потасуют колоду.
И хотя не гоже человеку подражать гиене, которая кормится, откапывая трупы, я уверен, что и для моих родителей найдутся летописцы, ибо строгих катонов в сем мире предостаточно. Нимало не удивлюсь, если и ты, читатель, осудишь меня за эти немногие строки, решив, что я бросаю тень на своих родителей, и в сердцах обзовешь всякими обидными словами, среди коих «глупец» и «дуралей» будут самыми лестными, — еще бы, ведь я и собственные пороки не мог обуздать, а вздумал обличать чужие. Что и говорить, ты прав; одно лишь замечу: если и сочтешь меня негодяем, прослыть таковым я не старался, ведь как ни дурно предаваться порокам, еще хуже кичиться ими. Решился же я нарушить священную четвертую заповедь о почтении и уважении к отцу-матери лишь для того, чтобы чуть прикрыть свои грехи слабостями родителей. Иное дело, если, как порой бывает, бахвалятся преступлениями предков; это я назвал бы низостью и подлостью, и, по мне, такой человек — дурак из дураков. И впрямь, что может быть глупее: карты свои ты раскрыл, а грехами соседа или родича свои грехи не замажешь, только угодишь в злопыхатели. У меня не так. Ежели я малость и приукрашу свою историю — без чего не обойтись, — люди скажут: «Как родители наши жили, так и нам жить велели», — или что-нибудь другое в том же роде.
Вдобавок жизнь моих родителей настолько была на виду и так известна в подробностях всем и каждому, что, отрицая явное, я совершил бы глупость и, несомненно, дал бы лишь новый повод для сплетен. Я, если угодно, даже оказываю своим родителям немалую услугу, восстанавливая подлинный первоначальный текст и опровергая этим всяческие глоссы, коими сей текст снабдили добрые люди. Ведь стоит кому-нибудь завести речь о грешках моих стариков, как тут же к единице приписывают столько нулей, сколько взбредет в голову клеветнику, увлеченному своим воображением. Есть же такие люди! Дай ему только повод поразглагольствовать, и он даже египетские пирамиды сокрушит в прах, из мухи сделает слона, догадку превратит в очевидность, слухи в действительность, мнение в истину — и все лишь для того, чтобы красноречием щегольнуть и умом похвастать.
Это часто бывает, и так случилось с одним чужеземным кабальеро, которого я знавал в Мадриде. Был он большой охотник до испанских лошадей, и когда решил возвратиться на родину, — а жил он в дальних краях, — то, не имея ни разрешения, ни средств вывезти живых лошадей, задумал взять с собой хотя бы их изображение, чтобы самому любоваться и друзьям показывать. На конюшне у него стояли два отменных жеребца, прекраснейшие во всем Мадриде; вот кабальеро и пригласил двух знаменитых живописцев, дабы те написали каждый по одному коню, и пообещал сверх условленной платы награду тому, кто особенно отличится. Первый живописец с таким совершенством изобразил солового скакуна, что, казалось, коню только души не хватает, а сие уже не во власти художника; конь стоял точно живой и так был похож на настоящего, что иной рассеянный человек, пожалуй, обманулся бы. Кроме коня, на картине ничего не было, только вокруг него живописец нанес светлые и темные пятна, как ему казалось лучше.
Второй художник написал коня серого в яблоках и выполнил свою работу довольно искусно, хотя далеко ему было до товарища. Зато он отличился в другом, в чем весьма был изощрен, а именно: изобразив коня, он расписал верхнюю часть картины волшебными далями, облаками, лучами зари, развалинами и статуями, внизу разместил там и сям рощицы, цветы, луга и скалы, в углу — развешанную на дереве сбрую, а у ног лошади — верховое седло. Все это было так богато изукрашено и отделано, что трудно и вообразить.
Когда кабальеро увидал обе картины, он, понятно, пришел в восторг от первой и присудил награду искусному мастеру, подарив ему сверх договоренной платы дорогой перстень; живописец весьма был рад этому, как и тому, что его картину признали лучшей. Второй живописец, гордившийся своим творением, увидел, с какой щедростью расплатились с первым, и заломил за свою картину неслыханную цену. Кабальеро так и ахнул, услышав названную сумму, которую ему и достать не удалось бы. «Послушай-ка, братец, — сказал он живописцу, — ты бы хоть подумал о том, как дорого стала мне первая картина, а ведь твоя нисколько не лучше!» — «Что до коня, — ответил живописец, — ваша милость правы, но зато в моей картине столько деревьев и всяческих развалин, что они сами по себе стоят не меньше, чем получил мой товарищ».
Кабальеро возразил: «Мне не стать, да и ни к чему, тащить с собой на родину такую кучу деревьев и громоздких строений, — у нас хватает и того и другого, и в моей стране они не менее красивы. К тому же мне нравятся только лошади, и я хочу увезти лишь то, чем не могу любоваться иначе, как на картине».
Тогда живописец сказал: «Если бы на таком большом холсте я написал одного лишь коня, это было бы некрасиво. Чтобы картина имела приятный и нарядный вид, желательно и даже необходимо заполнить ее всякими другими предметами, кои придали бы ей красоту и пышность; вместе с конем вам следует увезти сбрую и седло, а изображены они с таким совершенством, что я их не променяю на сбрую и седло из чистого золота».
Наш кабальеро, заполучив предмет своих желаний и полагая, что сбруя и все прочее, чем была изукрашена — и в своем роде недурно — картина, совсем ему не нужны, рассудил к тому же, что у него и денег-то не хватит. «Я просил тебя, — остроумно ответил он, — нарисовать только коня; сделал ты это хорошо, и я готов за него заплатить, ежели тебе угодно продать его. Что ж до сбруи, оставь ее себе или подари кому-нибудь другому, а мне она не надобна». И живописец остался в дураках, ничего не получив за добавочный труд, к коему побудила его неразумная мысль, что, чем больше предметов нагромоздит он в картине, тем больше ему заплатят.
Так уж повелось на свете и было во все времена: попросишь человека рассказать или сообщить то, что он видел и слышал, или же поведать всю правду и суть какого-нибудь дела, а рассказчик так его распишет и нарядит, что не узнать, словно лицо дурнушки под слоем румян. Каждый норовит внести свои догадки и домыслы, преувеличить, поразить, раззадорить или развлечь, — как подскажут ему страсти. Один, чтобы пришлась впору, растягивает свою историю как на колодке, другой, чтобы была изящней, подпиливает и шлифует ее, убирая по своему вкусу все сучки и задоринки, и, словно пфальцграф, жалует дураку сан мудреца, урода делает красавцем, а труса — храбрецом. Обо всем у них свое мнение, и им сдается, что конь нарисован плохо, коль на нем нет седла, и что история пресна, коль не наперчить ее выдумками.
Уж раз зашла речь о правде, то о моем отце никто слова правды не сказал. Где было на грош, приврали на алтын, где было на алтын, стало на полтину; ведь всякому лестно добавить от себя хоть малость, а из малостей выросла целая гора, где уж до основания не докопаешься, да и нет его, просто одна ложь другую подпирает, и если каждая в отдельности пустяк, то от всех вместе великое поношение. Лживые и коварные языки, подобно острым стрелам и раскаленным угольям, язвят честь моих родителей и испепеляют их доброе имя, отчего родителям и мне приходится всечасно терпеть жестокие обиды.
Кабы в нашей воле было выбирать то, что нам по душе, поверь мне, читатель, уж я бы постарался ухватить из глины нашего праотца Адама самый лучший кусочек и даже в драку полез бы за него. Но, увы, сие невозможно; каждому надлежит довольствоваться своим жребием, ибо тот, кто распределял доли, знал, что делал, да славится имя его! Хоть и есть у меня немало недостатков и изъянов, все же я благородной крови по всем статьям. Кровь переходит по наследству, порок же только прилипает. Кто праведен, тот получит воздаяние, но грехи своих родителей не искупит.
Что до моего отца, то и он, и вся его родня были левантинцами. Некогда они перебрались в Геную, где их причислили к дворянству, и хотя родом они были не оттуда, иначе как генуэзцами я их не могу назвать. Занимались они делом, какое процветает в том городе, а ныне, за грехи наши, стало обычным и в нашем краю: меняли деньги и учитывали векселя по всему свету. За это и поносили моего отца, обзывая лихоимцем. Не раз доводилось ему слышать это слово собственными ушами, но человек он был кроткий и не обижался. А ведь ругатели эти не правы, ибо учет векселей был и есть дело законное. Я вовсе не собираюсь хвалить или, боже упаси, оправдывать дела, которые кой-кому кажутся дозволенными, как-то: ссуды с процентами под залог золотых или серебряных вещей на ограниченный срок, после которого эти вещи пускают с молотка, а также сомнительные делишки с подложными векселями да подставными лицами и всякие прочие мошенничества. У тех, что этим занимается, голос Иакова, а руки Исава; от них на пушечный выстрел разит обманом. Такие плутни приписывали и моему отцу, но я их за ним не примечал и зря говорить не стану.
А что до учета векселей, то само по себе занятие это безвредное, хотя в нем можно вести себя по-разному, — и я не дивлюсь, что это дело многие порицают, пусть и напрасно. Но вот когда люди осуждают и хулят то, в чем нет и тени зла, это мне совсем непонятно. Конечно, если я вижу, что в полночь через окно в подозрительный дом лезет монах со шпагой в руке и щитом у пояса, а мне говорят, будто он идет причащать умирающего, неужто я как олух должен поверить, неужто назову благим делом столь явную скверну? Это ведь и богу не угодно, и церковью не одобряется. Но когда называют лицемером человека, который исправно молится, участвует в благочестивых процессиях, посещает богослужения, часто исповедуется и причащается, — этого я не терплю и за великий грех почитаю.
У отца моего были предлинные четки на полтораста зерен, крупных, как лесные орехи, и он привык молиться с ними. Эти четки подарила ему моя мать, которая унаследовала их от своей матери, и отец никогда из рук их не выпускал. Каждое утро, стоя на коленях, он слушал мессу и, подняв вверх сложенные для молитвы руки, держал на них свою шляпу. Злые языки утверждали, будто он молится в таком положении, чтобы не слышать службы, и держит перед собой шляпу, чтобы не видеть священника. Пусть люди беспристрастные рассудят, сколь несправедливо и дерзостно было это обвинение со стороны бессовестных и злобных клеветников.
Сплетни эти, что греха таить, распускались не без причины. Началось все с того, что один из компаньонов моего отца в Севилье обанкрутился и сбежал, прихватив с собой отцовские деньги. Сумма была изрядная, и отец пустился в погоню, дабы по возможности возместить убыток, а заодно уладить кое-какие дела. Корабль, на котором он плыл, подвергся нападению пиратов, и отца вместе с другими путешественниками захватили в плен и увезли в Алжир. Терзаясь страхом и отчаянием и не надеясь вырваться на свободу и вернуть похищенные компаньоном деньги, отец мой недолго думая стал вероотступником. Вскоре он выгодно женился на богатой мавританке, женщине знатной и прекрасной собой. Раз уж речь зашла о выгоде, — а говоря о ней, я не хочу задевать благородных кабальеро и других почтенных и знатных особ, ибо во всех сословиях бывают разные люди, — скажу кстати о нравах и обычаях родичей моего отца, с коими имел случай познакомиться. Они охотно хлопотали по чужим делам, но не наводили порядка в собственных; любили, чтобы им говорили правду, а сами всех обманывали; требовали, чтобы им платили долги, а сами долгов не платили; много наживали, много и проживали, продавая заложенные у них вещи, — словом, как говорится, чтобы попасть в Рим, на все пойдешь. Компаньон моего отца, полагая, что теперь уже никто с него денег не потребует, пошел на сделку с другими своими кредиторами, выговорил себе льготные условия и сроки платежей, так что и с долгами расквитался, и богачом остался.
Когда отец мой прослышал об этом, ему захотелось поскорее вернуться тайком в Испанию. Он обманул свою мавританку, сказав ей, что надумал заняться торговлей, продал все имущество, превратив его в цехины — берберийские золотые монеты, а затем сбежал, захватив с собой побольше драгоценностей и покинув жену в одиночестве и бедности. Втайне от друзей и недругов он вернулся в лоно истинной церкви и, полный скорби и раскаяния, сам отдал себя в ее власть, умоляя о посильной епитимии; просьбу его уважили, и, выполнив епитимию, он занялся восстановлением своего состояния. Но из-за этой истории, как он ни старался, доверия к нему уже не было. А ежели вы спросите, имелась ли другая причина, вам скажут то, что нагло твердили и мне, кстати и не кстати: кто раз совершил дурное, от того не жди добра. Рассуждение безупречное, но ведь нет правила без исключения. Кто может судить, какими путями нисходит на человека благодать божия и не стал ли он, согрешив и покаявшись, добродетельнее и набожнее, как сказано в одной из «Автентик».
Теперь вы сами видите, без дальнейших объяснений, что за человек был мой родитель. А ежели скажут, что он к тому же раза два-три скрывался с чужими деньгами, ничего тут нет особенного — ведь и его обобрали. Человек не железо и не может быть крепким, как гвоздь, да и гвоздь порой не выдерживает и гнется. Это одна из уловок торговых людей, и применяется она повсюду, особливо в Испании, где стала обычным способом обогащения. У нас этим никого не удивишь: все знают, что так заведено; пусть ловкачи отчитываются перед своими духовниками. Один бог судья в таких делах, а нам бы, чем считать чужие грехи, смотреть бы лучше за собой. Многие на это идут, но никого из них на виселицу не ведут. Будь это преступлением, злодейством или грабежом, их бы карали: ведь из-за каких-нибудь шести реалов, а то и меньше, присуждают к плетям или ссылают на галеры сотни горемык.
Охотно умолчал бы я о своем мнении, чтобы не бесчестить отца, однако, следуя завету философа: «Я Друг Платону, но еще более — истине», — я должен держаться истины. Итак, да простят мне люди, если я назову подобные делишки вопиющим мошенничеством, достойным примерного наказания.
Быть может, кое-кто из коммерсантов скажет мне: «Поглядите на него: наставления нам читает, точно коллегия кардиналов с папой во главе! И кто просит этого остолопа, галерника и плута учреждать законы и судить о делах, в которых он ничего не смыслит». Да, вижу я, что маху дал и что слова мои брошены на ветер. Но я охотно стерпел бы любую брань, лишь бы начали карать и искоренять этот дозволенный вид грабежа, даже если бы честь обновить виселицу выпала на долю моего отца. Пусть же все идет, как идет; новшества и преобразования в подобных важных делах — и других, еще более важных — к добру не ведут, да и не моя тут печаль: ведь все равно что взывать о жалости к волку, пытаться остановить солнце или проповедовать в пустыне.
Но вернусь к тому, чем более всего попрекали моего отца. Когда он угодил в тюрьму из-за всяческих наговоров да пересудов, то будто бы пустил в ход свое богатство, а говорится ведь: «Кто богат, тому писец — кум и алькальд — брат». Потому, дескать, отец мой и сумел освободиться, хотя доносов на него было достаточно для самого сурового наказания.
О друг читатель, да разве по одним наветам можно осудить человека? Думаю, тебе ясно, что все это были бабьи сплетни, враки и поклепы. И раз половину обвинений я сам признал, ты не откажешь мне в праве защитить отца от другой половины. По-моему, превратить судейских писцов в своих кумовьев может всякий, кто мошной тряхнет, ибо иные бесстыжие писцы, как цыгане, воруют у всех на глазах, а законы в их руках что шарики у фокусника — так и перелетают из одной чаши весов в другую. Против этого зла бессильны все: и тяжущиеся, и защитники, и судьи.
А пока у меня не выскочило из головы, послушай, какую проповедь произнес в одну из пятниц великого поста ученый проповедник в мадридской церкви святого Эгидия, обращаясь к сеньорам из верховного суда. Перебрав всех служителей правосудия по порядку, он дошел наконец до писца, которого умышленно оставил на закуску, и сказал:
«Здесь колесница правосудия остановилась, застряла, увязла в грязи выше колес и вряд ли выберется, ежели на помощь не явится ангел божий и не перевернет всю эту лавочку вверх дном.
Признаюсь, сеньоры, что за тридцать с лишним лет я здесь перевидал и выслушал множество исповедовавшихся грешников, кои, впав во грех, вновь и многократно ему предавались, — и все они, по божьему милосердию, исцелились, изменив образ жизни и очистив совесть. Прелюбодея подточило время и дурные женщины; игроку открыл глаза притоносодержатель, который, словно пиявка, каплю за каплей высасывает кровь из своих завсегдатаев, — сегодня ты в выигрыше, завтра в проигрыше, денежки круглые, потому и катятся, да все к его рукам прилипают, а игроки остаются без гроша; вора исправили страх и стыд; у клеветника отнялся язык, — мало кому из них этого миновать; гордеца научила уму-разуму беда, и он познал, что сотворен из праха; лжеца обуздали насмешки и оскорбления, которыми его осыпали все и в глаза и за глаза; богохульника образумили увещевания друзей и близких. Все рано или поздно, хоть и нелегкими путями, прозревают и, подобно змее, сбрасывают старую кожу; у всех этих людей видел я приметы грядущего спасения. Одни писцы остались неисправимы; тут я теряюсь и лишь руками развожу: сегодня они те же, что вчера, и в нынешнем году не лучше, чем тридцать лет назад. Диву даюсь, как они исповедуются, кто им грехи отпускает, — я разумею тех писцов, которые злоупотребляют своей властью. Ведь говорят они и пишут все, что им заблагорассудится; за каких-нибудь два дуката, в угоду другу или подружке, — а до женского пола все они охочи, — лишают людей жизни, чести и имущества, порождая несметное множество грехов. Их снедает алчность неутолимая и голод волчий, а души жжет пламя адово, которое понуждает их хватать направо и налево, глотать, не разжевывая, чужое достояние. А так как барыши у них всегда незаконные и деньги, попав к ним на ладонь, вмиг прирастают к ней, превращаясь в кровь и плоть, то отбросить взятку писцы уже не в силах, разве что потом бросают деньги на мирские утехи и дьявольские соблазны. Посему я полагаю, что ежели кто из них спасется — не все же они таковы, как я только что описал, — и душа его внидет в райскую обитель, ангелы, ликуя, возгласят: «Laetamini in Domino!» Писец на небе? Вот так чудо, вот так чудо!» На этом он закончил свою проповедь.
Но что с того, что писцов отделали на все корки? Они сумеют постоять за себя и оправдаться, — ведь железо и то можно позолотить. Они скажут вам, что их жалованье установлено в незапамятные времена, что пропитание с каждым днем дорожает, а налоги и пошлины растут, что должность писца досталась им недаром, а потому они вправе получать доход с затраченных денег и возмещение за хлопоты.
Видимо, так было во все времена, ибо еще Аристотель сказал, что продажа должностей — величайшее зло для государства. Также и спартанец Алкамен на вопрос, как достичь благоденствия в стране, ответил, что для этого правителю следует пренебречь собственной выгодой. Но если о судье, кому должность даруется безвозмездно в надежде, что он будет судить по-божески — почему судей и именуют земными богами, — если о судье скажут, что он торгует правосудием, оставляя зло безнаказанным, а добро невознагражденным, или что он готов оправдать любого преступника, я буду это отрицать и докажу свою правоту.
Ну кто поверит, что в мире найдется судья столь недостойный, развращенный или бесстыдный, — иначе и не скажешь, — чтобы он нарушил закон и судейский жезл его согнулся под тяжестью золота? Правда, ходят слухи, будто должности эти добываются путями обходными, тайными или попросту бесчестными и будто, усевшись в судейское кресло, судья, дабы возместить свой расход за чужой счет, уподобляется спруту. Все поры, все суставчики его тела превращаются в пасти и когти: когти хватают, а пасти заглатывают все, что ни попадется, — пшеницу, ячмень, вино, оливковое масло, окорока, сукна, полотна, шелка, драгоценности и деньги. Ковры роскошные и пряности восточные, тонкие покрывала и грубые попоны, движимое и недвижимое — все они загребают, и отсечь их алчные щупальцы может лишь коса костлявой, ибо, ступив на стезю порока, люди эти уже навсегда испорчены и берут взятки как законную дань, менее всего заботясь о правосудии. Они покрывают воров, так как те уделяют им львиную долю добычи; купец-толстосум и жалкий разносчик равно покупают их милость, лезут из кожи, забывая страх божий; расплачиваясь деньгами или совестью, всякий обзаводится земным ангелом-хранителем ради неуемных потребностей плоти, отрекаясь от небесного ангела-хранителя, дарованного богом ради насущных потребностей души.
Допускаю, что такое бывает иногда, но из-за этого нельзя подозревать в нечестности всех судей; напротив, низкий, порочный судья, доведенный алчностью до подобного непотребства, встречается на тысячу один, и горшего зла и несчастия нечего ему и желать — кара его в нем самом, ибо все указывают на него пальцами. Люди на него ропщут, ангелы от него отвернулись, все его клянут и тайно и открыто. Но из-за одного нечестивого судьи да не пострадают все остальные, и если кто-то жалуется на неправый суд, вспомним, что тяжба есть спор, где у каждой стороны своя цель, а посему не может того быть, чтобы один приговор удовлетворил обе стороны. Всегда кто-нибудь да останется недоволен, прав он или не прав. Но ты, читатель, заметь себе, что для хождения по судам надобны усердие и сноровка; ежели у тебя их нет, вини одного себя. Не сумев постоять за свое право, не дивись, коль окажешься неправым и судья откажет тебе в законном иске: судьи часто несправедливы к тому, на чьей стороне правда, лишь по той причине, что человек этот не сумел доказать свою правоту, меж тем как противник, худо ли, хорошо ли, отстоял себя; иногда же причина — в небрежности тяжущегося или в том, что у него нет денег и связей, чтобы одолеть влиятельного противника. Потому и неразумно обвинять судей, а тем паче судей в верховных трибуналах, где их много и куда избирают лучших из лучших, так что, ежели одного из них собьет с пути какая-либо страсть, прочие судьи, этой страсти не подверженные, не дадут ему воли.
Вспоминается мне, как один крестьянин из Гранады взялся по поручению общины вести тяжбу против их сеньора; он полагал, что выиграть дело будет не трудней, чем какую-нибудь тяжбу с их алькальдом Педро Креспо, и что ему удастся склонить судей на свою сторону. Придя на Новую площадь, крестьянин стал разглядывать портал Канцелярии — здания в своем роде знаменитейшего во всей Испании и в наши времена не имеющего равных среди других ему подобных — и увидел, что по обеим сторонам королевского герба, венчающего портал, помещены изображения Правосудия и Могущества. Когда же другой крестьянин, его земляк, спросил, чего он тут зазевался и почему не идет в Канцелярию хлопотать о своем деле, он отвечал: «Стою вот и думаю, что эти две персоны поставлены здесь не про нашу честь, и охота мне вернуться восвояси; правосудие в этом доме помещено так высоко, что спуститься вниз ему никак невозможно, да и мне до него не дотянуться».
Поэтому я и говорю: удивляться тут нечему; напротив, было бы чудом, если бы добился справедливости человек, который не умеет и не может защитить свое право. А мой отец не только был не виновен, но и дело повел толково, — вот его и оправдали. Во время следствия он искусно обелил себя и уличил свидетелей в пристрастии, доказав, что их обвинения — пустые догадки и досужие домыслы.
Вот-вот! Я опять слышу голос клеветника, что-де об отце, кроме того, поговаривали, будто он завивался, красился и всякое другое, о чем умолчу; что денег он не жалел, не скупился на подарки и что в судах за него хлопотали женщины. Ох, все это мне как нож острый! Будь ты проклят, злопыхатель! До чего же ты назойлив и несносен! Но на сей раз можешь радоваться — больше я не стану отвечать на твои придирки: чтобы опровергнуть все твои хитросплетения, и вечности не хватит. Итак, я не утверждаю, что ты несешь вздор и что речи твои не подтвердятся, когда обнаружится вся истина. Разумеется, стыд и срам, если в судах царят такие порядки, но что поделаешь! Избави нас бог от судьи-самодура, от писца-недруга и ото всех судейских хапуг.
Но если тебе любо идти на поводу у черни, покоряясь ее суду и голосу, в коих нет ни силы, ни истины, как нет их в ней самой, ты все же подумай: разве сказанного тобой достаточно, чтобы не колеблясь обвинить моего отца? И если, по мнению некоторых врачей, такие порядки надо считать недугом, то кто вправе сказать, что болен был один лишь мой отец? Что ж до обычая завиваться и прочего непотребства, я отнюдь этого не одобряю, равно как и тех людей в Испании, которые терпят подобное бесстыдство; тем паче не похвалю я самих этих бесстыдников.
Скажу тебе, каким я помню своего отца. Лицо у него было белое, румяное, волосы светлые, вьющиеся и большие голубые глаза. Хохолок и косицы на висках так и вились колечками. Если все это природное, от бога, неужто должен был он вымазать себе лицо сажей, чтобы зря пропадало такое добро? Но если, как ты говоришь, он применял притирания и мази, если его зубы и руки, которыми все восхищались, были так белы благодаря всяческим порошкам, снадобьям, пахучему мылу и прочей дряни, — я первый призна́ю, что ты прав, и стану заклятым врагом собственного отца и всех, кто занимается такими делами. Это — женоподобные неженки, все их осуждают и подозревают во всяких низостях, ибо они намазаны и расфуфырены, словно женщины, которые румянами и белилами тщатся восполнить недостаток красоты, нанося ущерб и здоровью и кошельку. Достойно сожаления, что не только дурнушки, но и весьма красивые женщины пользуются такими средствами и, надеясь стать краше, начинают мазаться еще с утра, лежа в постели, а кончают только в полдень, когда стол уже накрыт к обеду. Потому я и скажу: хозяйке румяна да уборы — дому нужда и горе. Но если это предосудительно для женщин, то что же сказать о мужчинах?
О, мерзость неописуемая, о, позор неслыханный! Читатель, ты не сможешь упрекнуть меня в том, что я ослеплен любовью к отцу и обольщен приверженностью к отечеству. Нет, я не погрешу против разума и истины. Но для всякого зла можно найти извинения; и если мой отец и был не без греха, я расскажу тебе к слову об одном удивительном случае, который произошел в те времена. Да принесет мой рассказ тебе пользу, а мне утешение, — на миру и смерть красна.
В тысяча пятьсот двенадцатом году шли в Италии ожесточенные войны. И вот в Равенне, незадолго до того, как ее разграбили, родилось невиданное чудище, коему все изумлялись чрезвычайно. Верхняя половина туловища, начиная от пояса, была у него человечья, так же как голова и лицо, только на лбу торчал рог. Вместо рук были два крыла, как у летучей мыши, на груди — пифагорова буква Υ, а посреди живота — правильный крест. Было это чудище двуполым, с весьма заметными признаками обоих полов, и имело всего одну ногу, которая заканчивалась лапой коршуна с крючковатыми когтями. На коленном суставе сидел один глаз.
Столь необычайное уродство повергло всех в недоумение, и нашлись ученые, которые, рассудив, что подобные чудища всегда являют нам знамение небес, пытались объяснить смысл сего дива. Среди многих толкований самым удачным признано было следующее: рог чудища означает гордыню и честолюбие, крылья — непостоянство и легкомыслие, отсутствие рук — неспособность к добрым делам, лапа хищной птицы — страсть к грабежу, к ростовщичеству и скаредность, глаз на колене — приверженность к суете и мирским утехам, двойственность пола — содомию и скотскую похоть. А надобно сказать, что пороки эти процветали тогда по всей Италии, за что бог и покарал ее, наслав войны и распри. Однако крест и буква Υ, как утверждали толкователи, были приметы благие и утешительные, ибо Υ на груди — символ добродетели, а крест на животе означает, что, коль скоро итальянцы обуздают свои гнусные вожделения и откроют сердца для добродетели, бог дарует им мир и смягчит свой гнев.
Но раз такая перемена не совершилась, думаю, тебе ясно, что среди всего этого безобразия отец мой только не отставал от других. А вот ежели ты, читатель, согрешишь, вина твоя будет куда тяжелей, ибо ты прошел лучшую школу. Да удержит нас господь дланью своей и не даст нам впасть в подобные и иные прегрешения, ибо все мы люди-человеки.
ГЛАВА II,
в которой Гусман де Альфараче продолжает рассказ о своих родителях и повествует о том, как они встретились и как началась их любовь
Возвращаюсь к своему рассказу. Если не ошибаюсь, я уже говорил, что мой отец, исполнив положенную епитимию, приехал в Севилью, чтобы взыскать долг с компаньона. Немало там было всяких споров и разговоров, пришлось кой-кого подмазать и умаслить, и если бы отец не принял необходимых мер, не миновать бы ему тюрьмы; но он сумел очиститься от своей чесотки так основательно, что врагам не удалось найти ни одного пятнышка, ни одного уязвимого местечка. И компаньон и мой отец всячески хитрили и изворачивались: один старался не возвратить долг целиком, другой — не потерять все состояние и урвать с паршивой овцы хоть шерсти клок.
Полученные деньги мой отец пустил в оборот. И снова пошла колода по кругу, да так ловко и удачливо сдавал он и брал взятки, что вскоре зарабатывал уже не только на обед, но и на ужин. Отец обзавелся приличным жильем и, желая обосноваться в этих краях, купил загородный дом с садом в Сан-Хуан-де-Альфараче, излюбленном месте развлечений севильских жителей, всего в полулиге от города, и частенько наезжал туда, особливо летними вечерами, повеселиться и попировать.
Севильские купцы обычно устраивают биржу и заключают торговые сделки в галерее, называемой Градас, которая окружает кафедральный собор наподобие длинной веранды на высоте груди стоящего на мостовой человека; вся она огорожена массивными мраморными колоннами и тяжелыми цепями. И вот однажды, когда отец прохаживался там вместе с другими купцами, в собор проследовала процессия совершить обряд крещения. Люди судачили, что младенец — незаконный сын какого-то важного сеньора. Смешавшись с толпой, отец вошел внутрь собора и пробрался к самой купели, чтобы получше разглядеть мою будущую матушку, — она была крестной в паре с неким престарелым кабальеро в мундире, отставным военным, получавшим большие доходы от пожалованных церковью земель. Моя матушка была женщина статная, благовоспитанная, изящная, молодая, пригожая, разумная и весьма привлекательная. Залюбовавшись ею, отец мой, пораженный столь дивной красотой, простоял до самого конца церемонии. Лицо ее пленяло природными чарами без помощи белил и румян, наряд был изыскан и умело подобран, каждая мелочь на своем месте, — во всем она была так хороша, что и словами не передать и кистью не написать. Что до моего отца, то о его наружности и приятных манерах я уже вам рассказал.
В таких мужчинах, каким был мой отец, женщинам чудится бог весть что: им кажется, что тут они не встретят обычных людских слабостей. Матушка сразу заметила, как пристально на нее смотрят, и немало тому обрадовалась, хотя чувств своих не выдала. Ведь и самой высокопоставленной даме лестно, когда на нее смотрит мужчина, пусть даже низкого звания. Так переговаривались они глазами, не размыкая уст, и в такой беседе открыли друг другу сердца, неспособные в подобных случаях притворяться. Отцу удалось разузнать о красавице лишь то, что она любовница старого кабальеро, который содержит ее в большой строгости. Дама удалилась из собора, а мой отец совсем потерял покой, будучи не в силах забыть о ней ни на миг.
Чтобы снова ее увидеть, он пускался на всевозможные хитрости, но, кроме как в дни больших праздников, в церкви, ему не удавалось с нею встретиться. Капля долбит камень, упорство одолевает все препоны, и кто настойчив, всегда добьется успеха. Мой отец долго думал да гадал и в конце концов нашел ходы к своей милой, прибегнув к помощи некоей почтенной дуэньи в чепце с длинными лентами. Такие особы — служанки сатаны; их руками он подтачивает и сокрушает неприступные твердыни — сердца целомудренных женщин. Ради платья или юбки, ради кулька сластей дуэньи пойдут на любое предательство, совершат любую подлость, высосут из человека кровь, осквернят невинность, запятнают чистоту и не остановятся даже перед самым страшным злодейством. К этой дуэнье и стал мой отец похаживать с записочками, не жалея для нее любезных слов и ценных подарков. Лиха беда начало, а посидит тесто в печи — будут из теста калачи, и отец мой не терял времени даром: он знал, что деньгами устраняются все помехи, и подкреплял слова делами, памятуя, что вера без дел мертва.
Был он человек расторопный и ничуть не скупой; сперва, как я сказал, дуэнью задаривал, а уж для матери моей пошел сорить деньгами вовсю, и обе женщины охотно принимали его подношения. За добро положено воздавать добром, а за подарки благодарностью; дуэнья все обделала наилучшим образом — капля по капле подливала масла, так что слабый огонек вскоре разгорелся буйным пламенем. Легкие шутки порою приводят к важным последствиям. Матушка моя, как ты уже слышал, была женщина благоразумная; ей и хотелось, и страшновато было, она вновь и вновь допытывалась у своего сердца, словно у оракула, как ей поступить, приводя доводы за и против. Она поворачивала товар то лицом, то изнанкой; то принимала решение, то отказывалась от него. Но чего не сделает серебро и кого не совратит золото!
Кабальеро был человек преклонного возраста, вечно кашлял, кряхтел, жаловался на камни в печени и в почках. Матери доводилось видеть его раздетым, когда он лежал рядом в постели, и нравился он ей куда меньше, нежели мой отец, мужчина стройный и пылкий. Долгое сожительство без божьего благословения порождает одну лишь досаду, а новое всегда заманчиво, особенно для женщин; как изначальная материя, которая вечно стремится к новым формам, они от природы переменчивы. Итак, моя мать готова была сменить платье и оставить старика, перескочив через любую преграду, но ее тонкий ум и женский опыт, унаследованный и впитанный с молоком матери, подсказали ей хитроумный выход. Колебания из-за страха потерять нажитое были недолги, а во всем остальном рыбка уже клюнула на приманку. Каждый намек моего отца дьявол твердил ей без конца, и овладеть сей Троей было не так уж трудно.
Моя досточтимая матушка все отлично рассчитала: «От этого меня не убудет, и из дому ничего не пропадет, сколько бы я ни расточала этого добра. Я, словно солнышко, — оно всех освещает, а не убывает. Конечно, благодетелю своему я должна быть признательна; что ж, не стану и с ним скупиться. Будем жечь свечу с обоих концов, уплетать за обе щеки. Судно надежнее стоит на двух якорях — оторвется один, удержит другой. И если весь дом развалится, а голубятня останется, в голубях нехватки не будет». С такими мыслями договорилась она с дуэньей, как и когда осуществить задуманное. Понимая, что дома ей не удастся удовлетворить свое желание, она вместе с дуэньей перебрала всевозможные способы, из коих наилучшим они признали следующий.
Стоял конец мая, самый разгар весны, и селения Хельвес и Сан-Хуан-де-Альфараче, красивейшие во всей округе, радовали взор щедрыми дарами плодородной земли, а также близким соседством славной реки Гвадалквивир, которая орошает и украшает своими водами все эти сады и рощи. Если какое-либо место на свете можно назвать земным раем, такое название по праву принадлежит этому уголку. Здесь пышно разрослись тенистые рощи, луга усыпаны яркими цветами, повсюду вкусные и сочные плоды, серебристые ручейки, зеркальная гладь прудов, восхитительная прохлада и тень, куда солнечным лучам в знойные дни нет доступа.
Сюда-то и надумала поехать моя матушка, чтобы повеселиться в одном из загородных домов, захватив с собой своего полусупруга и кое-кого из челяди. Имение, куда они направлялись, было расположено на окраине Хельвеса, чуть подальше усадьбы моего отца, так что путь лежал мимо нее. Подъезжая к дому, матушка, как было задумано и договорено, стала жаловаться на колики в животе. Свой недуг она объясняла вредным действием утреннего холода и от сильных болей едва не свалилась с седла. Пришлось бедняжке сойти со своего ослика, и она принялась так громко вопить, так корчиться и извиваться, хвататься за живот, заламывать руки, запрокидывать, будто в обмороке, голову, расстегивать себе корсаж, что все ей поверили и преисполнились жалости и участия.
Начали собираться прохожие, и каждый советовал свое средство. Но от советов проку было мало, ибо достать лекарство или изготовить его тут же на месте было невозможно. Возвращаться в город было немыслимо, дальше двигаться трудно, а оставаться посреди дороги уж совсем неудобно. Приступы тем временем все усиливались. Все вокруг пришли в замешательство, и никто не-знал, как быть. Вдруг подошел один человек, нарочно для этого подосланный, и сказал: «Унесите ее с дороги; не помочь в такой беде бесчеловечно. Отведите больную в первый попавшийся дом, вот хотя бы сюда».
Все одобрили предложение и решили просить хозяев дома приютить больную, пока не кончится приступ. Постучались в дверь громко и настойчиво. Ключница, отворившая им, сделала вид, будто ей показалось, что стучит сам хозяин. «Ах, господи Иисусе! — сказала она, выходя на стук. — Простите меня, ваша милость, я была занята и задержалась». Старуха прекрасно знала о сговоре, да была из тех, кто всегда скажет; «Знать не знаю, ведать не ведаю». Ее уже предупредил мой отец и научил, что она должна делать. К тому же и сама она была продувной бестией и держала у себя все, что нужно при таких немочах. Тут, как и в других делах, у богачей есть преимущество перед бедняками: бедный человек, даже самый достойный, должен заискивать и перед плохими слугами, а у богача, пусть самого недостойного, и без того всегда хорошие слуги. Итак, добрая наша старушка отворила дверь и, увидев незнакомых людей, воскликнула с притворным изумлением: «Ахти, вот незадача! Я-то думала, наш хозяин стучит, и у меня прямо душа в пятки ушла, что я так замешкалась. Что прикажете, сеньоры? Не нужно ли вам чего?»
«Почтенная, — ответил кабальеро, — мы просим предоставить нам уголок в вашем доме, чтобы эта сеньора могла немного отдохнуть, ибо в пути с ней случился сильный приступ колик в животе».
Изобразив на лице огорчение, ключница ответила: «Вот несчастье! И надо же беде приключиться с этакой раскрасавицей! Входите, милости просим, здесь все к вашим услугам».
Матушка моя в разговор не вмешивалась, только стонала от боли. С самым радушным видом ключница предложила им расположиться в доме без всякой платы и повела гостей в комнату нижнего этажа, где стояла наготове кровать со свернутыми тюфяками. Старуха проворно их развернула, расстелила, вытащила из сундука чистые простыни тонкого полотна, одеяло, подушки и приготовила для моей матушки удобное ложе.
Можно было, разумеется, заранее прибрать постель, вымыть комнату, окурить ее благовониями, расставить сосуды с душистой водой, приготовить завтрак и все прочее для приема гостей, но нет! Ключница нарочно не вышла им навстречу и держала дверь на запоре. Пока не постучали, она и не думала показываться, чтобы не заподозрили обмана и не раскрыли весь заговор. Охая и стеная, моя мать разделась и улеглась в постель; то и дело просила она подать ей согретые полотенца, и когда их подавали, притворялась, будто прикладывает к животу, а на самом деле потихоньку отодвигала их ниже колен и подальше, потому что тепло было ей неприятно и она боялась, как бы от грелок у нее и впрямь не началась слабость и расстройство желудка.
Уверяя, что от грелок ей заметно полегчало, моя мать сказала, что ее клонит ко сну и она хотела бы вздремнуть. Бедняга кабальеро, которому ее покой был дороже всего на свете, обрадовался и вышел из комнаты, оставив мою мать одну. Он запер дверь снаружи на ключ и отправился прогуляться по саду, наказав соблюдать тишину, не открывать дверь, а добрую нашу старушку попросил караулить и ждать, пока больная не проснется и не позовет.
Отец мой в это время не зевал; спрятавшись за дверью прилегавшего к комнате чулана, он все слышал и даже кое-что видел через замочную скважину. Когда суматоха улеглась, он велел дуэнье и ключнице стоять на страже, чтобы предупредить его условным знаком, если покажется кабальеро, а сам вошел в комнату, жаждая свидеться и побеседовать с гостьей. Тут мигом прекратились все мнимые страсти, зато дали себя знать настоящие. Так провели они два долгих часа, но и в два года не пересказать всего, что тут было.
Меж тем наступил полдень, а с ним жара, и старому кабальеро пришлось возвратиться в дом. Желая узнать, не стало ли лучше больной и смогут ли они продолжать путь или же останутся здесь, он пошел ее проведать. Любовников тотчас об этом известили, и мой отец скрепя сердце снова спрятался в свой чулан.
Когда старый любезник вошел в комнату, моя мать прикинулась, будто спала и проснулась от стука. «Ах, господи! — сказала она, капризно надув губки. — Зачем вы так скоро открыли дверь, не дав мне и отдохнуть». Добряк кабальеро ответил: «Клянусь твоей жизнью, дитя мое, я весьма огорчен, что так получилось, но ведь ты проспала больше двух часов». — «И полчасика не прошло, — возразила моя мать. — Я как будто только что сомкнула глаза и, право, так приятно никогда еще не отдыхала». Эти слова не были ложью, хотя правда служила обману. С повеселевшим лицом матушка похвалила лечебное средство, уверяя, что оно вернуло ей жизнь. Старик был весьма этим утешен, и они вместе порешили устроить пирушку здесь и остаться до вечера, ибо сад моего отца был не хуже того, куда они направлялись. Тотчас приказали слугам доставить съестные припасы и все прочее, благо поместье кабальеро было недалеко.
Пока это обсуждалось, мой отец незаметно выскользнул через другой ход и вернулся в Севилью, где каждый час казался ему тысячелетием, минута — веком и время, проведенное в разлуке с любезной, — адской пыткой.
Часов в пять пополудни, когда солнце уже клонилось к закату, он сел на коня и, как обычно, приехал к себе в усадьбу. Застав здесь чужих людей, отец выказал радость по поводу знакомства с ними и весьма сочувствовал, услышав, какая у них стряслась беда и что именно вынудило их остановиться в его доме. Он был отменно учтив, говорил высокопарно и несколько туманно, предлагал свои услуги с большой скромностью и тактом. Гости не остались перед ним в долгу. Так завязались между ними узы дружбы, вполне прочной в глазах людей, и еще более прочные тайные узы между двумя любовниками, скрепленные взаимной выгодой.
Следует различать доброжелательство, дружбу и любовь. Доброжелательным я могу быть и к человеку, которого никогда не видел, а только слышал о его добродетелях и благородстве либо о других достоинствах, вызвавших у меня такое чувство. Дружбой мы называем отношения, кои завязываем с людьми, встречаясь и беседуя с ними или же сближаясь к взаимной пользе. Вот почему доброжелательство мы можем питать и к людям, от нас далеким, а дружбу — лишь к людям близким. Любовь же — особь статья. Она непременно взаимная, ибо тут две души обмениваются местами и каждая больше пребывает в любимом предмете, нежели в собственном теле. Любовь тем совершенней, чем совершенней ее предмет, и вполне истинна лишь любовь к богу. Посему должны мы превыше всего любить бога, посвящая ему все наше сердце и все силы, ибо так же велика и его любовь к нам. А после бога надлежит любить супруга и ближнего своего. Низменное же, нечистое чувство не может и недостойно именоваться любовью, ибо оно не истинно; всюду, где возникнет любовь, действуют лишь одни ее чары, единственные чары на свете. Любовь равняет сословия, сокрушает твердыни и укрощает свирепых львов. А потому ошибаются те, кто верит в любовные напитки или зелья; от них человек только теряет рассудок, лишается жизни и доброй славы, впадает в недуг и тяжкие грехи. Истинная любовь свободна; полюбив, мы добровольно вверяем себя во власть любимого существа. Но если алькайда силой вынуждают сдать крепость, он ее сдает, а не отдает добровольно, и о том, кто полюбил благодаря нечестным приемам, нельзя сказать, что он любит, ибо его увлекли насильно туда, куда должна вести свободная воля.
Слово за слово, хозяин и гости разговорились, а затем сели за карты. Принялись они втроем играть в примеру. Матушка все была в выигрыше, потому что отец нарочно проигрывал. А когда стало темнеть, игру прекратили и вышли в сад насладиться прохладой. Тем временем были накрыты столы. Господа поужинали, затем спустились к реке, наняли гребцов и, приказав украсить лодку зеленью, уселись в нее и поплыли к Севилье под звуки нежной гармоничной музыки, доносившейся о других лодок. В этих местах, да еще весною, музыка на воде — вещь обычная.
Приехав в город, все разошлись по домам и каждый улегся в свою постель; вот только о матушке я бы этого не сказал с уверенностью, ибо, когда она спала с супругом, у нее было, как у некоей второй Мелисандры, «тело пленное в Сансуэнье, а душа в Париже милом».
С этого дня между нею и моим отцом возникла самая тесная дружба, и оба они, памятуя, сколь много потеряют, если союз их распадется, вели себя с таким благоразумием и ловкостью, на какие способен только изворотливый левантинец генуэзской выучки, который вам подсчитает и укажет в процентах, что выгодней — ломать хлеб руками или резать ножом; под стать ему была и матушка, о достоинствах которой я уже говорил, уроженка Андалусии, прошедшая хорошую школу, а высшее образование получившая в капелле святой девы де ла Антигва между двумя хорами. Матушка и прежде не гнушалась разными делишками, так что, вступая в союз со старым кабальеро, она, как в том клялась мне, внесла свою долю, не утаив ни одной вещицы и ни одной монетки, — более трех тысяч дукатов в золотых и серебряных вещах, не считая мебели и одежды.
Быстро мчится время, и все спешит вслед за ним. Каждый новый день приносит новое, и вотще пытались бы мы задержать быстротекущее — с каждой минутой все меньше минут остается жить, с каждым утром мы стареем и приближаемся к смерти. Как я уже упоминал, добрый кабальеро был человек пожилой и хворый, а матушка — женщина молодая, красивая, с огоньком. Лакомый кусочек дразнил аппетит старика, и невоздержность наконец свела его в могилу. Сперва рези в желудке, потом головные боли да лихорадка, а там, глядишь, перестал есть и пить. Так мало-помалу распутство сгубило старика, он отдал богу душу, и возвратить его к жизни не смогла даже та, кого он называл «жизнью своей». Да, пустые это слова: его-то похоронили, а она осталась жива.
Было в доме старого кабальеро множество племянников, но, кроме меня, ни один не доводился моей матери сыном. Все они, как хлебцы десятинного сбора, были разной выпечки. Наш благодетель, царство ему небесное, мало знал радостей в жизни сей. А когда настал час его кончины, все — и племянники, и моя мать — принялись хватать кто что мог; душа еще не покинула бренное тело, а уж на постели ни одной простыни не осталось. При разграблении Антверпена и то меньше усердствовали — нас подгонял страх перед секвестром. Пока был жив старик, моя мать ведала кухней, распоряжалась бельем, хранила ключи и пользовалась полным доверием хозяина; теперь она позаботилась заранее передать все, что сумела, тому, кому отдала свое сердце. Все ценное в доме было в ее руках, но, почуяв опасность, матушка на всякий случай решила припрятать добро, чтобы не пришлось потом каяться.
Все потрудились так славно, что едва осталось на что похоронить покойника. Несколько дней спустя власти стали доискиваться, куда делось имущество. В церквах и на дверях домов развесили указ об отлучении расхитителей, но на том дело и кончилось, — украденное редко возвращают. Матушку мою все же оправдать можно — покойный кабальеро, земля ему пухом, пересчитывая деньги, перекладывая сундуки или принося что-нибудь в дом, не раз ей говаривал: «Все здесь твое, все для тебя, госпожа моя». А этого, как объяснили законники, было вполне достаточно, чтобы успокоить ее совесть. К тому же она взяла лишь то, что ей причиталось: пусть промысел бесчестен, доходы были честные.
Эта жалкая кончина подтверждает мудрость слышанных мною слов о том, что богачи умирают от голода, бедняки — от объедения, а кто живет церковными доходами и не имеет наследников — от холода. Примером может служить наш кабальеро, ибо еще при жизни ему рубашки на теле не оставили, а саван сшили из милости. Богачи боятся, как бы пища им не повредила, да сами себе вредят: еда им подается унциями, питье — наперстками, они не живут, а прозябают, и чаще умирают от голода, нежели от недугов. А вот бедняков все жалеют, за то, что они бедняки: один им подаяние посылает, другой сам приносит, все готовы им помочь, особенно когда нищета доходит до крайности. Истощенные, оголодалые, набрасываются они на все без разбору, ибо удержать их некому, и так объедаются, что природного жара не хватает на то, чтобы переварить обильную пищу, которая гасит и этот слабый жар; вот почему они погибают от объедения.
То же видим мы и в больницах, куда ходят благочестивые сердобольные дурехи, приносят в карманах и рукавах всякую снедь больным, а вслед за хозяйками и служанки тащат полные корзины гостинцев. Полагая, что подают милостыню, эти святоши, из любви к богу, только губят бедняков. По-моему, обычай этот следовало бы отменить. Пусть подаяние вручают больничному служителю, а он уже по усмотрению лекаря все распределит, как должно, и каждый кусок попадет на свое место, а то от этих подаяний только зло и пагуба. Кто занимается благотворительностью, не думая, на пользу она или во вред, не считаясь ни с болезнью, ни с состоянием больного, — закармливает несчастных, будто каплунов, и попросту убивает их. Отсюда ясно, что всякую снедь следует передавать служителям, дабы те разумно ее распределили, либо подавать деньгами, которые пойдут на более неотложные нужды.
Критика













